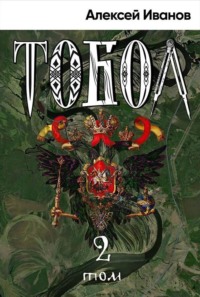
Тобол. Том 2. Мало избранных
– Я хранить бог, – распрямляясь, сообщила Айкони. – Ике-Нуми-Хаум. Я живу на Ен-Пугол. Ты не знать. Вогулы знать и бояться.
Григорий Ильич не мог сообразить, что ответить. Он сказал то, во что уже не верил; он просто повторил своё приглашение, потому что эти слова ещё цепляли его за привычный порядок вещей:
– Приймэш хрэщення, кохана моя? Зараз найкращий час.
Айкони тяготил этот высокий и печальный мужчина с вислыми усами, синей щетиной и серьгой в ухе. Она не забыла, что сама сломала ему судьбу, но не испытывала жалости. Пусть просит освобождения у своего бога.
– Ты любить меня?
– Да, – послушно кивнул Новицкий.
– Тогда тебе взять меня, – предложила она. После князя у неё не было мужчины. Этот русский порадует её ненадолго и, быть может, отпустит её, утолив свою печаль. – Плыть на лодке, лес, ты и я. Бери, я тебе. Ты хороший.
Новицкий задохнулся. Он не мог. Он не для этого искал её.
– То нэ гоже, – хрипло сказал он. – Цэ нэправэдно.
Айкони шагнула к нему поближе, и он отступил. Этот русский не понимает, как надо жить. Он только богу молиться хочет.
– Я – сила, огонь! – веско и внушительно произнесла Айкони. – Я убить! Я сама! Я волк, не собака! Твой крест – мне верёвка. Ты бояться мне.
– Я не боюся тэбэ, – бессильно прошептал Новицкий.
– Лезь в лодку, – властно указала Айкони. Она переняла эту властность у Нахрача, а Нахрач умел держать свою жизнь. – Ты и я. Я тебе. Лезь.
– Цэ грэх.
Айкони стало мучительно скучно с этим несчастным человеком: будто ловила тайменя, а поймала мелкую плотвичку. Она повернулась к калданке, столкнула её на воду и, подхватив весло, перескочила через борт.
– Тогда не ищи! – велела она.
Точным толчком весла она развернула калданку носом от берега.
Новицкий не сомневался, что скоро он снова встретит Айкони. Если она сторожит идола, которого Нахрач обещал отдать владыке на сожжение, значит, она будет у назначенного костра. Надо просто дождаться, и Григорий Ильич приготовился ждать. Так верный пёс, изгнанный хозяином с подворья, никуда не уходит и терпеливо сидит у ворот.
Нахрач сдержал слово. Через день вечером к владыке пришёл Пуркоп.
– Нахрач привёз Ике, – сказал он. – Ике будет гореть. Иди туда.
Нахрач решил казнить Ике-Нуми-Хаума за околицей рогатой деревни на опушке ельника. За чёрными, изодранными вершинами елей мрачно тускнела дымно-красная полоса заката. Ползучие сумерки наполнились беспокойными тенями, словно нелюдимые духи тайги тоже бесплотно явились посмотреть на жертвенный костёр. На Конде тревожно кричали какие-то птицы.
Вогулы расступились, пропуская владыку и русских. Длинное и толстое бревно идола вытянулось на крепких козлах, обложенное нарубленными сухими дровами, хворостом и лапником. Идол яростно вперился глазами-гвоздями в угасающее небо и раззявил пасть, словно гневно кричал богам перед гибелью. Владыка рассматривал Ике-Нуми-Хаума с отчуждённым интересом – так рассматривают огромную убитую змею. Неужели вот это грубое деревянное чудовище могло владеть людскими душами?
К владыке, расталкивая вогулов плечами, приблизился Нахрач.
– Ике-Нуми-Хаум готов умереть, – сказал он. – Ты рад, русский старик?
– Это он? – негромко спросил Филофей у Пантилы.
– Я видел Палтыш-болвана, когда сам был таким, – Пантила указал на вогульского мальчика в толпе.
Пантила тоже разглядывал идола, но со страхом и недоумением. Корявый лик истукана, вырубленный топором, не мог сравниться с тонкими и тёплыми ликами икон, прописанными трепетной кистью. Разве можно изобразить бога топором? Топор – торопливое орудие дьявола, когда надо просто поскорее выпустить зло на волю, не заботясь о его облике.
– Вот железная рубаха, которую носил Ике, – Нахрач бросил под ноги Филофея ржавый ком старой кольчуги. – Ике возвращает её тебе.
Филофей наклонился и поднял кольчугу. Она оказалась неожиданно тяжёлой, словно впитала в себя величие своего хозяина – Ермака.
– Возьми, Кирьян, – Филофей протянул кольчугу десятнику Кирьяну Кондаурову. – Увезём в Тобольск. Для нас эта вещь драгоценная.
– Дать тебе огонь, чтобы зажечь Ике? – усмехаясь, спросил Нахрач.
– Зажигай сам, князь.
Новицкий молча озирался, разыскивая Айкони, но не находил её.
Пламя вспыхнуло в нескольких местах и почти сразу охватило длинное тело идола с двух сторон. Казалось, что Ике упал в огненную траву. Вогулы, взволнованно переговариваясь, попятились от жара огромного костра. Сухие дрова трещали и стреляли искрами. От дуновения ночного ветра с Конды языки пламени качались и гнулись, словно пеленали идола, как младенца.
Филофей вдруг понял, что происходит что-то не то. У костра не было князя Сатыги – он отправился домой в Балчары, точно низвержение божества было делом обыденным, недостойным внимания. А вогулы вовсе не были напуганы или сокрушены истреблением своей святыни. Они с любопытством поглядывали на владыку: чувства русского шамана почему-то были им важнее, чем гибель почитаемого истукана. Нахрач, щурясь, следил, чтобы огонь нигде не ослабевал, ходил в толпе и распоряжался, куда ещё подсунуть дров. Вогулы подчинялись ему по-прежнему; они тащили поленья, и никто не противился воле князя-шамана. Костёр не умалил власти Нахрача.
Новицкий наконец увидел Айкони. Она сидела на земле, освещённая пламенем, как некогда в мастерской Ремезова сидела с рукоделием возле печки. Лицо её было безмятежным. Рядом на корточки опустился Пантила.
– Здравствуй, Айкони, – сказал он.
– Здравствуй, Пантила, – ответила она, не поворачивая головы.
– Ты теперь шаманка Нахрача?
– Меня все прогнали. Я живу на Ен-Пуголе.
– Теперь уйдёшь, как идола сожгли?
Айкони промолчала, тихо улыбаясь огню.
Новицкий подался ближе к Филофею, чтобы никто его не услышал.
– Цэ Аконя, бэрэгыня сэго выстукана, – угрюмо сказал он. – Вона же повынна сумуваты, плакаты… А вона спокийна, яко нэмаэ скорботи.
– И что это значит, Гриша? – помедлив, спросил Филофей.
– Чую, цэ не той выдол. Мы порожнэ брэвно жжэм.
– Я тоже о том догадался, – тихо произнёс Филофей.
Для Григория Ильича это означало только одно: если идол уцелел, значит, он снова увидит Айкони. И пусть Нахрач обманет хоть тысячу раз.
Владыке показалось, что в тесном пламени костра идол вдруг немного повернул на него большое чёрное рыло и ухмыльнулся обугленным ртом.
Филофей перекрестился, отступил и потихоньку выбрался из толпы. Вогулы уже не заметили его ухода. Владыку укрыла темнота. Что ж, сатана его провёл. Не в первый раз – и жаль, что не в последний. Значит, надо ломать Нахрача и дальше. Непростой оказался язычник. Дерзкий и коварный. Досадно только то, что все вогулы полюбовались, как русский священник стоит облапошенный и ничего не понимает. Филофей неторопливо перешёл луговину выпаса, мокрую от вечерней росы, и пошагал по кривым проулкам Ваентура к дому Нахрача, над которым тихо шумел высокий кедр. Рогатая деревня дремала в полночи без единого огонька в окнах-щелях. В избах вогулов не было икон – не было и тёплого мерцания неугасимых лампад.
Владыка снял жердину, закрывающую проход во двор, и увидел, что на брёвнышке возле балагана сидит какой-то человек.
– Кто пожаловал? – спросил Филофей, подходя к балагану.
– Я, – прозвучал знакомый голос.
Филофей застыл на месте.
– Отче Иоанн? – изумился он. – Да как же ты очутился здесь?..
– А я не здесь, – ответил Иоанн.
Филофей вглядывался в митрополита, словно сотканного из невесомого пепельного света. Он был в простой монашеской рясе и клобуке с намёткой, на плечах – омофор, на груди – наперсный крест и панагия. Филофей понял, что в этом облачении Иоанн лежит в гробу где-то далеко в Тобольске.
– Ты умер, отче?
– Возвращайся в Тобольск, брате, – сказал Иоанн. – Хочу проститься с тобой молитвенно. Не скоро свидимся.
– Владыка, владыка! – раздалось на улице.
Филофей обернулся на ворота. Во двор торопливо входил Пантила, за ним спешили служилые и казаки.
– Не дело тебе, отче, одному тут бродить! – сердито проворчал Кирьян.
– Нахрач обманул! – Пантила схватил Филофея за рукав. – Истукан не тот! Настоящий идол на капище в болоте! Айкони ему жертву понесла!
Филофей посмотрел на брёвнышко у стены балагана, где только что сидел митрополит Иоанн. Брёвнышко было пустым. Иоанн исчез.
– Я могу выследить Айкони! – всё горячился Пантила. – Я найду, где она прошла! Надо завтра идти на Ен-Пугол, жечь там идола!
Филофей, успокаивая, потрепал Пантилу по плечу.
– Нет, Панфил. С рассветом, брате, выплываем в Тобольск.
– Вогулы посмеялись над нами! – отчаянно крикнул Пантила. – Нахрач скажет, что мы глупцы, а Христос слепой и слабый!
Кедр за домом Нахрача блестел в свете месяца.
– С рассветом – в Тобольск, – негромко повторил Филофей.
– А что стряслось, отче? – с подозрением спросил Кирьян.
– Митрополит Иоанн скончался.
– Откуда известно? – удивился Кирьян.
– Я знаю.
Но Пантила пылал праведным гневом, а смерть кого-то там в Тобольске для него ничего не значила.
– Нельзя уступать вогулам! – потребовал он.
Пантила готов был хоть сейчас мчаться на капище и рубить идола, доказывая Нахрачу, кто сильнее. Филофей понял, что молодой остяк не примет его решения без объяснений – слишком горела душа от обмана.
– Мы уже сделали главное, Панфил, – мягко сказал он. – Мы нашли у Нахрача слабину. Теперь и мне, и тебе, и вогулам ясно, чего боится Нахрач и что́ он прячет. Остуди сердце. В грядущем году и завершим начатое. Или ты сам опасаешься, что через год твоя вера иссякнет?
Пантила, вспыхнув от стыда, отвернулся. Конечно, отче прав. Желание победить немедленно – от неверия в свои силы. Дуют только на сырые дрова. Его, Пантилы, вера – ещё пока сырые дрова, и владыка это увидел.
Короткой летней ночи хватило лишь на то, чтобы вытолкать тяжёлый дощаник с берега на глубокую воду и перенести на судно из балагана грузы и припасы. Над тайгой занялся рассвет. В тальнике чирикала одинокая ранняя горихвостка. За рогатой деревней курилось огромное кострище, и белый пар стелился над плоскостью Конды, неподвижной и гладкой в безветрии.
Служилые привязывали парус на релю, лежащую поперёк дощаника. Кирьян и Кузьма Кузнецов, кряхтя, навешивали на кормовой крюк увесистое рулевое перо. Новицкий, где-то пропадавший всю ночь, потерянно сидел на перевёрнутой вогульской лодке. Пантила умывался на мелководье. Филофей, стоя на коленях, задумчиво разглядывал иконы, разложенные на большом полотенце, брошенном поверх травы. Где-то у вогулов запел петух. От деревни к дощанику, покачивая кривыми плечами, шёл горбатый Нахрач.
– Ты покидаешь нас, старик? – спросил он у владыки. – Ты не будешь благодарить нас за то, что мы сожгли Ике-Нуми-Хаума?
– Вы сделали это для себя, а не для меня.
Нахрач недовольно поморщился. Всё получилось так, как он хотел, – и в то же время не так. Чего-то не хватало. Бегство русских смущало Нахрача.
– И ты не будешь надевать на нас кресты, как на Сатыгу?
– Не стану торопиться, – Филофей бережно складывал иконы в стопку. – Я снова приеду к вам будущим летом.
Филофей завернул иконы в полотенце и с трудом поднялся на ноги, держа свёрток с иконами перед собой.
– Ты недоволен нами, старик? – испытующе спросил Нахрач.
– Я доволен вами и благодарю тебя, князь Нахрач Евплоев, – Филофей смиренно поклонился вогулу. – Вы сделали шаг к богу, и это правильно. Я хочу оставить вам эти иконы, – Филофей протянул Нахрачу свёрток.
Нахрач не спешил принять подарок.
– Я не знаю, что с ними делать.
– Просто раздай людям, и пусть держат их в своих домах, как дорогие вещи. Привыкайте к ним. А потом я всему научу.
Нахрач нехотя взял подарок владыки и сунул подмышку. Его тревожили подозрения: неужели старик догадался, что идол ненастоящий? Догадался, обиделся на вогулов и уходит домой, не прощаясь?.. Тогда не получится восторжествовать над ним на глазах у всего Ваентура… Или старик очень умный и отпустил судьбу бежать по тому следу, который чует только она одна? Но как старик мог догадаться? Ему подсказал его бог?
– Я хочу сказать тебе, старик, что верю в твоего бога, – честно сказал Нахрач. Он и не сомневался в том, что русский бог существует. – Твой бог очень сильный. Я вижу это по тебе, – Нахрачу приятно было признать могущество соперника: победа над слабым не приносит удовлетворения. – Поговорим о твоём боге, когда ты снова приедешь к нам.
– Поговорим, – согласился Филофей.
Глава 7
Возле худука
И далеко он, Трёхглавый мар?
– Ещё в трёх днях.
– Может, за два дня дойдём? Мы же налегке.
Они и вправду были налегке, без больших припасов для долгой дороги: четверо конных и четверо – на двух телегах. Из телег высовывались рукояти лопат, лестница и длинные кованые стволы допотопных крестьянских фузей, а всадники, и Леонтий тоже, были вооружены мушкетами покороче, чтобы стрелять с седла, и пистолетами. Над овчинными шапками торчали пики.
– Как хотят, по степи не ходят, Левонтий, – щурясь против низкого утреннего солнца, снисходительно пояснил Савелий Голята. – Ходят от худука до худука. Пройдёшь трёхдневный путь за два дня – будешь всю ночь облизываться всухую между двумя худуками.
– Сам-то ладно, ежели дурак, – добавил Макарка, – а коням пить надо.
Леонтий знал, что худуками называют степные колодцы. Их выкопали ещё в незапамятные времена, может, каракалпаки, может, казахи, а может, и монголы Чингисхана, когда в Тургайской степи воцарился Джучи.
– Везде свои премудрости, – признал Леонтий.
– А ты как думал? – хмыкнул Голята. – Степь – она непростая. Это лишь кажется, что она как доска плоская на все четыре края света. А в ней и горы есть, и леса, и реки кое-где, и овраги, и утёсы, и яры неприступные.
– Даже пещеры есть, – сказал Макарка Демьянов.
– А пещеры-то откуда? – не поверил Леонтий.
– Провалы с каменными стенами. На дне – лужа, в стенах – дырья.
Леонтий помнил отцовские чертежи. Тургайские степи растянулись от Яика до Ишима, а на полудень уходили к пределам Хорезмского моря, сменяясь раскалёнными такырами Турана, где в тростниках рычали красные тигры. Тобол вершиной вторгался в плодородные и дикие просторы Тургая.
– Видишь вон там косяк тарпанов? – Голята указал пальцем.
Степняки считали лошадей, тарпанов или сайгаков косяками; в косяке был жеребец, до десятка кобылиц и молодняк; русские поселенцы из степных слобод переняли такой счёт у джунгар и казахов.
– Не вижу косяка, – морщась от солнца, сказал Леонтий.
– В лощинку спустились, нас боятся.
– И лощинки не вижу, Савелий.
– А я вижу. И Макар видит. И все наши видят.
Да, здесь жили не так, как в тайге. Леонтий озирался с высоты седла. Бесконечная холмистая равнина раскатывалась во все стороны, неподвижная, но живая. По склонам скользила прозрачная тень облака, а на солнце жёлто-зелёные июльские травы вдруг бегуче серебрились под порывами ветра. Люди ехали по земле, а им казалось, что они летят – вокруг открывался такой простор, какой видят только птицы. Окоём растворялся в синеватом мареве, и невозможно было понять: то ли там плывут волны каких-то взгорий, то ли двоятся пологие очертания дальних холмов, колеблясь в горячем воздухе.
О том, что придётся отправиться в степь бугровать, Семён Ульянович сообщил Леонтию ещё весной. Они тогда пилили бревно во дворе.
– Слышь, Лёнька, нужда обозначилась, – Семён Ульяныч решительно работал локтем. – Хочу в кузьминки отправить тебя с Тобольска.
– А как же сенокос?
– Как-нибудь сами отмашемся. А ты в степь езжай.
– Куда и почто, батя? – не спорил Леонтий.
– Куда-то на Тургай. Есть два мужика в Царёвом Городище, Савка Голята и Макарка Демьянов, они курган укажут. Бугровать будете. Матвей Петрович сам придумал. Надо царю подарок добыть, чтобы дозволил кремль завершить. А нам не найти подарка лучше могильного золота.
От бревна, лежащего на козлах, с треском отвалился чурбак, и Ремезовы распрямились, переводя дух.
– Зачем же лета ждать? – спросил Леонтий. – С половодья бы и двинулся. Успел бы вернуться, чтобы Петьку в поход проводить.
– За свежей травой степняки кочуют. Уйдёт трава – и они уйдут.
– Что ж, ясно, – кивнул Леонтий. – Как прикажешь, батя.
Губернатор выдал денег, чтобы нанять сотоварищей, коней и телеги. В слободе под Царёвым Городищем Леонтий отыскал Савку Голяту и Макара Демьянова. Голята рассказал, что курган называется Трёхглавым маром, и к нему можно подобраться по старинному караванному пути через худуки. От барабинских татар Голята слышал, что в кургане похоронен Чимбай, сын хана Джучи. Будто бы в могилу его закатили на золотой колеснице.
– Брешут, – уверенно возразил Голяте Леонтий. – У татар в степи под каждой кочкой по Чингисхану лежит.
– За что купил – за то продал, – пожал плечами Савелий.
Худук, около которого был назначен ночлег, выглядел как все худуки в степи: яма-воронка шириной больше сажени, обнесённая глинобитной стеной. На дне чернела вода, в которой плавало разбухшее сено. Ни ворота, ни журавля тут не имелось – из худуков черпали бурдюками или кожаными вёдрами на верёвках. Окаменевшая земля вокруг колодца была изрыта копытами верблюдов и коров. Но куда интереснее худука была большая каменная постройка в сотне шагов от водопоя.
– Это что за храмина? – спросил Леонтий у Савелия.
– Барабинцы говорят – Таш-тирма, каменная юрта. Видишь – крыша на восемь рёбер, как у юрты. Привал, мужики.
– Жусипка Мухитов, наш казак слободской из крещёных степняков, брешет, что это ихняя ханака, – сказал Макар. – Погребалище для хана.
– Караван-сарай это, – заявил один из мужиков.
– Маловат для караван-сарая, – возразил Леонтий.
– Ну, мечеть.
– Мечети при жилье строят.
– Да кой пёс разница? Поганая изба басурманская, и всё.
Леонтий отстегнул седло и сбрую, стреножил лошадь, чтобы паслась сама по себе, и отправился взглянуть на ханаку.
Четырёхугольное здание было сложено из тёсаного камня-плитняка, скреплённого раствором, и сверху его венчал шатёр из мохнатого саманного кирпича, замешанного с соломой и высушенного на солнце. С южной стороны возвышалась толстая стена со стрельчатым входом. Шатёр и стены ощетинились пучками белёсого пырея. Угол гробницы обрушился, открывая тёмное внутреннее пространство, безжизненное, как заброшенная печь. Из кладки шатра высыпалась одна грань, но дырявый шатёр ещё держался. Закатное солнце окрасило две его плоскости в медный цвет. Возле пролома валялись спёкшиеся в глыбы обломки стен, занесённые горячим песком и оплетённые узловатой ползучей вишней с мелкой тёмной листвой.
Леонтий уже видел подобные гробницы у башкир, когда ходил в поход против ополчения батыра Алдара на озеро Кисегач и под Далматову обитель. Башкиры называли эти гробницы «кешэнэ». Башкиры и татары уверяли, что их велел построить сам Тамерлан. Будто бы Железный Хромец разгромил хана Тохтамыша на Волге в сече на речке Кондурче и обратно в Самарканд шёл через Общий Сырт и Башкирию. В дороге умерло шесть его сыновей, раненных в битве, и Тамерлан похоронил их на священном кладбище Акзират близ реки Агидель. До Акзирата Леонтий не добирался, но каменные юрты башкир стояли и в степях между Яиком и Тоболом.
Леонтий вернулся на стан. Он думал, что отцу любопытно было бы увидеть эту ханаку. Можно развести чернила из золы и зарисовать её.
– Нету ли, мужики, клочка бумаги? – спросил он у слобожан.
– Мы не писари, – свысока ответил Макар Демьянов. – А тебе на что?
– Думаю, это ханака Чимбая, – уклонился от объяснений Леонтий. – Ежели он в этих степях погребён, то лежит здесь, а не в Трёхглавом маре.
– Могилы-то в Таш-тирме нету, – рассудительно сказал Савелий.
– Татары и калмыки тут уже все углы обшарили, как у пьяного в карманах, – добавил Макар. – Порожняя башня.
Леонтий решил, что спорить незачем.
Древние степняки хоронили своих покойников в курганах. Или же так, как самого Чингиза: его закопали на пологом склоне горы Бурхан и трижды прогнали по склону табуны, чтобы лошади стёрли с лица земли все следы последнего пристанища хана. Священный склон охраняли урянхайцы, и на нём вырос лес. Монголы не любили оставлять указаний тех мест, где под травами спят их властелины. Только после того, как хан Узбек, правитель Улуса Джучи, принял махометанскую веру, монголы стали возводить над могилами ханаки. Ханаку построили и над погребением Джучи.
Джучи, первенец Чингиза, в глазах отца навеки был в подозрении, ибо мать его Бортэ, возлюбленная жена Чингисхана, вышла к мужу в тягости из меркитского плена, и все советники Потрясателя Вселенной сомневались: Чингиза ли кровь течёт в жилах Джучи? Старшему сыну Чингисхан отдал в улус степную Сибирь и Туркестан. Несколько лет белоснежная шестикрылая юрта Джучи стояла под хвостатыми знамёнами на Иртыше – там, где ныне у джунгар был город Доржинкит. Джучи не захотел идти на Русь войной и рассорился с отцом. Чингиз принялся готовить войско против сына, однако поход не понадобился. На соколиной охоте стрела предателя вонзилась Джучи в спину, и первый чингизид упал с коня в кусты караганника. Его похоронили в степи, что простиралась как раз между Тургаем, Иртышом и Тураном. А через столетие над могилой возвели ханаку, но не такую, как здесь, на окраине Тургая, а куда богаче: из обожжённого кирпича и с дутым круглым куполом, облицованным бирюзовыми изразцами. А Русь для монголов завоевал сын Джучи – беспощадный Батый.
Про ханаку Джучи Семёну Ульянычу рассказывал казак Федька Скибин. Двадцать лет назад воевода Нарышкин отправил Скибина в Туркестан к Тевке-хану с посольством. В те годы джунгары Бушухты-хана перешли реку Чу и прорвались в благодатную Фергану, и казахи искали союза с Россией. Федька Скибин поневоле обошёл всю Азию по кругу: Тобол, Тургай, Туран, Туркестан, Бухара, Хива, Хвалынское море… Из Астрахани он перебрался к калмыкам Аюки-хана, через Общий Сырт попал на Яик, а оттуда – наконец-то к своим в Уфу. Батюшка много дней расспрашивал Федьку, составил несколько больших чертежей. Леонтий тоже слушал тогда истории Скибина. Скибин и поведал о ханаке Джучи, нацарапал пером на листе рисунок.
Тургайская ханака, вот эта Таш-тирма, изрядно напоминала гробницу первого чингизида. Её могли построить только махометане, кто же ещё? Джунгары верили в Барахмана и своих покойников сжигали, бросали в степи на съедение зверям либо отправляли в Тибецкие горы, в Лхасу. В ханаке на Тургае должен был лежать Чимбай, внук Чингиза. Ну и что, что могилы нету? Просто не отыскали её. Но доказывать это мужикам Леонтий не стал. Батюшка – он бы кинулся в склоку, всех бы носом натыкал в их невежество, обозвал бы дурачьём стоеросовым. А Леонтий как-то по-девичьи стеснялся своих познаний, обретённых от батюшки. Кому все такие познания нужны? Разве что книжникам, вроде Семёна Ульяныча. Но не этим мужикам. Не народу. Леонтий почитал отца, как люди почитают святых, здраво понимая, что святость для мира неприменима, с ней не проживёшь, одни терзания.
Огонь мужики разожгли в яме, уже почерневшей от прежних костров. Дров в степи не было, и слобожане везли с собой несколько больших корзин с пластухами сушёного кизяка. Наломав пластуху об колено, Савелий бережливо подкладывал куски кизяка под мятый котелок с пшённой кашей.
– Почему в яме жжёте? – спросил Леонтий, расположившись у костерка среди мужиков. – Для жару?
– Чтобы калмыки издали не заприметили.
Ночная степь не спала. Кое-где стрекотали кобылки, тёплый ветер с еле слышным шёпотом ворошил беспокойные травы, шуршали мыши. Изредка над головами людей в отсвете костра вдруг бесшумно мелькали совы-сипухи.
– Часто они наведываются?
– Да каждый год, – хмуро сказал Савелий.
– Есть у них тайша Онхудай, юргу держит на Дор-жинките, – заговорил один из мужиков. – Возомнил себя князем, нойоном по-ихнему, объявил своими кочевья от Иртыша вдоль Ишима до Тобола. Когда просто косяки ведёт – непременно угодья нам вытопчет. Но особо баранту любит, гадюка.
– Что за баранта?
– Скот угонять. Это у калмыков за доблесть почитается.
– Хуже, когда калмыки войной идут, – Макарка Демьянов растянулся на земле на боку, ожидая ужина, и подпёр скулу кулаком. – Грабят, поджигают, ясырь погромный берут – рабов то есть, и угоняют в Хиву. У меня брата в Ичан-Калу увели. Пропал братишка.
В Хиве, в глиняной твердыне Ичан-Кала, у восточных ворот Кул-дарваз находился самый большой невольничий рынок Туркестана. На пыльных плитах под огромными, расплывшимися книзу башнями сидели сотни рабов, в том числе и русских. Саркоры-покупатели в полосатых бухарских халатах ощупывали плечи и руки людей, лезли толстыми пальцами пленникам во рты, считая зубы, разрывали рубахи и смотрели спины – много ли рубцов от плетей: если рубцов много, значит, пленник непокорный, и цена ему ниже. Гомонила толпа, кричали с минаретов муэдзины, ругались погонщики верблюдов, скрипели арбы, ревели ослы и рычали на людей бродячие собаки. Воняло по́том, мочой и гнилой одеждой; затхлостью несло из рва; смердели головы изловленных беглецов, для устрашения насаженные на шесты.