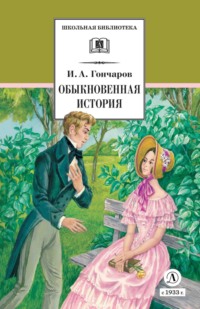
Обыкновенная история

Иван Гончаров
Обыкновенная история
Роман в двух частях
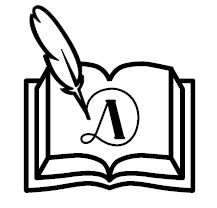
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Иван Александрович Гончаров
1812–1891
Художник И. Каретина
Текст печатается по изданию:
Гончаров И. А. Собр. соч.: в 6 т.
М.: Правда, 1972. Т. 1.
© Каретина И. И., иллюстрации, 2023
© Оформление серии, составление. Издательство «Детская литература», 2023
Иван Александрович Гончаров [1]
Лучше поздно, чем никогда (Критические заметки)
(«Русская речь», 1879, № 6)
Я давно положил перо и не печатал ничего нового. Так думал я и закончить свою литературную деятельность, полагая, что мое время прошло, а вместе с ним «прошли» и мои сочинения, то есть прошла их пора.
Я решился возобновить только издание очерков кругосветного плавания «Фрегат „Паллада“» по причинам, о которых сказано в предисловии к этому изданию. Путешествия в дальние концы мира имеют вообще привилегию держаться долее других книг. Всякое из них оставляет надолго неизгладимый след или колею, как колесо, пока дорога не проторится до того, что все колеи сольются в один общий широкий путь. Кругосветным путешествиям еще далеко до того.
Другое дело – романы и вообще художественные произведения слова. Они живут для своего века и умирают вместе с ним; только произведения великих мастеров переживают свое время и обращаются в исторические памятники.
Прочие, отслужив свою службу в данный момент, поступают в архив и забываются.
Я ожидал этой участи и для своих сочинений, после того как они выдержали – одни два, другие три издания, и не располагал, и теперь не имею в виду, печатать их вновь.
Но в публике, где еще много живых современников моей литературной деятельности, нередко вспоминают и о моих романах, иногда печатно, и очень часто в личных обращениях ко мне.
Одни осведомляются, отчего нет моих сочинений у книгопродавцев? Другие лестно упрекают меня, зачем я не пишу ничего нового, иногда даже предлагают написать о том или о другом предмете, на ту или другую тему, говоря, что от меня будто бы ожидают в публике еще какого-нибудь произведения. Третьи – и таких более всего – обращаются к собственному моему взгляду на то или другое из моих сочинений, требуют пояснений о том, что я разумел под тем, что хотел сказать этим; кого или что имел в виду, изображая такого-то героя или героиню, вымышлены ли эти лица и события, или действительно они были и т. д. Этим вопросам нет конца!
При этом, как это случалось почти со всеми писателями, стараются меня самого подводить под того или другого героя, отыскивая меня то там, то сям или угадывая те или другие личности в героях и героинях. Чаще всего меня видят в Обломове, любезно упрекая за мою авторскую лень и говоря, что я это лицо писал с себя. Иногда же, напротив, затруднялись, куда меня девать в котором-нибудь романе, например в дядю или племянника в «Обыкновенной истории».
Иные откровенно выражают мне и порицание за то, за другое, за третье, указывают слабые места, находят неверности или преувеличения и за все зовут меня к ответу. Еще недавно где-то я видел в печати беглый критический очерк моих сочинений.
А я все думал, что если я уже замолчал в печати сам, то и другие поговорят-поговорят, да и забудут меня с моими сочинениями, и потому на обращаемые ко мне вопросы отвечал, что приходило в голову под влиянием минуты, личности вопрошателя и других случайностей.
Но вопросы, осведомления, требования разъяснений и прочее не только не прекратились, но, напротив, с появлением нового издания «Фрегата „Паллада“» усилились. Поспешаю прибавить, что я не утомляюсь и не скучаю этим, напротив, принимаю как выражения лестного внимания. Меня только иногда затрудняют ответы, которые я должен держать всегда, так сказать, наготове, на обращаемые ко мне вопросы, причем, конечно, неизбежно приходится впадать в постоянные повторения.
Чтобы выйти из этого положения ответчика перед теми или другими читателями за свои сочинения и ходячего критика последних и раз навсегда разъяснить свой собственный взгляд на мои авторские задачи, я решился напечатать давно праздно лежавшую в моем портфеле нижеследующую рукопись.
Этот критический анализ моих книг возник из предисловия, которое я готовил было к отдельному изданию «Обрыва» в 1870 году, но тогда, по сказанным в этом очерке причинам, не напечатал. Потом в 1875 году я опять возвратился к нему, кое-что прибавил и опять отложил в сторону.
Теперь, пробегая его вновь, я нахожу, что он может служить достаточным, с моей стороны, разъяснением и ответом почти на все обращаемые ко мне с разных сторон, и лично и печатно, вопросы, иногда лестные, преувеличенные похвалы, чаще – порицания, недоразумения, упреки, – как относительно общего значения моих авторских задач, так относительно и действующих лиц, подробностей и т. д.
Я отнюдь не выдаю этот анализ своих сочинений за критический непреложный критерий, не навязываю его никому и даже предвижу, что во многом и многие читатели по разным причинам не разделят его. Сообщая его, я только желаю, чтоб они знали, как я смотрю на свои романы сам, и приняли бы его, как мой личный ответ на делаемые мне вопросы, так чтоб затем не оставалось уже о чем спрашивать меня самого.
Ежели читатели найдут этот мой ключ к моим сочинениям – неверным, то они вольны подбирать свой собственный. Если же бы, против моего ожидания, мне понадобилось издать вновь все мои сочинения, то этот же анализ может служить авторским предисловием к ним.
Я опоздал с этим предисловием, скажут мне: но если оно не покажется лишним и теперь – то «лучше поздно, чем никогда» – могу ответить на это.
<…>
Когда я писал «Обыкновенную историю», я, конечно, имел в виду и себя и многих подобных мне учившихся дома или в университете, живших по затишьям, под крылом добрых матерей, и потом – отрывавшихся от неги, от домашнего очага, со слезами, с проводами (как в первых главах «Обыкновенной истории») и являвшихся на главную арену деятельности, в Петербург.
И здесь – в встрече мягкого, избалованного ленью и барством мечтателя-племянника с практическим дядей – выразился намек на мотив, который едва только начал разыгрываться в самом бойком центре – в Петербурге. Мотив этот – слабое мерцание сознания, необходимости труда, настоящего, не рутинного, а живого дела в борьбе с всероссийским застоем.
Это отразилось в моем маленьком зеркале в среднем чиновничьем кругу. Без сомнения то же – в таком же духе, тоне и характере, только в других размерах, разыгрывалось и в других, и в высших и низших, сферах русской жизни.
Представитель этого мотива в обществе был дядя: он достиг значительного положения в службе, он директор, тайный советник, и, кроме того, он сделался и заводчиком. Тогда, от 20-х до 40-х годов – это была смелая новизна, чуть не унижение (я не говорю о заводчиках-барах, у которых заводы и фабрики входили в число родовых имений, были оброчные статьи и которыми они сами не занимались). Тайные советники мало решались на это. Чин не позволял, а звание купца не было лестно.
В борьбе дяди с племянником отразилась и тогдашняя, только что начинавшаяся ломка старых понятий и нравов – сентиментальности, карикатурного преувеличения чувств дружбы и любви, поэзия праздности, семейная и домашняя ложь напускных, в сущности небывалых чувств (например, любви с желтыми цветами старой девы-тетки и т. п.), пустая трата времени на визиты, на ненужное гостеприимство и т. д.
Словом, вся праздная, мечтательная и аффектационная сторона старых нравов с обычными порывами юности – к высокому, великому, изящному, к эффектам, с жаждою высказать это в трескучей прозе, всего более в стихах.
Все это – отживало, уходило; являлись слабые проблески новой зари, чего-то трезвого, делового, нужного.
Первое, то есть старое, исчерпалось в фигуре племянника – и оттого он вышел рельефнее, яснее.
Второе – то есть трезвое сознание необходимости дела, труда, знания – выразилось в дяде, но это сознание только нарождалось, показались первые симптомы, далеко было до полного развития – и понятно, что начало могло выразиться слабо, неполно, только кое-где, в отдельных лицах и маленьких группах, и фигура дяди вышла бледнее фигуры племянника.
Наденька, девушка, предмет любви Адуева, вышла также отражением своего времени. Она уже не безусловно покорная дочь перед волей каких бы ни было родителей. Мать ее слаба перед ней и едва в состоянии сохранять только decorum[2] авторитета матери, хотя и уверяет, что она строга, даром что молчит и что будто Наденька ни шагу без нее не ступит. Неправда, она сама чувствует, что слаба и слепа до того, что допускает отношения дочери и к Адуеву и к графу, не понимая, в чем дело.
Дочь несколькими шагами – впереди матери. Она без спросу полюбила Адуева и почти не скрывает этого от матери или молчит только для приличия, считая за собою право распоряжаться по-своему своим внутренним миром и самим Адуевым, которым, изучив его хорошо, овладела и командует. Это ее послушный раб, нежный, бесхарактерно-добрый, что-то обещающий, но мелко самолюбивый, простой, обыкновенный юноша, каких везде – легион. И она приняла бы его, вышла бы замуж – и все пошло бы обычным ходом.
Но явилась фигура графа, сознательно-умная, ловкая, с блеском. Наденька увидала, что Адуев не выдерживает сравнения с ним ни в уме, ни в характере, ни в воспитании. Наденька в своем быту не приобрела сознания ни о каких идеалах мужского достоинства, силы, и какой силы?
Тогда их и не было, этих идеалов, как не было никакой русской, самостоятельной жизни. Онегины и подобные ему – вот кто были идеалы, то есть франты, львы, презиравшие мелкий труд и не знавшие, что с собой делать!
Ее достало разглядеть только, что молодой Адуев – не сила, что в нем повторяется все, что она видела тысячу раз во всех других юношах, с которыми танцовала, немного кокетничала. Она на минуту прислушалась к его стихам. Писание стихов было тогда дипломом на интеллигенцию. Она ждала, что сила, талант кроются там. Но оказалось, что он только пишет сносные стихи, но о них никто не знает, да еще дуется про себя на графа за то, что этот прост, умен и держит себя с достоинством. Она перешла на сторону последнего: в этом пока и состоял сознательный шаг русской девушки – безмолвная эмансипация, протест против беспомощного для нее авторитета матери.
Но тут и кончилась эта эмансипация. Она сознала, но в действие своего сознания не обратила, остановилась в неведении, так как и самый момент эпохи был моментом неведения. Никто еще не знал, что с собой делать, куда идти, что начать? Онегин и подобные ему «идеалы» только тосковали в бездействии, не имея определенных целей и дела, а Татьяны не ведали.
«Что же из этого будет? – в страхе спрашивает Наденьку Адуев, – граф не женится?»
«Не знаю!» – отвечает она в тоске. И действительно, не знала русская девушка, как поступить сознательно и рационально в том или другом случае. Она чувствовала только смутно, что ей можно и пора протестовать против отдачи ее замуж родителями, и только могла, бессознательно конечно, как Наденька, заявить этот протест, забраковав одного и перейдя чувством к другому.
Тут я и оставил Наденьку. Мне она была больше не нужна как тип, а до нее, как до личности, мне не было дела.
И Белинский однажды заметил это. «Пока ему нужна она, до тех пор он с ней и возится! – сказал он кому-то при мне, – а там и бросит!»
А меня спрашивали многие, что же было с нею дальше? Почем я знаю? Я рисовал не Наденьку, а русскую девушку известного круга той эпохи, в известный момент. Сам я никакой одной Наденьки лично не знал или знал многих.
Мне скажут, что как ее, так и другие фигуры бледны – и типов собою не образуют: очень может быть – об этом я спорить не могу. Я только говорю, что сам под ними разумел.
В начале 40-х годов, когда задумывался и писался этот роман, я еще не мог вполне ясно глядеть в следующий период, который не наступал, но предчувствия которого жили уже во мне, потому что вскоре после напечатания, в 1847 году в «Современнике», «Обыкновенной истории» – у меня уже в уме был готов план Обломова, а в 1848 году (или 1849 году – не помню) я поместил в «Иллюстрированном сборнике» при «Современнике» и «Сон Обломова» – эту увертюру всего романа, следовательно, я переживал про себя в воображении и этот период и благодаря своей чуткости предчувствовал, что следует далее. Теперь могу отвечать, «что сталось с Наденькой».
Смотрите в «Обломове» – Ольга есть превращенная Наденька следующей эпохи. Но до этого дойдем ниже.
Адуев кончил, как большая часть тогда: послушался практической мудрости дяди, принялся работать в службе, писал и в журналах (но уже не стихами) и, пережив эпоху юношеских волнений, достиг положительных благ, как большинство, занял в службе прочное положение и выгодно женился, словом, обделал свои дела. В этом и заключается «Обыкновенная история».
Она – в моих книгах – первая галерея, служащая преддверием к следующим двум галереям или периодам русской жизни, уже тесно связанным между собою, то есть к «Обломову» и «Обрыву», или к «Сну» и к «Пробуждению».
Мне могут заметить, что задолго перед этим намеки на подобные же отношения между лицами, как у меня в «Обломове» и «Обрыве», частию в «Обыкновенной истории», есть у нашего великого поэта Пушкина, например в Татьяне и Онегине, Ольге и Ленском и т. д.
На это я отвечу прежде всего, что от Пушкина и Гоголя в русской литературе теперь еще пока никуда не уйдешь. Школа пушкино-гоголевская продолжается доселе, и все мы, беллетристы, только разработываем завещанный ими материал. Даже Лермонтов, фигура колоссальная, весь, как старший сын в отца, вылился в Пушкина. Он ступал, так сказать, в его следы. Его «Пророк» и «Демон», поэзия Кавказа и Востока и его романы – все это развитие тех образцов поэзии и идеалов, какие дал Пушкин. Я сказал в критическом этюде о Грибоедове, «Мильон терзаний», что Пушкин – отец, родоначальник русского искусства, как Ломоносов – отец науки в России. В Пушкине кроются все семена и зачатки, из которых развились потом все роды и виды искусства во всех наших художниках, как в Аристотеле крылись семена, зародыши и намеки почти на все последовавшие ветви знания и науки. И у Пушкина и у Лермонтова веет один родственный дух, слышится один общий строй лиры, иногда являются будто одни образы, – у Лермонтова, может быть, более мощные и глубокие, но зато менее совершенные и блестящие по форме, чем у Пушкина. Вся разница в моменте времени. Лермонтов ушел дальше временем, вступил в новый период развития мысли, нового движения европейской и русской жизни и опередил Пушкина глубиною мысли, смелостью и новизною идей и полета.
Пушкин, говорю, был наш учитель – и я воспитался, так сказать, его поэзиею. Гоголь на меня повлиял гораздо позже и меньше; я уже писал сам, когда Гоголь еще не закончил своего поприща.
Сам Гоголь объективностью своих образов, конечно, обязан Пушкину же. Без этого образца и предтечи искусства Гоголь не был бы тем Гоголем, каким он есть. Прелесть, строгость и чистота формы – те же. Вся разница в быте, в обстановке и в сфере действия, а творческий дух один, у Гоголя весь перешедший в отрицание.
Поэтому неудивительно, что черты пушкинской, лермонтовской и гоголевской творческой силы доселе входят в нашу плоть и кровь, как плоть и кровь предков переходит к потомкам.
Надо сказать, что у нас, в литературе (да, я думаю, и везде), особенно два главные образа женщин постоянно являются в произведениях слова параллельно, как две противоположности: характер положительный – пушкинская Ольга и идеальный – его же Татьяна. Один – безусловное, пассивное выражение эпохи, тип, отливающийся, как воск, в готовую, господствующую форму. Другой – с инстинктами самосознания, самобытности, самодеятельности. Оттого первый ясен, открыт, понятен сразу (Ольга в «Онегине», Варвара в «Грозе»). Другой, напротив, своеобразен, ищет сам своего выражения и формы и оттого кажется капризным, таинственным, малоуловимым. Есть они у наших учителей и образцов, есть и у Островского в «Грозе» – в другой сфере; они же, смею прибавить, явились и в моем «Обрыве». Это два господствующие характера, на которые в основных чертах, с разными оттенками, более или менее делятся почти все женщины.
Дело не в изобретении новых типов – да коренных общечеловеческих типов и немного, – а в том, как у кого они выразились, как связались с окружающею их жизнью и как последняя на них отразилась.
Пушкинские Татьяна и Ольга как нельзя более отвечали своему моменту. Татьяна, подавленная своей грубой и жалкой средой, также бросилась к Онегину, но не нашла ответа и покорилась своей участи, выйдя за генерала. Ольга вмиг забыла своего поэта и вышла за улана. Авторитет родителей решил их судьбу. Пушкин как великий мастер этими двумя ударами своей кисти, да еще несколькими штрихами, дал нам вечные образцы, по которым мы и учимся бессознательно писать, как живописцы по античным статуям. <…>
Обыкновенная история
Роман в двух частях

Часть первая
I
Однажды летом, в деревне Грачах, у небогатой помещицы Анны Павловны Адуевой, все в доме поднялись с рассветом, начиная с хозяйки до цепной собаки Барбоса.
Только единственный сын Анны Павловны, Алесандр Федорыч, спал, как следует спать двадцатилетнему юноше, богатырским сном; а в доме все суетились и хлопотали. Люди ходили, однако ж, на цыпочках и говорили шепотом, чтоб не разбудить молодого барина. Чуть кто-нибудь стукнет, громко заговорит, сейчас, как раздраженная львица, являлась Анна Павловна и наказывала неосторожного строгим выговором, обидным прозвищем, а иногда, по мере гнева и сил своих, и толчком.
На кухне стряпали в трое рук, как будто на десятерых, хотя все господское семейство только и состояло, что из Анны Павловны да Александра Федорыча. В сарае вытирали и подмазывали повозку. Все были заняты и работали до поту лица. Барбос только ничего не делал, но и тот по-своему принимал участие в общем движении. Когда мимо его проходил лакей, кучер или шмыгала девка, он махал хвостом и тщательно обнюхивал проходящего, а сам глазами, кажется, спрашивал: «Скажут ли мне наконец, что у нас сегодня за суматоха?»
А суматоха была оттого, что Анна Павловна отпускала сына в Петербург на службу, или, как она говорила, людей посмотреть и себя показать. Убийственный для нее день! От этого она такая грустная и расстроенная. Часто, в хлопотах, она откроет рот, чтоб приказать что-нибудь, и вдруг остановится на полуслове, голос ей изменит, она отвернется в сторону и оботрет, если успеет, слезу, а не успеет, так уронит ее в чемодан, в который сама укладывала Сашенькино белье. Слезы давно кипят у ней в сердце; они подступили к горлу, давят грудь и готовы брызнуть в три ручья; но она как будто берегла их на прощанье и изредка тратила по капельке.
Не одна она оплакивала разлуку: сильно горевал тоже камердинер Сашеньки, Евсей. Он отправлялся с барином в Петербург, покидал самый теплый угол в доме, за лежанкой, в комнате Аграфены, первого министра в хозяйстве Анны Павловны и – что всего важнее для Евсея – первой ее ключницы.
За лежанкой только и было места, чтоб поставить два стула и стол, на котором готовился чай, кофе, закуска. Евсей прочно занимал место и за печкой и в сердце Аграфены. На другом стуле заседала она сама.
История об Аграфене и Евсее была уж старая история в доме. О ней, как обо всем на свете, поговорили, позлословили их обоих, а потом, так же как и обо всем, замолчали. Сама барыня привыкла видеть их вместе, и они блаженствовали целые десять лет. Многие ли в итоге годов своей жизни начтут десять счастливых? Зато вот настал и миг утраты! Прощай, теплый угол, прощай, Аграфена Ивановна, прощай, игра в дураки, и кофе, и водка, и наливка – все прощай! Евсей сидел молча и сильно вздыхал. Аграфена, насупясь, суетилась по хозяйству. У ней горе выражалось по-своему. Она в тот день с ожесточением разлила чай и вместо того, чтоб первую чашку крепкого чая подать, по обыкновению, барыне, выплеснула его вон: «никому, дескать, не доставайся», и твердо перенесла выговор. Кофе у ней перекипел, сливки подгорели, чашки валились из рук. Она не поставит подноса на стол, а брякнет; не отворит шкафа и двери, а хлопнет. Но она не плакала, а сердилась на все и на всех. Впрочем, это вообще было главною чертою в ее характере. Она никогда не была довольна; всё не по ней; всегда ворчала, жаловалась. Но в эту роковую для нее минуту характер ее обнаруживался во всем своем пафосе. Пуще всего, кажется, она сердилась на Евсея.
– Аграфена Ивановна!.. – сказал он жалобно и нежно, что не совсем шло к его длинной и плотной фигуре.
– Ну, что ты, разиня, тут расселся? – отвечала она, как будто он в первый раз тут сидел. – Пусти прочь: надо полотенце достать.
– Эх, Аграфена Ивановна!.. – повторил он лениво, вздыхая и поднимаясь со стула и тотчас опять опускаясь, когда она взяла полотенце.
– Только хнычет! Вот пострел навязался! Что это за наказание, Господи! и не отвяжется!
И она со звоном уронила ложку в полоскательную чашку.
– Аграфена! – раздалось вдруг из другой комнаты, – ты, никак, с ума сошла! разве не знаешь, что Сашенька почивает? Подралась, что ли, с своим возлюбленным на прощанье?
– Не пошевелись для тебя, сиди, как мертвая! – прошипела по-змеиному Аграфена, вытирая чашку обеими руками, как будто хотела изломать ее в куски.
– Прощайте, прощайте! – с громаднейшим вздохом сказал Евсей, – последний денек, Аграфена Ивановна!
– И слава Богу! пусть унесут вас черти отсюда: просторнее будет. Да пусти прочь, негде ступить: протянул ноги-то!
Он тронул было ее за плечо – как она ему ответила! Он опять вздохнул, но с места не двигался; да напрасно и двинулся бы: Аграфене этого не хотелось. Евсей знал это и не смущался.
– Кто-то сядет на мое место? – промолвил он, все со вздохом.
– Леший! – отрывисто отвечала она.
– Дай-то Бог! лишь бы не Прошка. А кто-то в дураки с вами станет играть?
– Ну хоть бы и Прошка, так что ж за беда? – со злостью заметила она.
Евсей встал.
– Вы не играйте с Прошкой, ей-богу, не играйте! – сказал он с беспокойством и почти с угрозой.
– А кто мне запретит? ты, что ли, образина этакая?
– Матушка, Аграфена Ивановна! – начал он умоляющим голосом, обняв ее – за талию, сказал бы я, если б у ней был хоть малейший намек на талию.
Она отвечала на объятие локтем в грудь.
– Матушка, Аграфена Ивановна! – повторил он, – будет ли Прошка любить вас так, как я? Поглядите, какой он озорник: ни одной женщине проходу не даст. А я-то! э-эх! Вы у меня что синь-порох в глазу! Если б не барская воля, так… эх!..
Он при этом крякнул и махнул рукой. Аграфена не выдержала: у ней наконец горе обнаружилось в слезах.
– Да отстанешь ли ты от меня, окаянный? – говорила она плача, – что мелешь, дуралей! Свяжусь я с Прошкой! разве не видишь сам, что от него путного слова не добьешься? только и знает, что лезет с ручищами…
– И к вам лез? Ах, мерзавец! А вы небось не скажете! Я бы его…
– Полезь-ка, так узнает! Разве нет в дворне женского пола, кроме меня? С Прошкой свяжусь! вишь, что выдумал! Подле него и сидеть-то тошно – свинья свиньей! Он, того и гляди, норовит ударить человека или сожрать что-нибудь барское из-под рук – и не увидишь.
– Уж если, Аграфена Ивановна, случай такой придет – лукавый ведь силен, – так лучше Гришку посадите тут: по крайности малый смирный, работящий, не зубоскал…
– Вот еще выдумал! – накинулась на него Аграфена, – что ты меня всякому навязываешь, разве я какая-нибудь… Пошел вон отсюда! Много вашего брата, всякому стану вешаться на шею: не таковская! С тобой только, этаким лешим, попутал, видно, лукавый за грехи мои связаться, да и то каюсь… а то выдумал!
– Бог вас награди за вашу добродетель! как камень с плеч! – воскликнул Евсей.
– Обрадовался! – зверски закричала она опять, – есть чему радоваться – радуйся!
И губы у ней побелели от злости. Оба замолчали.
– Аграфена Ивановна! – робко сказал Евсей немного погодя.
– Ну, что еще?
– Я ведь и забыл: у меня нынче с утра во рту маковой росинки не было.