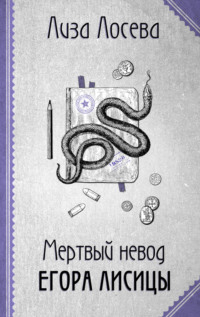
Мертвый невод Егора Лисицы
– Какой змей?
– Такой! Огненный. Собой… вот как багра – наподобие макового цвету. Ты ступай уж, дай нам-то справить все! Не по-божески ты у церквы.
– Так ведь и поделать было нечего. Я уйду, только вы мне еще скажите. Одежда у нее порвана. Есть здесь такое место, где колючего кустарника много?
– Ажина? А може, терн, – она задвигала пальцами, будто растирая невидимую ягоду. – Да фсюду, в ямах, там не пробересся.
– А не знаете, где ткань, в которой ее нашли?
Терпилиха сноровисто при ее грузной комплекции крутанулась, крестясь на угол, поплевала, шепча, я расслышал: «Соль да печина»[20].
– Тряпку эту окаянную с бесовым знаком фельдшериха забра́ла.
Стукнула дверь, потянуло сквозняком с улицы. Вошли еще несколько женщин. Не желая им мешать, я вышел.
* * *У двери я уловил обрывок разговора: говорили явно обо мне. Щепетильность при моей работе лишняя. Я остановился и прислушался:
– …так как же, Аркаша, его называть: гражданин милиционер?
– Товарищ доктор, Анечка. Он врач.
– Удивилась – так молод. И волосы длинные. Эпатажничает?
– Напротив. Довольно прост. Кажется, с ним не будет сложностей: а уж мы опасались, что пришлют человечка позубастее.
В который раз я подумал, что надо бы остричь волосы. А может, наоборот, бороду отпустить? Даст солидности. Погромче хлопнул дверью, вошел. Рогинский представил:
– Анна Сергеевна, жена.
Интересная пара. Женщина некрасива лицом: мелкие, не слишком выразительные черты, ушные раковины чересчур большие, немного оттопыренные. Волосы причесаны так, чтобы скрыть лопоухость, но при этом, несомненно, женственная – высокая блондинка, розовая тонкая кожа светится, великолепную фигуру подчеркивает платье канареечного цвета, кокетливое, удивительное в деревне. Окинула взглядом. Протянула мягкую белую руку, слабо пожала.
– Вас удобно разместили?
– Да, благодарю.
– Так отчего же она умерла? Отравилась?
– Нет, почему вы подумали?
– Так. Просто. Я от этой погоды сама не своя. Мигрень.
– Раз так, Анечка, нужно прилечь. – Фельдшер засуетился.
– Я расспросить хотела…
– Не прямо же сейчас? Тебе отдохнуть нужно. Ступай наверх.
Жена его ушла, на ходу прихватив книгу.
– Анечка такая чувствительная! – сказал фельдшер. – Ну что же мы стоим, пойдемте-пойдемте! Непременно чаю. День-то какой выдался!
Затащил, не слушая возражений, в небольшую комнатку вроде кабинета. Полки, книги, журналы, портреты. Выдвигал стул, хлопотал.
– Мы живем тут же, при больнице. Комнаты в мезонине. Я, Анюта моя да девчонка из села. Помогает.
Достал поднос из латуни, самовар-«эгоист», вытянутый как яйцо, на две чашки, захлопотал.
– А вот и чай. Я признаю только крепкий. Про слабый казаки знаете как говорят? «Через него Москву видать»! – засмеялся, зашелся всем телом.
– Вы здесь оказались по линии земства? – спросил я, решив воспользоваться случаем и расспросить хорошенько, пока никто не мешает, один на один.
– Оказались, да, скорее волей случая. Но я не жалею нисколько! В прошлые-то времена пароходик с заготовленной рыбой успевал за день четыре раза сходить в Ростов! Сапожник свой имелся, был и цирюльник. Мы с Анечкой, как прибыли сюда, прямо удивлялись, до чего в таком отдаленном месте налажена городская жизнь. Вы пейте чай, пейте! Сахара, правда, нет, но есть отличное варенье. Аня варит из вишен, тут кругом много садов. Такие сладкие вишни, что сахара почти не нужно. Ведь сахар – дефицитный товар, нехватка.
Звякнула ложечка.
Варенье было чрезвычайно кислым, и когда фельдшер отвернулся, я опустил ложку в чай. Попросил еще раз рассказать о дне, когда пропала Рудина.
– Да я знаю то же, что и все. – Он наполнил розетку с горкой, потекло по краям. – Девушка приехала с последней машиной. Шофер дожидался у переправы сколько мог – разлив, следующая будет хорошо если через несколько дней. Ждали долго, добирались еще дольше. По дороге колесо у них сверзилось, машина, знаете, перегружена, под завязку. Люди. Товаров набрали – керосин, спички, газеты. Рудина слезла. Сказала, пешком быстрее дойдет.
Рогинский встал, снова заколдовал над самоваром.
– Ушла и ушла, очевидно в Ряженое. Куда же еще? Поломка, дождь, не до нее… Да и местные, конечно, знают тут все тропинки.
Слова фельдшера подтверждала и ее одежда. Пошла короткой дорогой, может, оврагом? Балки, обрывы, займища тут повсюду, море подъедает берег.
– А обстоятельства, при которых нашли тело, что вам известно об этом?
– Немного, но, может, сей кладезь окажется полезнее…
Он порылся на полках и положил передо мной бледно-голубую книжечку «О бромистом конине. Диссертация на степень доктора медицины лекаря В. Ольдерогге, 1884 г.».
Отвечая на мой удивленный взгляд, открыл ее в середине, где была вложена фотография. И не одна. С почти довольным видом фельдшер рассказывал, раскладывая карточки на столе:
– Видите ли, в наших краях располагался аэрофотосъемочный отряд Рабоче-крестьянского красного воздушного флота. Они производили здесь съемки по своим надобностям. Фотограф – прямо энтузиаст своего дела. Главным образом использовал аэрофотоаппарат Потте. Интереснейшая вещь. Обычную съемку тоже можно сделать.
Я разглядывал снимки. Они были великолепны: контрастные, выполненные со знанием дела. Рядом с мелкими, плотно сжатыми строчками диссертации они производили странное впечатление – не иллюстраций, а как будто распахнутого окна. Мелькали кони на отмели, птицы, причал, рыба в человеческий рост – хорошо различим нос рыбины, за который ее держит рыбак.
– Этот фотограф-энтузиаст работает, не поверите, даже для газет.
На фотокарточках мелькали изображения курганов в степи. Потом купол местной церкви. Снимок вскрытой раки с мощами, рядом товарищи в фуражках, очевидно, комиссия по реквизиции религиозных ценностей.
– Снимает все! Особенно интересуется обрядами, жизнью деревни. – Фельдшер налил еще по стакану и немного смущенно добавил: – Ну и, конечно, нашей церковью. Как раз оказался там. Удачно. То есть я имел в виду, просто случайно. Вот и сделал карточки… когда Австрияк принес туда тело.
У тела на фото не было лица – ткань, собравшись в складки, закрыла все, кроме белых рук, раскинутых на темных пятнах земли.
– Товарищ Турщ не стал возражать. Он принял к сердцу трагедию девушки, – продолжил фельдшер.
– Турщ?
Фельдшер смотрел не мигая.
– Да.
Турщ производил впечатление человека не сердечнее нильского крокодила.
Еще несколько фото. Видно, что тело обернули в ткань плотно, как в саван. Вот другое, снятое немного иначе.
– Аркадий Петрович, а глаза? Когда ее нашли, глаза были открыты или закрыты?
Рогинский взял фото, обвел пальцем фигуру.
– Действительно, здесь… Но даже не знаю.
– Говорят, материя, в которую завернули тело, находится у вас.
– Сохранил вместе с носильными вещами. Родители взять не захотели. А чемодан забрали.
– Хорошо, я поговорю с ними, попрошу отдать.
– Попробуйте. Они настроены, как выражается товарищ Турщ, резко отрицательно.
– Она обращалась к вам за врачебной помощью? Может, жаловалась на боли в груди?
– В смысле на сердце? Нет. Приходила, помню, раз, еще той весной, ее молотилкой задело. Говорят, она бывала в городской больнице, ездила туда.
– Зачем?
Он поднялся, собрал пустые стаканы, залез чуть не по пояс в буфет:
– Да, собственно, откуда мне знать? – Грохнуло, покатилось в глубине буфета. – Выглядела здоровой… Я с ней говорил пару раз, не больше. Давал брошюры по общей гигиене.
– А кто может знать? Подруги у нее были?
Вернувшись к столу, фельдшер подвинул ко мне фотографии, поставил книгу на место.
– Кажется, нет, в друзьях все больше мужчины. Новые нравы. К тому же она была заметной… в том самом, женском смысле.
– Кстати, я видел на берегу мужчину, когда мы осматривали место. Высокий, темные волосы.
– Я и не заметил, может, местный рыбак… Да, как время-то бежит! Вы спрашивали ткань? Пойдемте.
* * *В кухне жена фельдшера Анна склонилась над подоконником, будто что-то выронила и теперь искала. Вздрогнула:
– Вы меня напугали, – и закрыла белой тканью кастрюлю. Густо и сладко пахло какой-то травой.
– Анечка, зачем ты встала?
Рогинский бросил мне рассеянно:
– Минуту…
Поискал, погремев, принес ведро, откуда достал ком свернутой ткани.
Я попросил газету. Анна подала. Расправил над ней материю – посыпались земля, листья, сухая трава. Покрутил. «Саван» оказался транспарантом с выписанным белой краской призывом: «Религиозное воспитание есть преступление против детей» – и действительно нарисованной звездой.
Свернул ткань, собрав все, что высыпалось из складок. В куче этого мусора обнаружилась медная монетка. Ребристая, с неровными краями. Подошел к окну, поднес к свету. Анна, переставив кастрюлю, тоже наклонилась. Оказалось, не монета. Медный, чуть больше ногтя диск, похожий на амулет. На одной стороне выцарапаны или выбиты буквы. На другой – я повернул… Анна протянула руку.
– Видели раньше?
На обороте – лицо в анфас, по ободу линии, как волосы горгоны Медузы. Немного поколебавшись, Анна покачала головой, отвернулась.
Фельдшер обнял ее за плечи:
– Вы заходите к нам позже вечером? Уже, так сказать, не по делу, а просто на огонек.
– Благодарю, но не знаю, надолго ли я здесь.
– Так ведь вода. Так ведь разлив, ветер. Вам и не уехать. Мы ужинаем поздно. У нас тут сложился кружок. Новый человек всегда интересен.
– Благодарю, буду. У меня с собой банка маслин – я захвачу.
Провожая меня до крыльца, Рогинский еще раз напомнил, что меня ждут. Но, несмотря на радушие, мне показалось, что я ему не слишком понравился.
По пути к хате, где оставил вещи, я вышел к мосткам. Постоял, глядя на грязноватые волны прибывающей воды. Уехать в любом случае не выйдет, как бы ни мечтал об этом товарищ Турщ! Он был крайне недоволен моим желанием разыскать местного, который нашел тело. И еще раз, без помех, переговорить со священником. Но все же обещал лодку рано утром, раздраженно бросив, что «никуда Австрияк не денется, верьте, знаю. За пристанью присмотрим и за попом». Крупная стрекоза, вильнув у лица, сбила меня с мысли. Что-то было еще, что-то важное…
А интересная штучка этот медальон, найденный на теле! Откуда он там и чей – жертвы, убийцы? Оставили его с умыслом, нарочно или вышло случайно? Или за смертью Рудиной стоит нечто большее, чем местечковый «жестокий романс»? Руководство «Научное следствие и полиция» делит все расследование на три этапа. Собирание данных о совершенном преступлении. Создание на их основе рабочей гипотезы. И, наконец, третий – поимка виновника. Откладывая временно в сторону упрощенность этой схемы, я признался себе, что застрял не дальше первого этапа. Гипотезу построить пока не выйдет. Я устал, хотел выспаться, разложить по полочкам мысли, впечатления, вопросы. Но оставался фельдшер Аркадий Петрович Рогинский. Я решил, что вечером мне обязательно нужно к нему. Может получиться познакомиться поближе, разговорить его компанию. Да и приглашение было кстати, я позабыл, что не обедал.
По дороге заглянул в лавку, вполне привычный ассортимент, но скудный. Спички, мыло, на чистой широкой полке рулон простой ткани. Разглядывая каменные пряники, я вспомнил, что газеты писали о бедственном положении сел в части продуктов, и подумал, что вряд ли мой лодочник рад лишнему рту. Жили тут небогато. Продналог, первые годы перестройки на селе давались крайне нелегко. Положение села выражалось, пожалуй, частушкой:
Ленин Троцкому сказал —Давай поедем на базар,Купим лошадь карюю,Накормим пролетарию.Дом, где меня поселили, был двухэтажным, окруженным резным балкончиком. Второй этаж деревянный, нижний – каменный, что называется «на низах», спасение от воды в разлив. Я постучал в окно, обошел крыльцо. Позади него стояла узкая старая лодка. Лежали мотки веревок и сети, наброшенные на вросший в землю, опрокинутый истукан – каменный идол, выглаженный временем и степным ветром.
– Почистись, земли натащишь.
Со спины подошел хозяин, лодочник.
– Как величать-то тебя?
– Егором.
– Данила, – он протянул руку. – Волковы мы.
Он облокотился о столбик тына, поудобнее устроил ногу с пустой штаниной. Я взял железный скребок, занялся ботинками. Кивнул на идола, вокруг которого без почтения рылись пестрые куры.
– Откуда он у вас? – Такие божки изредка встречались в степи, торча на курганах как часовые.
– Еще при старой власти, лет тому десять сосед пахал. – Лодочник скрутил самокрутку, настроился на разговор. – Недалече курган низкий, совсем старый. Под него не лезем, а рядом что же? Ну и зацепило плугом камень, лемех согнуло. Я пошел посмотреть. Торчит эта каменная баба, – он ткнул в истукана пальцем, расшугав кур.
В абрисе фигуры идола с трудом, но угадывались женские черты.
Данила пошарил по карманам, вытащил спички.
– Сосед и говорит: здесь клад должен быть! Стали мы копать напеременку. Две статуи вытащили ищо. А на дне ямы вроде как горшок. С него земля посыпалася, а снизу камешки. Мы эти камешки к кузнецу, он один в горн сунул – ничего! Не смог растопить. Он и кувалдой по нему. Ничего не берет. – Данила рассказывал со вкусом, забыв про самокрутку, делая паузы и взмахи рукой для остроты рассказа. Видно, пересказывал случай не в первый раз.
– Кузнец, конечно, разное, мол, клад этот – заговоренный! А я говорю, раз боишься, то к попу отнесем. Он молебен отслужит, и будут из камушков деньги.
– И что же?
– А, – он досадливо махнул рукой, – тогда другой поп служил. Забрал и гор-шок, и камушки. Да и отдал уряднику, а тот их послал в Ростов. Так и ушел клад. Двенадцать фунтов весил! А каменных баб мы себе взяли.
– Не опасаешься? Все-таки древний идол? – Я перешел на ты, невольно подделавшись под его лад.
– Баба, она и есть баба, чего ее бояться. Сосед мой опосля с глузду съихал[21]. Все копал, клад искал с другими бугровщиками, да без толку.
– Кто это – бугровщики?
– Которые клады копают. Бывает, и в курганы лезут, я так-то думаю, там самое золото и серебро.
– А ты не копаешь?
– Не. Идем, что ли, в дом?
Я наконец разместил все свои вещи, вытянулся на кровати. Небольшая комната, тканые половики. При входе, высоко над дверью, помещалось круглое зеркало, лежа, я рассматривал его, однако к чему оно здесь, так и не догадался. Тянуло не вставать до самого утра. Но, раз не вышло пока добраться до Австрияка, не стоит терять зря вечер. Я достал чистую сорочку, свитер. Наугад толкнул дверь, сказать хозяину, что ухожу. Шансы, что лодочник поинтересуется делами навязанного ему гостя, малы, но все же приличия требовали. Оказалось, кухня. Печь теплая «в низах», полы посыпаны песком. Хозяин почти радушно предложил поужинать:
– Исть будете? Каша со вчера настоялась, жир утячий.
Хозяйка Марина разделывала рыбу:
– Рахманку[22] делаю. Спробуйте, вкусно.
Я поблагодарил и отказался, сказав, что иду ужинать к фельдшеру.
– Тю, рази вас там накормят толком, – хозяйка говорила с явной насмешкой. – Фельдшериха – та, може, воды сварит.
Лодочник одернул:
– Цыц, Маринка, – но она только повела плечом:
– Тогда хоть чаю!
Я кивнул, присел, не удержался, отломил хлеб. Лодочник помог, прижал ломоть – край поднялся вверх.
– Хозяйка замешивает: раньше-то на молоке, теперя на чем придется.
Подал стакан с чаем. Тепло приятно обожгло горло.
– Слышал, ты бригадир артели? – спросил я.
Он помрачнел.
– Ноги ж лишился. Ще на войне. В море ходит не часто. Смотрит за работой. Да возит что нужно на землю и приезжих. Но ловкий! – вставила Марина. Лодочник снова цыкнул на нее, мол, зачем при чужом!
– Али он не видал? – Она, не слушая мужа, продолжала: – Беда с ним! Ведь приходится пару обуви покупать! А был бы на селе еще такой калека – вскладчину дешевле.
– Ну, бригадир, – оборвал ее Данила. – А куда деваться?
Как объяснил мне Турщ, артель, которую устраивали в Ряженом, имела сходство с парижскими коммунами. Имущество объединялось. А полученные от продажи рыбы деньги шли на общий счет и расходы. Рыбаков ставили в бригады по десять-двенадцать человек.
– Что, идут неохотно?
– Чего ж хотеть, когда, говорят, теперя все общее? Откуда ж моя лодка общая, когда ее мой отец строил?
Выпал удобный случай расспросить о нападениях на артель и порче сетей, но отвечал он неохотно, односложно. Мелькнула было мысль упомянуть Турща, что он, мол, обещал содействие артельных. Но ясно было, что здесь найдет, пожалуй, коса на камень.
– Рыбы тут много? Хватает? – я перевел на личное.
– Э, счас уж не то! Меньше стало. Раньше весло в рыбе застревало. По весне сбивали по-грязному икру со щуки, а то с сулы, с чикомаса[23]. Теперь – вот она выручает, – он подвинул мелкую рыбку в газете. – Таранька. Полузгай, она как подсолнухи. Только солоно. Бывает, когда разлив, так ею держимся. Кандер[24] на ей сварить, или в печку опять же можно заместо дров или ежели сырое все.
Гирлянды сухой рыбы висели под самой крышей.
– Дымит, верно, отчаянно?
– Известно, зато нечисть отпугивает. А и мышей. – Марина присела к столу. Тонкие смуглые пальцы ловко очищали мелкую рыбку.
Отхлебывая чай, я проглядывал сделанные за день заметки.
– Хочу еще раз на Гадючьем куте осмотреться.
– Это где нашли ее? – Хозяйка с любопытством наблюдала за тем, как я разбирал бумаги. Потянулась за наброском – берег, нос лодки.
Лодочник громыхнул стаканами, встал.
– Вы ее хорошо знали?
– К нам она касательств не имела. Разве только при учете рыбы… Спектаклю придумала в клубе, книжки носила. – Лодочник подвинул жену плечом, кивнул ей на посуду.
– Вы вот пишете да малюете. – Марина стряхивала крошки со стола, заворачивала рыбу. – Справно вам?
– Вполне.
– Может, свечку надо?
– Спасибо, я взял в лавке свечи и спички. – Я вспомнил, что хотел спросить. – Зачем в комнате зеркало над самой дверью? Высоко, лица не видать.
– Так это ж не для людей. Это для ангела-хранителя, – хозяйка удивилась вопросу. – А Австрияк, как вы, тоже малюет. И Любе, что там надо, все помогал. Он каплюненник, пьяница, – пояснила Марина. – Но добрый. Что попросишь – делает. Ох и страшный только, – она смешливо скривилась, – рожу мыши сгрызли.
– Вы же здешние места хорошо знаете. Как Люба могла на куту оказаться? – спросил я хозяина.
– А! Бис ее разберет. Там сейчас редко ходят. Пока казачья вода[25] была, холодная, море было чистое. А багмут задул, русская вода пошла и уже – багрецовая. Ну, рыбаки сети ставят сторонкой. Рази только с ерика, когда в море идут, так мимо. Да и об эту пору там много змей.
Лодочник говорил медленно, рассматривал сложенные руки. Помолчав, перевел разговор.
– Вы если провизию хотите брать, так это, зайдите до последней хаты. Там ирьян[26] хорош. Мертвецова жена держит корову и коз.
– Мертвецова – откуда такое прозвище?
– Жинка Петра-мертвеца. Так-то он Красуля. Заснул однажды, добудиться не могли аж с зимы, с Николина дня до Пасхи. Хотели уж схоронить, но ничего, очухался, поднялся, – весело объяснила Марина.
– Пора вам. Вечереет, они по-городскому об это время садятся, – сказал лодочник.
Днем отчаянно, по-весеннему синее небо к вечеру вдруг рассыпалось легким снегом. В сумерках вода в полях отливала ртутью. Луна, опрокинутая в воду, просвечивала синим. По пути к больнице, где квартировал фельдшер Рогинский, мокрая земля разъезжалась под ногами, шел я медленно. Хорошо, что лодочник дал мне свои болотные сапоги, хоть и неохотно. Увидев, как я достаю веломашину, отсоветовал ее брать, прибавив, что не корова, со двора не сведут, а вот завязнуть в грязи выйдет запросто.
Рассовав по карманам прихваченные из Ростова на всякий случай вино и маслины, я шагал, держал в уме вопросы, которые, как бы то ни было, нужно задать. Задумался, какой же Люба Рудина была – в памяти мелькнула желтая кожа, сухие, безжизненные пряди. Фельдшер сказал, «заметной», теперь ничего от заметности не осталось. Меня грызла досада, что кто-то подкараулил, напугал, виноват в смерти молодой девушки, а взять, даже если найдем, не за что. Остается разве что разузнать, кто ее преследовал и поглумился над телом.
И что еще за «дела творятся тут», о которых упомянул фельдшер между делом. Жаль все же, что в сутках двадцать четыре часа. Может, мировая революция и это сумеет изменить, взялись же править календарь?[27]
* * *Личные комнаты фельдшера в больнице – ровно такие же, как в любой провинциальной гостиной. Буфет, лампа, этажерка. Сидя здесь, и забудешь, что кругом степь да вода. Я осмотрелся – цветные переплеты на полке, собрания сочинений. Отдал Анне Рогинской вино и маслины. Она улыбнулась, махнула рукой – «у нас по-простому, без церемоний». Из соседней комнаты через раскрытые двери доносились мужские голоса и стук фишек.
Сам Аркадий Петрович, в домашней кофте, с аккуратно повязанным пестрым галстуком-бантом, увидев, что я рассматриваю книги, потянулся за томиком, обдав меня густым запахом кельнской воды:
– Вернейшее средство развлечь хандру – книги, журналы. Даже в таком отдалении от центров очагов культуры, – он запнулся, запутавшись в словах, – в общем, даже здесь можно получать подписные издания. А кое-что, представьте, повезло добыть благодаря новой власти: в усадьбе владельца рыбокоптильного завода мебель, понятное дело, растащили и порубили, а библиотека досталась мне.
Пока он говорил, я рассматривал вынутую книгу – Яков Канторович, юридический поверенный, «Средневековые процессы о ведьмах». «Чудесные знамения. Правдивые описания событий необыкновенных», автор – я покрутил книгу – Финцелиус.
– У вас интересная библиотека.
Фельдшер достал другой томик, французского натуралиста, на корешке тусклым золотом год – 1874-й.
– «Летучая мышь есть символ безумия», – прикрыв глаза, процитировал, выделив строчку в книге пальцем. Его жена, возясь у буфета, отвернулась, протирая чистым полотенцем миску.
– Удивительно, как вы точны на цитаты.
– Да, не пожалуюсь. Но ведь тут что делать? Глушь, вот и читаю.
Я полистал страницы, нашел интересное: «важнейшая характеристика змеи – ее хтоническая природа».
– «Змея сочетает в себе мужское и женское, огненную и водную символику, – прочитал я вслух. – Длинные гибкие предметы соответствуют змее: нитка, бусы, волосы».
Придержал строчку пальцем.
– «Двенадцать пар скрытых ног змеи можно увидеть только в Юрьев день; человек, увидевший их, умрет», – процитировал, не заглядывая в книгу, Рогинский.
– Средневековая чушь, если позволите, – донеслось от стола с играющими.
– «Змей тесно связан с фаллической символикой», – я листал страницы дальше.
– «Галавища в маслище, сапажища в дегтище, а партки набиты змеей», – снова от стола, уже со смешком.
– Однако Ева искушена была змеем, Дмитрий Львович, – не согласился фельдшер с невидимым участником разговора.
Забавный чудак. Я взял с полки томик поэзии, яркий корешок.
– Позвольте-ка, – фельдшер ловко вынул книгу из моих пальцев, несколько нараспев продекламировал: – «Домового ли хоронят, ведьму замуж выдают»… Прямо строки о нашем ненастье. О, я убежден, что поэт страдал невропатией. То, что принято называть вдохновением, – просто повышенная возбудимость. Мне, как лицу, не чуждому медицины, интересны свойства человеческой психики.
Анна отвлекла мужа какой-то хозяйственной просьбой. Меж тем за столом под широким желтым абажуром шла игра. Я подумал было – в карты, но оказалось, в другое. «Гусек». Картонное игровое поле напомнило свернувшуюся змею. От игры я отказался, отговорился, что неазартен. Присел к столу, но наблюдал не за игрой, а за играющими. Компания тоже как всюду. Теснота места, общества и мысли вынуждает тех, кто имеет если не одинаковые интересы и вкусы, так хотя бы общие бытовые привычки, жаться друг к другу.
Рогинский представил нас. Почти все собравшиеся были мне уже знакомы заочно. Бывший управляющий рыбокоптильным заводом, конторщик и почтовый служащий. Последний, как нарочно, и видом, и даже именем – карикатура на сам этот тип. Астраданцев, он представился по имени – Саша, с ударением на последнее «а». Старательно прямо держит голову, опасаясь, что светлые локоны из прически капуль[28] завесят глаза.
Ему оппонирует в игре Дмитрий Львович Псеков, бывший управляющий заводом. Усы параллельны плечам. Когда наклоняется, протягивая руку в игре, мелькает проплешина; широкие ладони человека, хорошо знакомого с тяжелой физической работой. На первый взгляд лет скорее средних. Но, если всмотреться, видна сетка вен, склеры мутные. Пенсне на широком черном шнурке. Пожалуй, сильно старше.
Почувствовав мой взгляд, он поднял голову.
– Егор Алексеевич?
– Верно.

