
Горбун, Или Маленький Парижанин
– Я думала… – пробормотала она, опустив глаза. – Как-то вы мне сказали, что вы не женаты. На все мои расспросы на этот счет мне отвечали молчанием. И когда вы приглашали ко мне всевозможных учителей, чтобы я обучилась всему, что составляет очарование французских дам, я думала, что вы – почему я должна молчать об этом? – так вот, я думала, что вы меня любите.
Она на миг умолкла, чтобы украдкой взглянуть на Гонзаго, глаза которого светились удовольствием и восторгом.
– И я старалась, – продолжала она, – стать лучше и достойней. Я трудилась с воодушевлением, с пылом. Ничто не казалось мне трудным. Я чувствовала, что нет таких препятствий, которые могли бы сломить мою волю. Вы улыбаетесь! – с неподдельной яростью вскричала она. – Принц, ради Пресвятой Девы, не смейте улыбаться, или я взбешусь! – Она встала перед Гонзаго и без всяких обиняков спросила: – Чего же вы хотите, если не любите меня?
– Донья Крус, я хочу сделать вас счастливой, – мягко ответил Гонзаго, – счастливой и могущественной.
– Сперва сделайте меня свободной! – вскричала взбунтовавшаяся пленница.
Гонзаго пытался успокоить ее, а она только повторяла:
– Я хочу быть свободной! Свободной! Свободной! Больше ничего мне не надо! – Но тут же, следуя потоку своих взволнованных мыслей, она заговорила о другом: – Нужен ли мне Париж? Да, но Париж ваших обещаний, шумный и блистательный, такой, каким я его предугадываю, сидя в своей темнице. Я хочу выходить, хочу, чтобы меня видели. К чему мне мои драгоценности в четырех стенах? Взгляните на меня! Вы хотите, чтобы я извела себя слезами? – Внезапно она звонко рассмеялась. – Взгляните же на меня, принц! Я уже утешилась. Я больше никогда не буду плакать, я буду всегда весела, но пусть мне покажут Оперу, которую я знаю только по названию, пусть мне покажут праздники, балы…
– Донья Крус, – холодно прервал ее Гонзаго, – сегодня вечером вы наденете самые дорогие свои украшения.
Она подняла на принца недоверчивый и заинтересованный взгляд.
– Я повезу вас, – продолжал Гонзаго, – на бал к его высочеству регенту.
Ошеломленная девушка не знала, что сказать.
Ее выразительное личико побледнело, потом порозовело.
– Это правда? – выдавила она, еще не веря.
– Правда, – подтвердил Гонзаго.
– Значит, вы сделаете это? – воскликнула она. – О, тогда я прошу у вас прощения за все! Вы самый добрый человек, вы мой друг!
Она бросилась ему на шею, а потом принялась скакать как безумная, тараторя при этом:
– На бал к регенту! Мы поедем на бал к регенту! Даже сквозь толстые стены, сквозь холодный пустынный парк, сквозь запертые окна до меня долетали слухи о бале у регента, и я знала, что там будут чудеса. И я увижу этот бал! О, спасибо, спасибо, принц! Если бы вы знали, как вы прекрасны, как добры! Бал ведь будет в Пале-Рояле, да? О, я умираю от желания взглянуть на Пале-Рояль!
Донья Крус стояла в другом конце комнаты. Одним прыжком она оказалась рядом с Гонзаго и опустилась на колени на подушку у его ног. Положив обе руки на колено принца и пристально глядя на него, она крайне серьезно осведомилась:
– В каком туалете я буду?
– На балах при французском дворе, донья Крус, – объяснил Гонзаго, – есть нечто, что оттеняет и подчеркивает красоту лица куда сильней, чем самый изысканный туалет.
Донья Крус попыталась угадать.
– Улыбка? – спросила она, как ребенок, которому задали простенькую загадку.
– Нет, – ответил Гонзаго.
– Изящество?
– И улыбку, и грациозность у вас не отнять, донья Крус, но того, о чем я говорю…
– У меня нет. Но что же это?
Гонзаго медлил с ответом, и она нетерпеливо бросила:
– Вы дадите мне это?
– Дам, донья Крус.
– Но что же это такое, чего у меня нет? – настаивала кокетка, одновременно торжествующе глядясь в зеркало.
Разумеется, зеркало не могло ответить на вопрос вместо Гонзаго.
Гонзаго произнес:
– Имя!
Донья Крус рухнула с вершины ликования. Имя! У нее нет имени! Конечно же, Пале-Рояль – это не Пласа-Санта за Алькасаром. Тут не будешь плясать под баскский бубен в поясе из фальшивых цехинов на талии. Ах, бедная донья Крус! Гонзаго сейчас пообещал ей, но обещания Гонзаго… И потом, как дается имя? Правда, принц, похоже, решил пойти ей навстречу и разрешить ее недоумения.
– Дорогое дитя, если у вас не будет имени, – заговорил он, – вся моя нежная дружественность к вам окажется бессильной. Ваше имя всего-навсего было потеряно, и я нашел его. У вас славное имя, одно из славнейших во Франции.
– Правда? – воскликнула девушка.
– Вы принадлежите к могущественному семейству, – торжественным тоном объявил Гонзаго, – находящемуся в родстве с нашими королями. Ваш отец был герцог.
– Герцог! – повторила донья Крус. – Вы сказали – был? Значит, он умер?
Гонзаго наклонил голову.
– А моя мать?
Голос бедной девушки задрожал.
– Ваша мать – принцесса, – ответил Гонзаго.
– Она жива? – вскричала донья Крус, и сердце ее готово было выскочить из грудной клетки. – Вы сказали: «Она принцесса»! Моя мать жива! Пожалуйста, расскажите мне о ней!
Гонзаго приложил палец к губам.
– Не сейчас, – прошептал он.
Но на донью Крус таинственный вид не действовал. Она схватила обе руки Гонзаго и принялась забрасывать его вопросами.
– Нет, вы сейчас, прямо сейчас расскажете о моей матери! Боже мой, как я буду ее любить! Она, конечно, очень добрая и очень красивая, да? – И вдруг тон ее изменился, из нетерпеливого стал задумчивым. – Странно, я всегда думала, что так и случится. Какой-то голос постоянно мне нашептывал, что я дочь принцессы.
Гонзаго с трудом удержался от улыбки.
«Все они одинаковы», – подумал он.
– По вечерам, засыпая, – продолжала донья Крус, – я видела свою мать, она склонялась над моим изголовьем. У нее были длинные черные волосы, жемчужное ожерелье, горделивые брови, бриллиантовые серьги в ушах, и она так ласково смотрела на меня. Как зовут мою мать?
– Пока вам еще нельзя знать это, донья Крус.
– Почему?
– Это очень опасно.
– Понимаю! – не дала она ему договорить, видимо под влиянием какого-то романтического воспоминания. – Понимаю! В театре в Мадриде я смотрела комедии, и там тоже девушкам никогда сразу не говорили имя матери.
– Никогда, – подтвердил Гонзаго.
– Пусть это опасно, но ведь я никому не проговорюсь, – заверила донья Крус. – Я не выдам эту тайну даже под страхом смерти!
И она выпрямилась, гордая и прекрасная, как Химена[55].
– Я не сомневаюсь в этом, – заверил ее Гонзаго. – Но, дорогое дитя, вам осталось уже совсем немного ждать. Через несколько часов тайна перестанет быть тайной, и вы узнаете имя вашей матери. А сейчас я могу вам сказать только одно: вас зовут не Мария де Санта Крус.
– Мое настоящее имя Флор?
– Тоже нет.
– Так как же меня зовут?
– При рождении вас нарекли именем вашей матери, которая была испанка. Вас зовут Аврора.
Донья Крус вздрогнула и повторила:
– Аврора! – И тут же, хлопнув в ладоши, прошептала: – Какое странное совпадение!
Гонзаго внимательно взглянул на нее. Он ждал, что еще она скажет, но в конце концов спросил:
– А почему вы так удивились?
– Это ведь очень редкое имя, – задумчиво промолвила девушка, – и мне вспомнилось…
– Что? – встревоженно осведомился Гонзаго.
– Милая Аврора! – прошептала донья Крус, и глаза ее увлажнились. – Какая она была добрая и хорошенькая! Я так любила ее!
Гонзаго прикладывал чудовищные усилия, чтобы скрыть, до какой степени все это интересует его. К счастью, донья Крус всецело углубилась в воспоминания.
– Вы когда-то знали девушку по имени Аврора? – делано безразличным тоном спросил Гонзаго.
– Да.
– И какого она была возраста?
– Моя ровесница.
– Давно это было?
– Очень давно.
Донья Крус пристально взглянула на Гонзаго и задала вопрос:
– Монсеньор, а почему это так вас заинтересовало?
Но Гонзаго был из тех людей, что всегда держатся начеку. Он взял донью Крус за руку и ласково ответил:
– Дитя мое, меня интересует все, что любите вы. Расскажите мне о вашей давнишней подружке Авроре.
VII
Принц Гонзаго
Богатая и роскошная, как, впрочем, и весь дворец, спальня Гонзаго с одной стороны выходила в промежуточную комнату, служившую будуаром и сообщавшуюся с малой гостиной, где мы оставили откупщиков и дворян, а с другой – в библиотеку, которой в Париже не было равных по богатству и числу собранных в ней книг.
Гонзаго был человек весьма начитанный, ученый-латинист, неплохо знавший великих писателей Древнего Рима и Эллады, при случае тонкий богослов и к тому же крайне сведущ в философии.
Если бы при этом он был порядочным человеком, ничто не смогло бы устоять перед ним. Но порядочность ему была несвойственна. Чем сильней человек, не имеющий твердых правил, тем дальше отходит он от прямого пути.
С ним получилось как с тем принцем из детских сказок, который родился в золотой колыбели, окруженной добрыми феями. Феи одарили новорожденного всем, что может составить славу и счастье человека. Но одну фею позабыли пригласить, и она, разобидевшись, пришла сама, исполненная гнева, и объявила: «Ты будешь иметь все, чем одарили тебя мои сестры, но…» И этого «но» оказалось достаточно, чтобы бедный принц стал несчастней самого презренного бедняка.
Гонзаго был красив, Гонзаго родился безмерно богатым. Гонзаго происходил из рода государей, он был мужествен, и доказательств тому имелось немало; он обладал знаниями и умом; немногие люди владели словом с таким блеском, как он; его дипломатические таланты были широко известны и весьма ценились; при дворе не было человека, не подпавшего под его очарование, но… Но у него не было ни чести, ни совести, и его прошлое тяготело и правило его настоящим. Он уже был не в силах остановиться на той наклонной плоскости, на какую ступил еще в юные годы. Самым роковым образом он вынужден был вновь и вновь творить зло, чтобы скрыть свои давние преступления. Обратись он к добру, при своей натуре он был бы образцом великодушия, но как творец зла он был неутомим. Ничто не сдерживало его. И после двадцати лет борьбы он не испытывал ни малейшей усталости.
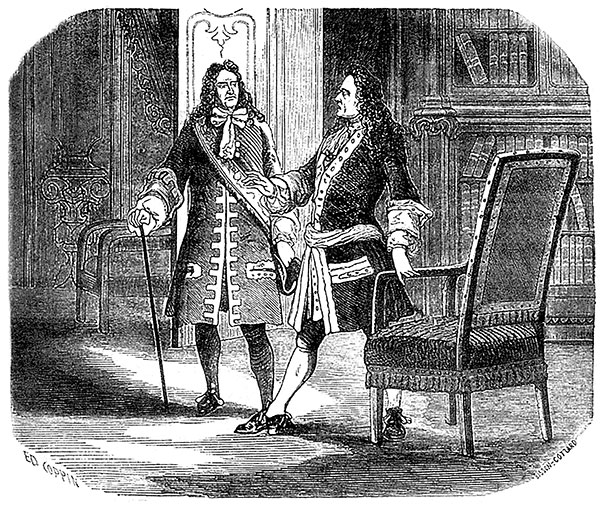
Что же касается угрызений совести, то Гонзаго верил в них не больше, чем в Бога. Вряд ли нам есть смысл подсказывать читателю, что донья Крус была для него всего лишь орудием, умело выбранным орудием, которое, по всей видимости, должно будет действовать наилучшим образом.
Избрал эту девушку Гонзаго отнюдь не случайно. Он долго колебался, прежде чем остановил на ней свой выбор. Донья Крус соединяла в себе все качества, о которых он мечтал, в том числе известное сходство, разумеется весьма слабое, но вполне достаточное, чтобы сторонние люди могли изречь драгоценнейшие для него слова: «А в ней, знаете ли, видны фамильные черты». И эти слова сразу придадут лжи видимость правдоподобия. Но сейчас внезапно возникло обстоятельство, которого Гонзаго не предвидел. После недавнего потрясающего сообщения отнюдь не донья Крус была наиболее взволнована; Гонзаго потребовались все его дипломатические таланты, чтобы скрыть охватившую его тревогу. И все же, несмотря на дипломатическое искусство принца, девушка заметила его беспокойство и была этим удивлена.
И хотя Гонзаго проявил огромную изворотливость, его последние слова не уничтожили возникших у доньи Крус сомнений. У нее зашевелились подозрения. А женщине, чтобы заподозрить, вовсе не обязательно понимать. Что могло так взволновать этого сильного и столь хладнокровного человека? Произнесенное имя – Аврора… Но что в этом имени? Ну, во-первых, как сказала прелестная затворница, имя это редкое, а во-вторых, не стоит сбрасывать со счетов предчувствие. Звук этого имени поразил Гонзаго. Именно так можно определить ту силу потрясения, которую испытал суеверный принц. Он мысленно сказал себе: «Это предостережение». Какое предостережение? Гонзаго верил в звезды, во всяком случае в свою звезду. У звезд есть голос, и его звезда заговорила с ним. И если только что прозвучавшее имя стало открытием, то последствия этого открытия были настолько серьезны, что не стоит удивляться потрясению и тревоге принца. Восемнадцать лет он вел поиски! Он встал под предлогом, что хочет посмотреть, кто это шумит в саду, но на самом деле чтобы скрыть волнение и совладать со своим лицом.
Спальня его была расположена в углу, на стыке главного корпуса с правым крылом дворца, и выходила окнами в сад. Напротив были окна покоев, которые занимала принцесса Гонзаго. Занавеси на них были плотно задернуты. Донья Крус тоже встала и хотела подойти к окну. Двигало ею не только детское любопытство.
– Сядьте, – сказал ей Гонзаго. – Вас пока что не должны видеть.
Под окнами и по всему бывшему парку колыхалась плотная толпа. Но принц даже не взглянул на нее, его мрачный и задумчивый взор был прикован к окнам жены.
«Придет ли она?» – думал он.
Донья Крус, надув губки, уселась на свое место.
«Тем не менее это будет решающее сражение, – мысленно промолвил он и мысленно же добавил: – Но любой ценой я должен узнать…»
Когда он уже отходил от окна, чтобы вернуться к юной собеседнице, ему показалось, что он заметил в толпе того странного человечка, чья эксцентрическая выходка так потешила утром всех собравшихся в парадном зале, иными словами, горбуна, купившего будку Медора. Горбун держал молитвенник и тоже смотрел на окна принцессы Гонзаго. В других обстоятельствах Гонзаго, вероятней всего, обратил бы на это внимание, поскольку обыкновенно он ничего не упускал из виду, но сейчас он очень хотел узнать. Однако если бы он еще хоть минуту постоял у окна, то увидел бы следующее: с крыльца левого крыла спустилась камеристка принцессы, подошла к горбуну, который что-то ей сказал и вручил молитвенник. После этого камеристка вернулась к своей госпоже, а горбун растворился в толпе.
– Мои новые постояльцы поссорились и подняли шум, – объяснил Гонзаго, садясь рядом с доньей Крус. – Так на чем мы, дорогое дитя, остановились?
– На имени, которое я буду отныне носить.
– На имени, которое вам принадлежит, Аврора. Да, но потом нас что-то отвлекло. Вы не помните что?
– Вы уже забыли? – лукаво улыбнувшись, удивилась донья Крус.
Гонзаго сделал вид, будто припоминает.
– А, ну как же! – воскликнул он. – Вы вспомнили девочку, которую вы любили и которую тоже звали Аврора.
– Красивую девочку и сироту, как я.
– Вот как? Это было в Мадриде?
– Да, в Мадриде.
– Она была испанка?
– Нет, француженка.
– Ах, француженка? – с великолепно разыгранным безразличием бросил Гонзаго.
При этом он сделал вид, будто сдерживает зевоту. Сторонний наблюдатель пребывал бы в полной уверенности, что принц поддерживает разговор из чистой вежливости. Однако все его хитрые уловки были тщетны, и в этом его могла бы убедить лукавая улыбка доньи Крус.
– И кто же опекал ее? – с рассеянным видом поинтересовался Гонзаго.
– Пожилая женщина.
– Это естественно, но кто платил дуэнье?
– Один дворянин.
– Тоже француз?
– Да.
– Молодой, старый?
– Молодой и очень красивый.
Она смотрела ему в упор в лицо. Гонзаго притворился, будто вновь подавляет зевоту.
– Но зачем вы расспрашиваете меня о вещах, которые нагоняют на вас скуку? – рассмеялась донья Крус. – Этого дворянина вы не знаете. Я даже не представляла, что вы так любопытны.
Гонзаго понял, что следует играть осторожней.
– Я отнюдь не любопытен, дитя мое, – ответил он, сменив тон. – Вы меня еще не знаете. Разумеется, меня нисколько не интересуют ни эта девушка, ни этот дворянин, хотя в Мадриде я знавал немало народу, но если я расспрашиваю, то, значит, у меня есть на то причины. Соблаговолите сказать мне имя этого дворянина.
Взгляд девушки стал недоверчивым.
– Я забыла его имя, – сухо ответила она.
– Уверен, если вы захотите… – улыбаясь, настаивал Гонзаго.
– Повторяю: я забыла его.
– Давайте напряжем память… Попробуем вместе.
– Но зачем вам имя этого дворянина?
– Давайте попытаемся вместе, и вы увидите, зачем оно мне. Может быть, его звали…
– Ваша светлость, – прервала его донья Крус, – у меня ничего не получится, я не вспомню.
Это было произнесено так решительно, что дальнейшие настояния становились бессмысленными.
– Хорошо, не будем больше об этом, – бросил Гонзаго. – Очень досадно, и сейчас я вам объясню почему. Французский дворянин, живущий в Испании, может быть только изгнанником. К сожалению, там много таких. У вас, дорогое дитя, здесь нет подруги-сверстницы, а подружиться ведь очень непросто. Я подумал: «У меня есть некоторое влияние, и я добьюсь, чтобы этого дворянина помиловали, он вернется, привезет девушку, и моя дорогая донья Крус больше не будет одинока».
Все это он произнес с такой неподдельной искренностью, что бедная простушка была тронута до глубины души.
– Ах, – воскликнула она, – как вы добры!
– Я не злопамятен, – улыбнулся Гонзаго, – у нас есть еще время.
– Я не посмела бы попросить вас о том, что вы мне сейчас предложили, но мне бы страшно этого хотелось, – сказала донья Крус. – Но вам нет надобности разузнавать имя этого дворянина и писать в Испанию: я видела свою подружку.
– Как давно?
– Совсем недавно.
– И где же?
– В Париже.
– Здесь? – поразился Гонзаго.
Донья Крус уже ничуть не остерегалась его. Гонзаго все так же улыбался, но несколько побледнел.
– Господи, да это было в тот день, когда я приехала, – рассказывала простушка, не дожидаясь расспросов. – Когда мы проехали через заставу Сент-Оноре, я принялась ругаться с господином де Перолем, требуя открыть занавески, которые он упорно держал задернутыми. Он не дал мне увидеть Пале-Рояль, и этого я ему никогда не прощу. Заворачивая недалеко отсюда, карета задела за дом. Я услышала, что в комнате в нижнем этаже поют. Господин де Пероль придерживал занавеску рукой, но ему пришлось отдернуть ее, потому что я так ударила его веером по руке, что тот сломался. Я узнала голос, приподняла занавеску. В окне первого этажа я увидела мою милую Аврору, она совсем не изменилась, только стала красивей.
Гонзаго вытащил из кармана записную книжку.
– Я вскрикнула, – продолжала рассказ донья Крус. – Кони вновь пустились в галоп. Я хотела выйти из кареты, кричала. О, если бы у меня хватило сил, я задушила бы вашего Пероля!
– Так вы говорите, – прервал ее Гонзаго, – эта улица находится неподалеку от Пале-Рояля?
– Совсем рядом.
– Вы узнали бы ее?
– Я даже знаю, как она называется, – сообщила донья Крус. – Я первым делом спросила ее название у господина де Пероля.
– И как же она называется?
– Певческая улица. Но что вы там пишете, принц?
Гонзаго действительно что-то нацарапал в записной книжке. Он ответил:
– То, что необходимо, чтобы вы встретились со своей подругой.
Радостно зардевшись, донья Крус вскочила, глаза ее сияли от счастья.
– Вы добры, вы поистине добры, – сказала она.
Гонзаго закрыл записную книжку на защелку.
– Дорогое дитя, скоро вы сможете вынести окончательное суждение на этот счет, – промолвил он, – а пока нам придется на несколько минут расстаться. Вы будете участвовать в торжественной церемонии. Не бойтесь выказать свое смущение или тревогу, это естественно, и вас поймут.
Он встал и взял донью Крус за руку.
– Через полчаса, самое большое, вы увидите свою мать.
Донья Крус схватилась за сердце:
– Что мне ей сказать?
– Вы не должны ничего скрывать из невзгод, перенесенных вами в детстве, ничего, понимаете? Вы должны говорить только правду, одну только правду.
Гонзаго приподнял занавес, скрывающий вход в будуар.
– Пройдите туда, – сказал он.
– Я буду молить Бога за свою матушку, – прошептала донья Крус.
– Молитесь, донья Крус, молитесь. Это торжественнейший час в вашей жизни.
Гонзаго поцеловал ей руку, она прошла в будуар, и занавес опустился.
– Мой сон сбылся, – довольно громко произнесла девушка. – Моя мать оказалась принцессой.
Оставшись один, Гонзаго сел за бюро и сжал голову руками. Ему необходимо было сосредоточиться, привести в порядок взбудораженные мысли.
– Певческая улица, – пробормотал он. – Интересно, одна ли она? Сопровождает ли он ее? Но это была бы неслыханная дерзость. Да она ли это?
Некоторое время он сидел, уставившись в пространство, и наконец решительно произнес:
– Это надо выяснить прежде всего.
Он позвонил. Никто не ответил. Он кликнул Пероля. И вновь молчание. Гонзаго поднялся и прошел в библиотеку, где управляющий обыкновенно дожидался его распоряжений. Там никого не было. Лишь на столе лежал адресованный ему конверт. Гонзаго раскрыл его. В нем лежала записка, написанная рукой Пероля, следующего содержания:
Я приходил, мне нужно многое Вам сообщить. В садовом доме произошли чрезвычайные события.
Ниже в виде постскриптума было добавлено:
Кардинал де Бисси сейчас у принцессы. Я слежу.
Гонзаго смял записку и пробормотал:
– Сейчас они все убеждают ее: «Примите участие в совете – ради себя, ради вашей дочери, если она жива». Но она непреклонна и не придет. Эта женщина мертва. Но кто ее убил? – вдруг задал он себе вопрос и, побледнев, опустил глаза.
Невольно, сам того не желая, он продолжал размышлять вслух:
– Как она была горда когда-то! Красавица из красавиц, добрая, как ангел, мужественная, как рыцарь! Пожалуй, это единственная женщина, которую я мог бы полюбить, будь я способен полюбить женщину.
Он поднял голову, и скептическая улыбка вернулась на его уста.
– Каждый за себя! Моя ли вина в том, что, когда хочешь взойти на определенный уровень, приходится подниматься по ступеням из людских голов и сердец?
Возвратившись в спальню, он бросил взгляд на занавеси, закрывающие вход в будуар, где находилась донья Крус.
«Она молится, – подумал он. – Право, сейчас мне даже хочется поверить в нелепицу, именуемую голосом крови. Она была взволнована, но не слишком, не так, как девушка, которую действительно похитили и которая вдруг услыхала: „Сейчас вы увидите свою мать!“ Что требовать от этой цыганочки: она всегда мечтала о бриллиантах, о празднествах. Волка невозможно приручить».
Гонзаго приложил ухо к двери будуара.
– А она и впрямь молится! – прошептал он. – Забавно, у всех этих подкидышей, сирот в каком-то уголке сумасбродного мозга таится убеждение, которое родилось в раннем младенчестве и умрет с их последним вздохом, убеждение в том, что у них мать – принцесса. Все они бродят по свету и ищут своего отца – короля. Но эта очаровательна, она истинное сокровище! О, в простоте душевной она, даже не понимая того, будет служить мне. И если бы сегодня какая-нибудь славная крестьянка, подлинная ее мать, явилась и раскрыла ей объятия, она, покраснев от негодования, отшатнулась бы. Мы еще увидим слезы на глазах у слушателей, когда она будет рассказывать о своем детстве. Комедия проникает во всякое действо…
На бюро стоял хрустальный графин с испанским вином и бокал. Гонзаго налил бокал до краев и осушил его.
– Смелей, Филипп! – промолвил он, склонившись над разбросанными бумагами. – Это будет решающий бросок костей! Сегодня или никогда! Мы накинем покров на прошлое. То будет великолепная игра и богатейший выигрыш! Миллионы банка Лоу могут превратиться, подобно золотым монетам в «Тысяче и одной ночи», в сухие листья, а огромные владения Невера – это прочно, они никуда не денутся.
Он принялся приводить в порядок свои записи, которые сделал задолго до этого дня, и мало-помалу лоб принца разгладился, словно устрашающие мысли оставили его.
«И не стоит предаваться иллюзиям, – прервав работу, вновь погрузился он в размышления, – месть регента была бы ужасна. Да, он легкомыслен, забывчив, но он хранит память о Филиппе де Невере, которого любил сильней, чем брата. Я видел у него на глазах слезы, когда он смотрел на мою жену в трауре: ведь она была вдова Невера. Но как я все ловко провел! Прошло уже девятнадцать лет, и никто не попытался даже намекнуть на мою причастность».
Гонзаго провел тыльной стороной ладони по лбу, словно отгоняя неотвязную мысль.
«Но все равно, я решу это окончательно. Найду виновного, а когда он будет казнен, будет поставлена точка, и я смогу спокойно спать».
Среди бумаг, что лежали перед ним и в большинстве своем написанных шифром, лежал листок с такими словами: «Узнать, верит ли принцесса Гонзаго в то, что ее дочь жива». А ниже было приписано: «Узнать, у нее ли хранится акт о рождении».
«Ради этого ее приход был бы желателен, – подумал он. – Я заплатил бы сто тысяч ливров, лишь бы узнать, есть ли у нее акт о рождении дочери и вообще существует ли он, потому что, если он существует, я его получу. А вдруг? – мысленно промолвил он, поддавшись надежде. – Ведь матери немножко смахивают на этих подкидышей, о которых я недавно думал и которые повсюду видят своих родителей. Матери точно так же всюду видят своих детей. А вдруг она раскроет объятия моей цыганочке? О, тогда это будет победа, великая победа! Праздники, гимны Божьему милосердию, пиры! Одним словом, „Те Deum“[56]. И да здравствует наследница де Невера!»

