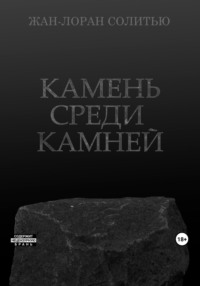
Камень среди камней

Жан-Лоран Солитью
Камень среди камней
Аннотация
К двадцати двум годам я имел смешанное тревожно-депрессивное суицидальное расстройство, долги перед банками и несколько мрачных скелетов в шкафу, выглядывающих пустыми глазницами, полными осуждения, из своего плотно закрытого склепа, и забитый доверху гроб нереализованных мечт. Физические недуги, переданные по наследству, и расшатанную психику. Весящее тысячу тонн чувство вины, давящее на меня непосильной ношей. По ночам я слышал лай собак, глухую музыку, голоса и шёпот под ухом, всегда ожидая их прихода с отложенной в дальний ящик бритвой и пачкой таблеток от сворачиваемости крови, поддерживая в себе жизнь лишь интересом, сколько же я ещё смогу вынести? Мне нравились кофе без кофеина, безалкогольное пиво, любовь без любви и жизнь без смысла. Вселенная шутила надо мной самыми чёрными шутками. Ницшеанская чаша страданий стояла на моей грязной кухне, заполненная до краёв. Последняя капля уже нависла над ней. Медленно падает. Слышится всплеск. Где моё счастье?..
I
. Разложение. Цитадель Абсурда: Смерть моральная.
Холодный воздух заполняет лёгкие через глубокий вдох. Внизу бескрайний горизонт набережной из чёрного песка, простирающийся вдоль всего побережья. Зеленовато-голубой прибой разбивается льдинками о блестящую глядь мокрого песка. Густая белая пена протягивается бледной кистью далеко и, сгребая пальцами горсти камней, уносит их в океан, оставляя после себя переливающуюся серо-голубую сепию. Вода дышит подобно всякой иной жизни – делает выдох. Я стою на краю обрыва, вглядываюсь в безграничный прохладный пейзаж свободы. На фоне серого неба пролетает белая чайка, чей крик эхом звучит от скал в глубокой долине, разбивая монумент тишины. Мои глаза закрыты – я слушаю «Ноябрь» Макса Рихтера в месте, где всегда мечтал умереть. Мне не страшно, я не дрожу. Одна нога висит над пропастью, где внизу острые скалы омываются водой, смывающей все грехи, уносящей тёмные мысли прочь в неизвестность. Внизу меня ждёт покой. Я наклоняюсь всем телом. Выдох. Вода делает вдох.
Сегодня у меня день рождения. К 22-м годам мой багаж представлял из себя смешанное тревожное и депрессивное расстройство, кучу долгов, неоплаченный по лени счёт за электроэнергию, пару физических недугов, переданных по наследству, несколько десятков скелетов в шкафу, висящих на моей совести мёртвым грузом и чью явь для этого мира я жду с отложенной в дальний ящик бритвой и пачкой таблеток от свёртываемости крови, разбитое сердце и целый ящик нереализованных грёз. Физически я был похож на своего невысокого, скромного и в общем-то маленького добросердечного дедушку, владевшего огромным сердцем, готового прийти ко всем на выручку в любой момент, а духом был равен своему крепкому и высокому отцу-алкоголику, бывшему боксёром и скверного характера философом, которого никто не мог выносить ни в дружбе, ни в любви и который не добился успехов в своей жизни, образуя тем самым нечто среднее из всего негативного между ними – некую гротескную абоминацию. Даже здесь жизнь сыграла со мной злую шутку.
Я иногда беседовал с безымянным охранником в библиотеке, где я любил коротать свой день за кропотливой работой над писаниной в стол: я сам не понимал ради какой цели пишу, но занятие это оказывало на меня медитативный эффект – я успокаивался, что бывало редко, и чувствовал себя хоть и не прекрасно, но и не ужасно – в наше время это состояние дорогого стоит. И вот однажды мы как-то разболтались о кофе прямо на входе в библиотеку, а если точнее, то прямо под аркой металлодетектора: ситуация слегка абсурдная, но разве мы живём не в абсурдном мире? Мой личный опыт подсказывал мне, что практически всё, что с нами происходит – либо абсурдно, либо наиграно и оттого лишь вдвойне абсурдно. В общем, у меня сложилось впечатление, что мой безымянный Аргус большой любитель всякого кофейного напитка, и тогда мне захотелось угостить его хорошим капучино, который сам я, впрочем, не очень любил. Правда, я не знал, как мне провернуть это дело с ощущением «естественности»: что бы побольше реалистичности и, желательно, поменьше всей этой гадкой абсурдности.
В день моего рождения (чему я сначала по глупости обрадовался, но что оказалось, в итоге, лишь назло мне самому) была его смена, и за обедом я взял ему стаканчик кофе в, говоря на современном языке, брю-баре за углом, где я регулярно выпивал немного черного кофе, заедая сладким круассаном. Подумав, я попросил бариста, работавших тогда на смене, сделать напиток для моего условного «друга», чьего имени я не знал, погорячее – не хотел, чтобы слишком рано остыл. Возвращаясь к библиотеке, я от волнения (вечно меня преследовавшего даже в самых обыденных делах) продумывал наш диалог:
– Как сегодня кофе?
– Вкусно! Это, кстати, вам, – сказал бы я с улыбкой на лице.
– Оу, спасибо! Но почему вы решили меня угостить?
– Знаете, у меня сегодня день рождения, но я не очень-то люблю этот «праздник», поэтому мне захотелось сделать кому-нибудь в этот день что-то приятное – мои причуды. Кстати, как вас зовут? Приятно познакомиться! Меня зовут Август – будем знакомы.
Но когда я зашёл в библиотеку, мы поговорили иначе:
– Как сегодня кофе?
– Вкусно! Это, кстати, вам, – сказал я с улыбкой на лице.
– О, не, я не пью кофе, – ответил Аргус мне с каким-то разочарованием в голосе.
– Странно. Мне казалось, вы его любите, – начал я что-то бессвязно, испугано блеять.
– Перепил в своё время.
– И всё же это вам.
– Спасибо – не нужно. Я, если захочу, заплачу и попью, – он указал на автомат, делающий вместо кофе буквально ферментированную козью мочу.
– Точно?
– Да-да, проходи.
Я собирался достать из рюкзака все металлические предметы, но он опять поторопил меня своим «Проходи», то ли стараясь побыстрее избавиться от неудобного разговора, то ли оказывая мне своё охранное благоволение.
Я хотел было сказать, что мне нельзя так много кофе, да и не люблю я капучино, но что бы это мне дало? Ничего в общем счёте. Я пытался давиться этим молочным напитком – обжёгся. «Суки, перегрели!» – подумал в гневе я про себя и тут же устыдился собственным мыслям.
Хорошо, что Аргус его не попробовал, думал я, выбрасывая полный стаканчик, на котором бариста нарисовали маркером сердечко, в мусорку. Меня не покидала мысль, что в следующую его смену на его «Проходи» и игнорирование орущего металлодетектора я отплачу нагло пронесённым с собой стволом и вышибу себе мозги, сидя за любимым столом в читательском зале. Конечно, это было глупостью: я бы так не сделал, да и где бы я достал ствол? Если уж и планировать самоубийство, то тихое-тихое: как мышь забиться в дальний угол и сдохнуть, пока никто не видит. Пускай меня ищут по запаху.
Зайдя вечером на семейный ужин, я встретил бабушку, с которой мы ожидали остальных членов моей семьи. На встречу я изначально идти не хотел, но вроде как у меня был праздник, который к чему-то да обязывал меня. Намереваясь побыть в приятной компании, я взял с собой сборник Камю.
Беседа не очень клеилась – я искренне не знал, о чём поговорить, стараясь избегать разговоров о работе и отношениях, но в конце концов всё равно был вынужден отложить в сторону книгу и «увлечься» болезненными тривиальными беседами. На краткий срок меня спасла моя племянница, зашедшая забрать часть торта, оставленного для моей старшей сестры, не сумевшей, по причине лёгкой простуды, прийти на тёплый семейный ужин (хотя я считаю её простуду крайне ловко инсценированным блефом. Подметил для себя, что от детей, в конце концов, есть польза). В придачу племянница взяла пару яблок и несколько гроздьев дачного винограда. Бабушка, собирая пакет, достала из-под скатерти стола, на который я облокотился, ловко погрузившись в чтение, как опытный дайвер, тысячу рублей и сунула моей племяннице в ладонь.
– А мне-то за что? – удивлённо вскликнула её правнучка.
– Да просто так, – как отрезав, задорно сказала бабушка.
Попрощавшись с племянницей, бабушка протянула под ту же скатерть свою старую, но аккуратную «рабочую» руку, доставая пять тысяч рублей по тысячным купюрам. Думаю, изначально их было шесть.
– Ну, раз так пошло, то и тебя сразу поздравлю! Это тебе на отпуск!
Я искренне поблагодарил её за подарок, прибирая деньги в задний карман брюк, практически сразу забыв о них, возвращаясь к не очень приятному разговору.
– Про Элли не слышал?
– Нет, бабуль, не слышал. Знаю, что у неё всё хорошо.
Я лгал. В душе я хотел ответить ей: «Нет, не слышал. Лишь навещаю её иногда, и просто я люблю её всем сердцем, посвящаю ей книги и считаю её важнейшим событием в моей жизни, а ещё страстно занимаюсь с ней сексом, когда у нас есть настроение. А так нет – ничего не слышал», но я не хотел ничего говорить про свою личную жизнь, зная, что, наверное, убью бабушку этим ответом раньше назначенного времени.
– Ну, ты бы завёл себе какую-нибудь девочку.
– Зачем? Я весь в работе. Не хочу головняка.
– Ну как зачем? Развлечься немного.
– Мне и в библиотеке довольно весело.
– Нельзя же быть таким затворником!
Мне казалось, что следующим моим ответом будет: «Помолчи, пожалуйста, ладно? Как такое можно говорить?!»
– Ну, может, и нельзя. Подумаю, – всё, что я смог выдавить из себя, подтягивая к себе отложенную в сторону книгу и ожидая звонка в домофон.
Качаясь на кресле-качалке, стараясь отвлечься, погружаясь в нумерованные маленькие листы книги, я ощущал мягкое блаженство, когда шум мыслей приглушал общий гам тяжёлого молчания. На самом деле в квартире была полная тишина, и лишь настенные часы изредка разрушали нереальность происходящего своим тиком. Шумели чужие мысли, мне непонятные и неинтересные, общий эмоциональный фон, не дающий мне расслабиться, заменяющий воду, спасительную для рыбы, сухим каменным пляжем, раскалённым от солнца, на которую меня, задыхающегося и теряющего сознание, выбросило. Если бы никого не было рядом, я счёл бы это времяпровождение приятным: пустая просторная квартира, тишина, удобное кресло и приятная книга – что ещё нужно человеку для счастья? Я устыдился, что в своём молодом возрасте я находил притягательным столь старческий, пенсионерский быт. Вмиг я состарился, представив свою дряхлую, морщинистую кожу, аккуратные очки на перегородке носа, тёплый плед на коленях и чашку чая на буфетном столике. Хоть я и стыдился этого мышления, всё же оно мне нравилось, как и образ, что я видел перед собой.
Меня поглотили мысли о том, что мне может нравиться. В первую очередь в голову пришла семейная дача, на которой я отдыхал в одиночестве, не говоря никому, что я собираюсь занять беседку и сад. Каждый раз меня находили там неожиданно. Летом там всегда было хорошо, даже в самую невыносимую жару. Я укрывался от солнца на веранде, сокрытой в тени, и, качаясь в подвешенном за балки потолка кресле в форме полусферы, читал либо же любовался открывающимся видом на пышные грядки разноцветных цветов, деревья вишни и кусты чёрной смородины. Когда уставал сидеть, я расстилал плед на газоне и вытягивался всем телом, купаясь в лучах палящего солнца, отчего моя голова кружилась, как после пьянки, а кожа приобретала здоровый медный оттенок. Пропотев, я парился и мылся в бане, обсыхая затем на солнце, чувствуя, как из меня вышла на время какая-то душевная зараза, и ощущая, что моё сознание чисто, как белый лист. Я бы мог прожить так целую жизнь, если бы не надвигающийся холод, голод и моя крайняя нелюбовь ко всякого рода насекомым, которые то и дело проползали мимо моего лица.
Вспоминал я и другой образ жизни, полный беспредельных пьянок, когда я, изрядно напившись, переключал мой речевой аппарат то на французский, то на английский, если пил вино (в других случаях этого не происходило, если только не учитывать совершенно бессвязный звероподобный язык, познаваемый мною лишь после крайне крепких напитков). Во всех других случаях я либо слишком быстро достигал слабости, головокружения и рвоты, либо не мог опьянеть вовсе. Я танцевал в клубе под тяжёлый олдскульный трэп, рассасывая под языком колесо, заставлявшее меня танцевать всё радостнее и живее, выключая всякие сомнения, развязывая мне язык, делая меня самым общительным и доброжелательным человеком на всём белом свете. Колесо не было наркотиком: я из того поколения, которому для веселья прописывают транквилизаторы.
Я потел, пил, танцевал и уставал, но в одну из таких ночей я не мог напиться никоим образом, сколько бы в меня ни вливалось. Я хотел к ней, но у неё были свои планы – одиночество я топил в спирте, не доходящем до моего мозга. Шот, пиво, крепкий коктейль – повторить цикл. Денег не хватало, но хватало знакомых: кто-то угостит пивом, кто-то даст глоток из красивого бокала, угостит самокруткой. Но сладкое беспамятство не застигало меня врасплох, были у этого и свои плоды, так как очнулся я уже в её объятиях – наверное, ей стало меня жалко и оттого каким-то чудом я оказался рядом, добравшись в бессознательном состоянии (видимо, от радости меня тут же «вставило по первое число»). Что ж, пусть будет так – главное, что я был рядом, а почему – неважно.
Мои думы были прерваны звонком домофона: пришли остальные долгожданные гости. Даже на своём дне рождения я был человеком, в частности, ненужным и посторонним, чьё присутствие в беседах было чисто формальным и необязательным, и даже когда я подолгу удалялся в туалет, имитируя проблемы с желудком и поедая под предлогом лечения оных проблем таблетки-транквилизаторы, как раз таки и раздражающие мне кишечник, смех не прекращался и беседа кипела, потому что не имела ко мне никакого отношения – я был лишь поводом для обсуждения самых банальных тем, не изживающих себя уже какое десятилетие подряд. Да и в общем-то, никто и не заметил, что я поглощал таблетки или отсутствовал по полчаса. На мой день рождения я получил торт с утками, а о моих предпочтениях никто не спросил, даже учитывая тот факт, что торт был явно детский, а я не ел сладкое и сидел на диете, стараясь поддерживать себя в крепкой форме, скрывая под длинной футболкой, как мне казалось, подтянутое и довольно рельефное, хоть и худое тело. Всё же все родные подметили факт моей худобы, который тревожил меня с раннего детства и который я переборол тяжкими усилиями воли и кропотливым воспитанием своего тела. Скажи они мне, что я выгляжу хорошо или что-либо в этом роде, я бы снял с себя футболку и показал бы, что действительно выгляжу неплохо и рад своему телу, но они не сказали этого, лишь порекомендовав мне есть побольше: «Не обижайся, но худоват!». И тогда мне так и показалось: что кожа на моём черепе держится очень натянуто, обнажая скулы и лобные доли, а плечи мои были уже женских и что в целом любой мог бы меня сломать пополам одним ударом – я перестал держать осанку, осел и уменьшился в размерах на своих собственных глазах. Одежда мне стала велика, вися на мне как мешок, и на меня напала удушливая, болезненная сонливость. Руки мои мне показались слабыми, и я с тяжестью держал в руках вилку. Мне хотелось поскорее убраться домой. Меня защищал лишь тот человек, бывший мне отчимом, сказавший: «Худоба – ерунда, а вот лишний вес – уже проблема!», бывший тем же человеком, что подтрунивал надо мной за мою любовь к изучению истории виноделия и дегустации дорогих вин (которыми меня угощали знакомые, нажитые непосильным, но не совсем трезвым трудом) словами «О, собрание алкоголиков!» каждый раз, когда замечал меня за одним столом с бутылкой омерзительной кислой дряни «Крымский погребок», которую я не пил бы, даже будь я действительно алкоголиком. Делал он это лишь потому, что на Новый год я подарил маме прекрасный полусухой немецкий рислинг, а он, переборов в себе всякую притязательность к водке, считал, что пить спиртное не умеет вовсе никто, клеймя каждого без колебаний.
Я как-то ранее имел неосторожность обмолвиться, что занимаюсь плаванием, за что был вознаграждён этим днём подарком в виде полотенца, о стоимости которого был сразу же оповещён: «Вот так цены! Полотенце стоит тысячу рублей! Ты плаваешь, вот я и подумала, что тебе бы новое полотенце, а то ты поди ходишь со старым – позоришься», – сказала моя мама без злого умысла, не подумав спросить меня, есть ли у меня новое чистое полотенце, которое, конечно, у меня было. «Да, конечно. Спасибо, мама», – улыбчиво ответил я.
В общем-то, все знали о моём увлечении литературой, но никто не вёл со мной бесед, интересных мне. Я любил говорить о вещах, стоящих внимания: о любви, о смысле жизни, о творчестве, об искусстве, но, будто специально, такие темы не поднимались в моём присутствии, или же всегда такие разговоры заканчивались ссорой. Порой я говорил вполне серьёзно, что я пишу сам, но им это казалось детским лепетом. В утро этого дня я наполовину дописал свою книгу, которая спасала меня от самых мрачных мыслей в тяжёлые дни, но никто не спросил меня о моих успехах, даже когда я пытался об этом заговорить, – это было лишь хобби, сравнимое с оригами или йогой. Куда важнее было спросить меня о работе, сделавшей из меня больное и закрытое существо, принёсшей мне столько боли и разочарования, как давно ничто не приносило, обсуждать которую я не любил. Деталей требовало моё фиаско, которое я давно проработал и принял, но которое теперь необходимо было ковырять тупым ножом, как старую, плохо заросшую рану. Стоило мне сказать пару бессмысленных фраз, и я завоёвывал пьедестал главного оратора вечера, от которого просили ещё и ещё. А в конце им было необходимо выразить мне сочувствие, поддержав меня в каждом слове, что было сгоряча брошенным оскорблением в сторону просто душевнобольных людей, о произнесении которого я жалел. Приукрасить своё сочувствие нужно было мудрыми предложениями о смене работы или переезде в другой город в поисках смены обстановки и карьеры, а когда я пытался защитить свою душу, говоря: «Знаете, я, в общем-то, хотел бы быть писателем и посвятить этому свою жизнь, даже если бы это скверно меня кормило», я встречался лишь с разочарованными, наиграно вдумчивыми, но ни о чём не думающими в существе взглядами и кивками головы.
Сидя за столом, я думал: «Что, если их всех не станет? Если за этим столом буду сидеть лишь я один в этот же день?» Не находил в душе никакого скорбного отклика, свойственного, как мне кажется, нормальному человеку. Я чувствовал покой и умиротворение, отсутствие головной боли и комфорт. Я не ощущал никакой привязанности или нужды в этих людях, бывших мне роднёй лишь генетически, но не имевших со мной ничего общего, ничего, что объединяло бы нас в касту платонической взаимной любви. Я знал, что не будь я сыном и внуком, эти люди сочли бы меня наиболее неинтересным, гадким, невоспитанным человеком и в целом тварью, которую ещё нужно поискать. Они были пленниками убеждений, в которые сами верили поверхностно, не желая погружаться в них, видимо интуитивно чувствуя опасность правды, скрывающейся за вуалью предрассудков. Я представил себе похороны, на которых буду раз за разом присутствовать, ведь рано или поздно этот момент настанет. Ощутил ничто: я не думаю, что стал бы плакать, рыдать и скорбеть, убитый горем. В конце концов, им ведь повезло больше, чем мне – они уже мертвы и свободны, обрели свой покой – радоваться нужно за умерших – им больше нет до нас дела. Выждав долгую и унылую процессию, приняв все сочувствия и хлопки по плечу, сопровождаемые словами «Крепись, сынок», я бы подыграл, накинув на лицо маску горя и рассадив всех по машинам, выдохнул, отправившись за бутылкой вина в одиночестве, зная, что теперь в мире на одного человека, способного меня по-настоящему потревожить, меньше.
К концу вечера я чувствовал себя униженным, изнасилованным и распятым этими милыми, простыми людьми и чувствовал себя скверно, ощущая такой поток гнили, рвущийся рвотой из моей больной души в сторону людей, любящих меня непонятно за что. Порой я мечтал, чтобы они изгнали меня из семьи, вычеркнув из своего генеалогического древа, лишив меня фамилии и данного мне от рождения имени. А ведь я почти добился покоя в этот день, и даже заранее мне сказали, что не тронут меня, оставив в покое. И всё же в последний момент мой единственный, принадлежащий мне по праву из всех 365 в году день у меня забрали, вырвав меня из моего тихого покоя, изъяв из рук книгу авторства Альбера Камю. Лишь факт того, что практически никто не писал и не звонил мне в этот день, хоть немного меня успокаивал и томил надеждой, что в следующем году никто не напишет мне, не позвонит, не поздравит, не позовёт на тяжёлый, полный тревог и печалей семейный ужин, зная, что я человек холодный и нелюдимый, недостойный никакой любви и заботы.
Закончил день лёжа в горячей ванне, думая о смерти, рассасывая под языком свой любимый десерт – транквилизатор, спасавший меня от всех проблем, за что я платил лишь небольшой головной болью и сонливостью.
Проснулся я, лёжа рядом с любимой женщиной, за два часа до будильника и тупо уставился в потолок. Ночь была не страстная, хотя я на это надеялся, но всё же довольно милая: мы смотрели глупую комедию, которая мне нравилась, как бы я того ни хотел, смеялись и немного танцевали. Она ела пиццу кусок за куском (её аппетит стал неистов в последнее время), а я знал, что это обрекает меня на прохладную ночь (в связи со вздутием о сексе можно было и не думать), – есть не хотелось, хотя я чувствовал, что мой желудок пуст. Я курил электронную сигарету, дым от которой при малейшем попадании света в квартиру открывался непроглядной пеленой в непроветриваемой студии, а моё сознание постепенно притуплялось никотином.
С утра я был зол и походил на изголодавшую и нелюдимую псину: в голове был бред, а оскал непроизвольно оголял злые клыки – мне не спалось ночью, хотя до этого я не спал 23 часа: думал обо всём, пытался внушить себе любовь и понимание, эмпатию, притуплял голод либидо размышлениями о высоком, думал о книгах и многом другом – короче, ни о чём вовсе. Очнувшись, я всегда сталкивался с самим собой, лишённым всякого прикрытия в виде львиной доли аптеки, поглощённой мной – я не нравился сам себе по утрам, но это всё же был я, размышляющий лишь о том, как бы поскорее добраться до своего десерта, не желая выползать из тёплой постели.
Я хотел поцеловать Элли в щеку, но она не поддавалась, ворочаясь, толкая меня, прося подвинуться, и в общем была со мной груба, в конце концов отвернув моё лицо ладонью. Я повернулся к ней спиной и злобно пыхтел, лёжа на боку, обнажая не чищенные с вечера зубы, думая о своём, а потом иронично улыбнулся: людской холод делал меня счастливее, и я чувствовал себя как рыба в воде, хотя по натуре своей человеком был нежным и тактильным, но в последнее время лишь получал болезненное удовольствие морального от отсутствия так желанного мною тепла. Минут на двадцать я забыл про неё, думая, что лежу один, но потом, услышав её неспокойный сон, обратил на неё внимание. В этой жизни только ей я позволял трогать себя, всех остальных же я старался как можно сильнее «укусить» за протянутую ко мне руку. Я успокоился, зная, что это эффект антидепрессантов, которые она пила, смешанных с выкуренной сативой: ей не хватало дисциплины, и лечение вряд ли ей помогало, делая её лишь более вредной, но всё же я её любил.
Встав с постели, я выпил пол-литра чёрного кофе колумбийского происхождения натощак, прикуривая: сварил я его на норвежской капельной кофеварке – это был мой ритуал, каким являлась для кого-то утренняя молитва или зарядка. Желудок моментально скрутило от вечерних таблеток, отсутствия завтрака (я съел один сырник, оставленный с вечера на столе), курения и кофе. Я умылся, почистил зубы, а выходя из ванны, обнаружил, что Элли пыталась очнуться, находясь всё ещё в полусознании, чувствуя аромат свежесваренного кофе. Я не хотел к ней подходить, но чувства взяли надо мной верх: она была самой красивой женщиной на Земле даже поутру, вся растрёпанная и помятая, со смытым макияжем, и принадлежала мне одному. Переборов себя, я проявил несколько безуспешных попыток вытащить её из сна, встречая мощное сопротивление, которому позавидовали бы стоики, гордившиеся своей нерушимой волей. Только вот её воля была целиком направлена на продолжение сна, игнорирование работы, будильников и меня. Всё же со временем она пришла в себя, с закрытыми глазами куря и попивая кофе. Я сказал, что уйду через пять минут: мне хотелось сесть за работу – я думал о выступлении, в котором объявлю о внутреннем самоубийстве, обсуждая книгу, мною извергнутую в состоянии затяжного непризнания душевной болезни, которую я подарю своему альтер-эго.
Элли извинилась за своё поведение, оправдываясь тем, что ничего не помнит, – я верил ей, зная её слишком хорошо. Поцеловала меня, дала прижаться к себе, подарив несколько крошек нежности, размягчивших моё сердце. Я не стал задерживаться, надел костюм, плащ, собрал вещи и ушёл.