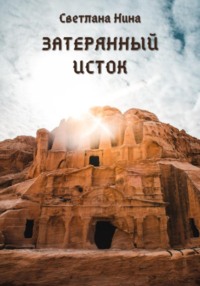
Затерянный исток
Предшественник Сина, первый муж Мельяны и отец ее единственной дочери Иранны порядком надоел населению развеселыми пирами и чрезмерной любовью к напитку из перебродившего винограда. Он сварился в купальне, куда невзначай подали кипяток. Поговаривали, что случилось это после того, как царь пообещал ощутимую награду хирургу, который сделает ему женский орган. Впрочем, многие придворные были недовольны случившимся и опасались уже за свои владения и жизни.
– То есть власть имущие пытаются отнять у каждого жителя города шанс вознестись благодаря собственным способностям? – спросила Амина в негодовании.
Она серьезно уставилась на Арвиума, поскольку он в ее глазах являлся средоточием земных начинаний и забот, в которых так мало была сведуща она. Все действия его направлены были на сиюминутное, материальное, к чему Амина относилась с налетом пренебрежения, хоть и сама не прочь была угоститься свежей лепешкой.
– Каждый пытается себе ухватить кусок получше, – обыденно изрек Арвиум.
– Но из этого ничего достойного не выйдет.
– Мне лень размышлять об этом. Впереди пир в честь присоединения той провинции… Запамятовал, как ее нарекли местные. Приходи и ты.
Амина изящно повела ладонью, как бы не без сожаления отказывая. С детства она грустила от чужого веселья, в которое не была вовлечена. Но и вовлечься пыталась вяло, переставая пытаться после первой же смутной неудачи.
– Будете ликовать от награбленного?
– А ты снова будешь наблюдать за звездами, вместо того чтобы жить?
– Истинность этого только мне определять.
Арвиум опустил на Амину горчинку сдвинутых бровей. Слишком премудрая и закольцованная в своем деле, Амина пыталась затянуть его в недосягаемые выси астрономии и мифологии, а ему хотелось сиюминутных удовольствий. Мелькающая в ней ласковость плавных линий перерубалась, как только она считала нужным раскрыть рот. В остальное же время она будто смотрела сквозь него, девочка, с которой они вместе выросли в прохладе мозаичных бассейнов великолепного дворца, ставшего им обоим домом. Оба были в какой-то мере пришлыми здесь. Амина, младшая сестра Мельяны, принцессы крови и первой жены Сина. И Арвиум, корзину с которым Оя выловила в священной реке двадцать четыре года назад и решила оставить мальчика себе.
6
Народ Уммы искренне верил, что государством должны править простолюдины-выскочки, стремящиеся изменить свое незавидное положение ремесленников. Благодаря обычаю четкой сменяемости правителя не должно было возникать конфликтов правящих семей. Да и дети, появившиеся от союза принцессы и простолюдина, чаще всего были сильны и выносливы.
Приближенные к трону мудрецы высокомерно изрекали, что простолюдины не обучены наукам. На это находилось достаточно возражений, что способ Сиппара передавать власть вырождающимся сыновьям еще глупее, ведь каждое поколение все разительнее отдаляется от основателей династии. В Умме же всегда находились тайные и явные советники, возлагающие на себя бремя по обучению нового царя или правления за него. Принцессы же, рождаясь самыми желанными младенцами в государстве, становились заложницами изысканных узоров на коже.
Выиграв когда-то состязание за право быть властелином Уммы, Син столкнулся с радушным приемом в чертоге своей нареченной. По указанию принцессы в его наряд для пира в честь воцарения завернули ядовитую змею, привезенную Мельяне из ослепительного западного края, славящегося своими грандиозными построениями. Не помогли Мельяне ни ласки, которыми Син умасливал ее в опочивальне, ни его планы по освоению близлежащих селений. Должно быть, новичку во дворце стоило набраться приемов у мальчиков верховной жрицы, которых обучали тонкостям ритуалов прикосновений.
Родив Иранну, Мельяна рассчитывала погрузиться в мир неги, фонтанов, висячих садов и караванов. Она намеревалась посмотреть иные земли, послушать чужеземные легенды. Она никак не ожидала, что жрицы вновь заставят ее выйти замуж. Но Иранна была совсем девочкой, а в городе наметился кризис передачи власти.
Мужу она с порога сообщила, что воспринимает его наемным батраком, занимающимся государственными делами за нее, ибо ей не пристало мараться о приземленность. А Сину не по нраву оказалась роль слуги. Не в силах терпеть облик, нелепые амбиции и непоседливость Сина, а, главное – новый срок дворцового заточения, Мельяна осмелилась поставить ультиматум всему городу. Что, мол, править хочет единолично, и пусть собрание люда под стенами дворца решает, изгонит ли Сина. И нежданно Мельяна проиграла – народ, оповещенный с балкона принцессы, выбрал весельчака Сина, а не надменную правительницу, не показывающуюся из дворца иначе как на носилках. Мельяна, испытавшая – кто знает? – облегчение, отказалась от притязаний на престол и уплыла в неизвестную сторону. Но Син все не мог почувствовать себя полноправным правителем, потому что Мельяна оставила в Умме свою дочь, Иранну.
Советники прошлого царя уже распределили сферы влияния за спиной новоявленного. Но Син, этот неблагодарный выскочка, не прислушался к старожилам, посоветовав им греть кости у каменной печи, вырытой в каждом доме Уммы. Отодвинуть от трона изнеженных, зацикленных на косметике и почестях подхалимов Сину, заручившемуся поддержкой Ои, не составило труда. Вельможи толком не понимали, как вести дворцовые козни и сдались нахальству пришлых.
7
Ое, простолюдинке, не просто пришлось в государстве, где каждая женщина правящей династии была наместницей богов на земле. Конечно, уязвленная Оя выдумала легенду о том, что ее родители были разорившимися знатными вельможами. Но вот беда – в это никто не желал верить. Зато она с малолетства знала, как построен труд ремесленников и земледельцев, предпочитая не давить их податями.
По прошествии многих лет Син смутно помнил, чем был без нее. В день их встречи он, недавно получивший власть и озабоченный вялотекущим заговором против него, решился хотя бы на время оставить сытый, душный обиход дворца. Рвался он и к полноводным рекам, дарующим пищу растущему городу, и к свободе уединенных земледельческих равнин. Чтобы вдохнуть ту, прошлую жизнь с пересеченными полями и зоркими девицами в отбеленных солнцем платьях из шершавой сваленной шерсти.
Новоявленный царь, одурманенный мазью от зубной боли, повелел своей свите остаться на берегу, а сам побрел вдоль русла реки, смакуя животворящий аромат тины. Сел в лодку с перевозчиком, лицо которого скрывал плащ, кинул ему на колени маленький токен из глиняного сосуда, равный банке меда. Перевозчик покосился на подношение недовольно суженным глазом, но от берега отплыл.
Капюшон спал с дуновением ветра, рожденного на воде. И Син увидел печаль бед на юном лице с прозорливыми глазами. Не спрашивая, что тревожит девушку, он придвинулся ближе. Она без слов бросилась на другой конец лодки и прошипела, что ей предпочтительнее сгинуть в воде, чем уступить незнакомцу, пусть он и богат. На другом берегу маячили необжитые земли, за которые не нужно было даже убивать соседние племена. И следом – прерывающаяся граница с Сиппаром, запретным городом с закрытой душой. А Син вместо честолюбивых соображений с удивлением взирал на гордую чужеземку, удивляясь ее разборчивости. Молодые девушки в его окружении не были столь щепетильны. В отказе он узрел не чистоту помыслов и даже не взбалмошность, а большое чудачество. Молча они причалили к суше.
Но Син вернулся. Что заставило настороженную девушку пойти за ним, он понимал только интуитивно. Его и самого скребанула невыносимость затворенного уклада этих окраин и взгляды людей исподлобья. Уже тогда его подтачивала мысль, что его невеста с ужасом не оглядывается за плечо.
Оя вступила в город построений, заслоняющих солнце, с распухающей и опасающейся надеждой. Чужеземец из Уммы, которую побаивались и о которой злословили ее соплеменники, подкупил ее своим отличием от угрюмых земляков, занятых выживанием и остервенело ненавидящих любого, кто алкал лучшей жизни за пределами этого огороженного лабиринта. Отросшая борода Сина, которую он вовсе не спешил брить, и искорка насмешки при взгляде на несовершенства мироздания контрастировали с нарочитой серьезностью ее клана – запреты сделали их характеры недоверчивыми и порицающими любую неугодную им пропорцию.
После верблюдов и шатров на иссушенной земле глаза Ои расцветали каждое утро, наблюдая скольжение солнца по плоским крышам с отверстиями дверей. Заклятого, мгновенного обрывающегося в угасание, но неизменно возрождающегося солнца. Некоторые крыши блистали изумрудами листвы и диковинных цветов, нарочно рассаженных в этих одноцветных краях скучающими по зелени переселенцами. Поняв назначение высоких статуй, облепляющих храмы и площади, Оя с благодарностью пила блага чужой деятельности. Хоть и воспоминания о прошлом нередко изнутри резали упокоенность ее кожи.
8
Мельяне было неинтересно заниматься своей дочерью Иранной. Слишком давящим оказалось бремя материнства, такое же разочаровывающее, как и выскальзывание из ее рук власти. Переписка с матерью не спасла Иранну от тоски по дому и озлобленности на родительницу и остальной мир. Своей словоохотливостью она остервенело старалась загромоздить все пространство от стен до потолка, вторгнуться в чужое внимание и непременно закрепиться там, замещая отсутствие себя в матери.
Покинутая матерью, раздраженная подозрительными обстоятельствами смерти отца, Иранна постепенно стала несдержанной в выражении собственного неудовольствия. Хотя она каждый день ждала, что вот-вот вновь объявится в здешних краях Мельяна, взяв под защиту и ее, и всю Умму. Иранна даже согласна была исправиться ради матери, чтобы та, наконец, увидела, как она хороша. И что Мельяна покинула ее несправедливо.
Даже Амина, единственная девочка, приближенная к трону и освобожденная уже от игр с Арвиумом и Галлой, обособившимися в мужском мире тренировок, не спешила сближаться с ней. Да и Иранну не прельщала отстраненность Амины, вечно витающую в скучных фантазиях. Однако, Иранна не видела и не понимала, как жаждет Амина быть ближе к ней, но и как боится этого сближения, сулящего отвержение. На островах юности у них прибавилось общих тем для обсуждения. Амина перестала бояться порой бездумной оголтелости дочери своей единоутробной сестры. А Иранна перестала расценивать неспешность тетки как забитость. Иранне было неинтересно разбираться в причинах нравов и явлений – она не прислушивалась к другим, а лишь читала им тирады, глубоко ранясь неодобрением в свою сторону. Столкновение с криво слепленными умозаключениями других стало самым невыносимым, но и самым интересным, что пришлось пережить обеим.
Они часто оставались вместе, брошенные всеми. И со смехом Амина узнала, что Иранне внушили, будто Амина была холодна с ней, потому что претендовала на ее место. Дружелюбное безразличие Амины к Иранне уступило место бережной жалости, когда она поняла, что на самом деле означают богато расшитые наряды и предания о принцессах минувшего. И что высокое положение вовсе не сотрет ни боли от смерти отца, ни предательство матери, ни склизкое ожидание предопределенной кем-то другим участи.
Воспитываясь во дворце с обилием прихвостней всех мастей, Амина, вместо того чтобы польститься на обманчивое внимание к ее статусу, чувствовала себя покинутой и научилась мириться с этим. Тем удивительнее и слаще было откровение, что Иранна отвечает, если спросить ее. И улыбается в ответ на проказу.
Иранна состояла во внешнем, земном, держа в уме все дворцовые интриги и всех торговцев сердоликом. Принцесса будто просыпалась, чтобы послушать новости дня – кто и почему умер, кто нарушил общественную договоренность, а кто соблазнил чужую жену, из-за чего потом был изнасилован ее мужем с одобрения совета города. Иранна зазывала Амину в быт знати, в полупрозрачный период наслаждения экзотическими тканями и сплетнями. И это даже захватило ту в польщенность сопричастностью с другими людьми. Но небеса с их неизведанностью манили куда сильнее.
9
Амина вошла в едва освещенный зал. Начиненность нотами и запахами опьянила ее молниеносно. С нарастающим зноем приходила изможденность, оттенение, желание скрыться в подземном мире вслед за доблестным царем – защитником.
По периметру святилища на коленях стояли незнакомые женщины, некоторые явно в ожидании материнства. Амина удивилась, потому что Лахама запрещала плотские утехи своим жрицам и с прохладцей относилась к замужним женщинам, а в немногочисленном сословии рожениц вовсе видела обслугу.
Лахама блистала в красной накидке из перьев и короне, обрамляющей ее волосы золотыми листьями.
– Боги даровали мне свою благодать… В день священного ритуала возрождения.
Собравшиеся женщины издали одобрительный гул. Лахама, недобро улыбаясь, пресекла их. Наркотический транс с вывернутыми внутрь тел глазами постепенно опутывал сборище.
– Мне было видение о крушении Уммы в огне. Это же предрекал наш возлюбленный провидец Хаверан.
Женщины безотрадно зашептались. Хаверан, эксцентричный старик в невообразимых свертках пестрой ткани, пользовался особенным почетом в Умме, хотя на памяти целого поколения ни одно из его громогласных пророчеств не оправдалось. Тем не менее при жизни провидца посетителей в его доме не убавлялось. Они несли ему подношения в надежде вылечиться, а он говорил им, хвори приключились с ними из-за одержимости злыми духами.
– В знак особого уважения к милости богов, одаривших меня, зачатый в день возрождения будет принесен в жертву ради процветания Уммы.
Женщины озарились расслабленными улыбками. Амина ненароком подумала, что подобное святотатство производится в этих стенах не в первый раз. Она догадывалась, что проводимые здесь культы не просто так сокрыты от всего прочего мира, и дело здесь далеко не в вине, сушеных фруктах и болтовне. Мужчин категорически не допускали на эти мистерии ни под каким предлогом. Если бы это все же произошло, всем беременным было предписано под страхом кары богов вызвать выкидыш, потому что дети по убеждениям собравшихся в тот же момент оказывались прокляты Араттой еще до рождения. Опасения эти брали свое начало в глубокой древности, когда проникший так на служение богини плодородия раб принес с собой неведомый ранее в этих краях недуг. Женщины, носящие в тот момент детей, занемогли красными пятнами по всему телу, а в положенный срок разродились уродцами.
В зал внесли котел, наполненный испаряющейся водой. Следом шла повитуха с пучком неведомых трав на подносе. Быть может, привезенных с Острова благоденствия, с которым только зарождались торговые пути. Или собранных высоко в горах, где раскидисты кипарисы над обрывами, а в скошенных скалах над пустотой низин запрятаны редкие домики отшельников.
Раскачиваясь на коленях и затянув старинную песню о женской доле, повитуха начала заваривать траву. Лахама, читая молитву Аратте и заклиная ее даровать благословение за эту жертву, залезла в сосуд с горячей водой. Испив настоя, поданного повитухой со сморщенными ладонями, она велела всем собравшимся по кругу читать песнопения. Повитуха вытащила из складок серой туники слепленную то ли из переработанной травы, то ли из экскрементов крокодилов горошину и велела Лахаме ввести ее в себя. Амина с беспокойством наблюдала за главной жрицей, а та, бледнея наперекор огневой воде, встретила ее взгляд и одобряюще рассмеялась, потряхивая черными локонами.
Амина припомнила древнее поверье, что будущая мать должна съесть плод любого дерева, чтобы скрытая в нем душа возродилась в ребенке. Должно ли это означать, что одним правом рождения дитя не имеет души?
Мучительные часы ожидания и слипшегося с душным воздухом беспокойства завершились стонами Лахамы и ее кровью, крестоцветами распластанной в непроглядной воде.
Амина пытливо всматривалась в результат причудливого сговора женщин, надеясь рассмотреть в сгустках, марающих плиты пола, человечка. Никто не учил ее, как выглядит ребенок в утробе. Но то была лишь обильная кровь, ничем не отличающаяся от крови фаз луны.
– Отведи меня в мои покои, – пролепетала Лахама, скрючившись от завершающей судороги.
Беззащитная, молчаливая Лахама… Не задернутая условностями и осведомленностью по любому поводу. Затихла ее непререкаемая энергия, заставляющая даже самых неспешных прислужниц работать на пользу храма, и Амина испытывала противное чувство беспомощной растерянности. Проходящая мимо молоденькая жрица бросила на Лахаму взгляд упрека и сжала губы.
– Что ты чувствуешь? – спросила Амина, опасаясь переступить дозволенное.
– Все-то тебе интересно…
– Нам дано испытать не все. Вот и питаешь себя драгоценностями чужого опыта.
– Чтобы не совершить того же?
– Чтобы узнать. Чтобы жизнь испить. Чтобы понять, – лицо Амины вырезалось из полутьмы блеском глаз.
– Ты думаешь, я чувствую сожаление о своей женской судьбе? О плодородной чаще, которой должна быть, но не буду из-за ноши власти?
Амина отвела глаза. Они вышли под звезды. Выбившиеся из пучка на ее голове волосы сочились свечением на стыке лунного серебра извне и каштана ее родного цвета.
Лахама помрачнела.
– Не суди предписанным. Я чувствую лишь освобождение. И измученность. Не понимаю, как находятся женщины, делающие своим призванием ежегодные боли в сотни раз сильнее.
– Мне всегда казалось, что им особенно не приходится выбирать.
– Прежде это наделяло статусом… А в писцы шли кривые и хромые, не надеющиеся заполучить мужа. Сейчас же прежнего почета роженицы больше не видят. Угасают древние культы проматери. Да и зубы себе нужнее.
10
Арвиум ворвался в низкий дом Хатаниш, оттолкнув ее престарелую мать. Заметался по комнате, где остались ее подушки, плед и глиняные сосуды для питья. На металлическом столике не было лишь ожерельев из ракушек.
– Они увели ее с собой, – посетовала мать, а в складках ее морщин затаилась влага.
Арвиум скорбно ссутулил внушительные плечи. Граница с Сиппаром испокон веков приносила местным горе.
– Ты же главный в войске. Ты следить за этим должен.
– Я племена усмирял.
Арвиум припомнил одурманивающие встречи на исходе сумерек. Припомнил и то, как спас ее под упавшей колонной, когда в восточную область Уммы вторглись кочевники. Эти земли никогда не были спокойными. Арвиум недоумевал, почему селяне не оставят их опустевшими. Пусть займут эти земли беглые, которым больше нигде не рады. Воспитаннику дворца, не помнящему родины, невдомек было, что в людях поколениями тлеет нежность к лелеемой почве, жирной после разлива рек и сухой в летний зной.
Чем ближе к восточной границе, тем скованнее были девицы, тем больше довлел над ними вердикт семьи и соседей. Хатаниш будто ненавидела его за легкость ступания по жизни, а он был слишком ослеплен зноем и вкусом, чтобы оглядываться на нее.
Хотел ли он заключать с ней союз на глине, хотя бы на пять лет? Должно быть, да, потому что она носила ребенка, а обеспечивать его наследством без этой формальности было бы сложнее. А Хатаниш озлоблялась на него все больше по мере того, как он выжидал время, ни на что не решаясь.
Мать Хатаниш из сословия рожениц прежде пользовалась покровительством богатых. Но вот она перестала рожать, растеряв все зубы и согнувшись в спине. И поселилась в убогой лачуге. И никто не вспоминал о ней кроме младшей дочери, воспитанной в доме богачей, но помнящей мать. Хоть ее покровители и не одобряли ее отлучки на границу с враждующем городом – братом.
11
Арвиум опасливо вступил на неведомую землю Сиппара. К его удивлению, город мало отличался от Уммы. Лишь дворцы главных чиновников представали великолепнее, а женщины, покрытые вуалями различной плотности и расцветок, смотрели только себе под ноги. Так же он подивился размаху Сиппара, который жители Уммы считали отсталым и менее утонченным. Сиппарцы с их строгим регламентом, должно быть, запутались бы в узлах брачных вариаций Уммы.
Благодаря словоохотливости купцов Арвиум отыскал Хатаниш в доме влиятельного вельможи. Он вторгся туда якобы для негласного обсуждения возможного перемирия между городами.
Хатаниш полулежала на кушетке из связанного тростника, накрытой изящным покрывалом. Ее ноги и руки поражали своей гладкостью – к покоям владыки ее подготовили тщательно. Умиротворенность ее позы заворожила Арвиума. Воспользовавшись тем, что советник главы города отвлекся, он подошел к ней вплотную. Хатаниш, не разворачиваясь, повернула голову и остолбенела. Он надеялся прочесть в ее взгляде ликование, а наткнулся на суженую враждебность.
В его голове нежеланно пронеслось, что произошло с Хатаниш между их встречами. Жалость и омерзение всплыли следом – она словно потускнела в окраске этого допущения.
– Эта жемчужина ниспослана нам богами, – сладострастно произнес человек, считающий Хатаниш своей собственностью.
Хатаниш вальяжно поднялась и, подозвав прислужницу, удалилась, переливаясь бликами серебряных нитей своей облегающей туники.
Вечером Арвиум исхитрился поймать ее в укромном уголке дворца, подкупив ушлых прислужников.
– Я не желаю возвращаться, – стиснув зубы, заявила Хатаниш.
Арвиуму стало не по себе. Пока она умоляла его узаконить их союз, он ощущал куда большую уверенность. Ее раскрепощенность благодаря прикосновениям другого мужчины будто вселила в нее и большую власть. Неужто неверны россказни о грубости сиппарцев? А быть хозяином Хатаниш и единственным хранителем ее детей вдруг показалось Арвиуму насущным. Пусть отвлекается на детей, а не вступает в борьбу с ним!
– Что за блажь? Я отвезу тебя домой. Все будет как прежде.
– А я не хочу, чтобы было как прежде. Здесь меня осыпают почестями. А от тебя я получила только стыд и страх будущего.
– Какая же ты… А ребенок?!
Хатаниш молчала, бесцветно глядя на песочные стены.
Арвиум не понимал, вернулся бы он за ней, если бы не это.
– Не смей винить меня в случившемся, – добавила она с хриплой жестокостью.
Нежданно припомнила она запах лепешек по рецепту пращуров, разлетающийся по внезапной темени закатов ее родного края. С сестрами, давно умершими от лихорадки, самозабвенно играли они в тряпичных кукол. Детство провалилось в такую бездну, что казалось уже смытым и по странности не забывающимся сном. Теперь же эта насущность приволья сменилась мечтами о небольших покоях, из которых не обязателен выход.
– Не виню, – сказал он не очень уверенно.
– А что я видела от тебя?!
– Разве ничего?
Хатаниш рассмеялась. Арвиум обдумывал что-то, покусывая губу.
– Ратные подвиги? Золото?
– Не смей во мне сомневаться!
И он схватил Хатаниш под колени, взвалил себе на плечо и размашисто направился восвояси, будто вовсе не опасаясь погони.
12
Отливу волос Лахамы сиротливо не доставало чешуи золотых обрамлений. Амина стояла поодаль и с выдержанным чувством избранности внимала ее витиеватой речи.
– Ты – моя лучшая ученица. Остальные испытывают тягу к мужчинам. Я не могу растолковать им, что плодородие уже – не обязательный культ. Сословие рожениц справляется с этим куда лучше неподготовленных девчонок. А они могут стать хоть писцами, хоть пивоварами.
Опустив глаза, Амина подумала, что достигла определенного мастерства в выставлении себя умнее и безгрешнее, чем была на самом деле. Потому что и она заглядывалась на юношей на базарах и состязаниях. Только она и сама свято верила в то, что говорила Лахаме, в собственных глазах расщепляясь на мир идеальный и тот, который преследовал ее своей исконной неотвратимостью.
– Безбрачие – не травмирующий обет, а освобождение, – невозмутимо продолжала Лахама, словно Амина не знала ее пристрастий к юношам. – А они мучаются из-за него, подумать только!
Лахама разморено провела ладонями по своим бедрам.
– Если бы мы только могли ввести единобожие, чтобы прекратить распри…
– Я не понимаю саму эту идею, – с сомнением подхватила Амина. – Это так же безумно, как и приписывать все достижения разнородного человечества кому-то одному…
– А я слышала, что некоторые мыслители и вовсе отвергают идею существования бога в пользу некой пропорции всего сущего. Это разве не кажется тебе безумным? – с усмешкой изрекла жрица.
Амина ничего не слышала об этом и с досадой решила смолчать, чтобы не показывать свое невежество.
– Только представь! Мы вышли из ниоткуда, из глубин воды или лесов… Всего боялись, во всем видели суровую стихию. Все было одним сплошным непониманием и борьбой… Людей одолевало желание запечатлеть себя в бесформенных фигурках богинь – матерей. Мы находили такие при строительстве храма. Кто знает, какой смысл вкладывали в эти фигурки первые скульпторы? Мы можем только мечтать о догадках об этом. А потом… потом мы поняли, что можем обуздать стихию при обучении от старших к младшим. Наше сознание уже не было столь затуманенным, в нем появились связи, ответы как результат наблюдения и работы… И мы создали великие мифы. Возвели неописуемые храмы. И теперь мы в точке триумфа человечества. Все, что имеем, мы создали сами в силу своей особости. Есть от чего потерять голову, верно? А глупцы лишь жалуются на тяжкую судьбу.