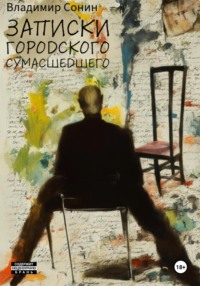
Записки городского сумасшедшего
И здесь Оле какое-то чутье подсказало, что надо раскрыть тайну и сообщить, что все богатство ее мужа – не более чем плод ее воображения, и вообще то, что она писала на заре их знакомства, – только милая шутка, чтобы показаться более привлекательной предмету обожания. И она рассказала, как было на самом деле: муж ее, Рома, – тракторист и зарплату имеет не более двадцати тысяч в месяц, да и то не всегда. Остальной приработок, который бывает время от времени и который еще меньше, приходит не вполне легально, так сказать, мимо кассы (что, впрочем, обычное дело)…
Злой рыцарь от такого положения дел пришел в негодование и, несмотря на всю глубину чувств (и, конечно, ввиду всего коварства своей души), не смог простить возлюбленной обмана. Как ни пытался он с собой бороться, но, следуя велению своей дрянной природы и совету матери, на другой же день посадил обманщицу в такси и отправил домой к законному супругу. Не остановил негодяя и тот факт, что Оля была от него беременна.
Рома принял жену с распростертыми объятиями. Той, другой, он велел убираться прочь и не занимать больше законное место его любимой жены на семейном ложе (сам, однако, подумал, что теперь опять придется неудобно трахать ее за клубом). Роминого благородства хватило с лихвой, чтобы и простить факт побега, и смириться с фактом нахождения чужого ребенка в животе у супруги. Конечно, поорал он на нее, пообзывал последними словами да пощечину дал. Но это так только для проформы: благородство благородством, но и размазней казаться нельзя.
И с этим радостным событием – возвращением Оли – все беды разом ушли: отца снова закодировали, брата выписали из больницы, и ее родители снова благословили дочь на счастливую семейную жизнь («главное, чтоб ей лучше было»).
Здесь настает счастливый финал нашей истории, рассказанной весьма сжато, но содержащей страсти, любви и благородства, кажется, столько, что самых скупых на чувства зрителей заставила бы пустить хотя бы одну слезу – слезу радости за героев. Мы же рассказанным и ограничимся, предоставив право на остальную работу тем, кто занимается этим профессионально, если они найдут эту историю достойной превращения в шедевр мелодраматического киноискусства.
Что до моего мнения, так я убежден, что сценарий вышел бы не хуже, чем бывает у них, в кишащих страстями жарких странах, а то и еще чувственнее, на зависть всем – в этом мы тоже преуспеваем, не говоря уже про все остальное.
Конкуренция
Иван Михайлович стоял на сцене, важный и гордый, и декламировал стихи собственного сочинения немногочисленной публике. Сейчас он произносил строчки, особенно им любимые:
…А сейчас не то, что раньше!
Ложь и подлость миром правят!
Вот вопрос: что будет дальше?
И кто теперь это исправит?
Говорил он это с такой интонацией, будто самые насущные вопросы им подняты, будто голос всего нашего многострадального народа звучал в этих строках, будто сейчас вот они будут произнесены – и народ наконец услышит и поймет то, что давно уже должен понять, и сможет зажить без подлости, лжи и такого прочего, с чем он, по мнению автора, жил раньше. С большим пафосом произносились эти слова, при этом левая рука держала толстую тетрадь, а правая жестикулировала, чтобы усилить эффект.
Несмотря, однако, на весь артистизм, подачу и важность темы, никто из сидящих в зале его не слушал. А присутствовало там всего десять человек, таких же поэтов местного масштаба, которые, хотя и пришли сюда вроде бы для того, чтобы и на людей посмотреть, и себя показать, жаждали только второго. И потому, когда не были на сцене, а находились в зале, только зевали, глядели по сторонам и мечтали о том, чтобы поскорее уже закончилось очередное выступление.
После Ивана Михайловича, которого проводили жидкими аплодисментами, на сцену вышел Николай Васильевич. Он открыл свою толстую тетрадь в нужном месте, принял позу и начал чтение:
Сегодня мне бы убежать
От вездесущего порока,
Чтоб справедливость повстречать,
Звучавшую из уст пророка…
Закончив выступление, он поблагодарил публику, которая только по этой благодарности поняла, что выступление окончено и пришло время аплодировать. Хлопали все, за исключением Ивана Михайловича: он не мог этого делать из чувства конкуренции. А конкурировать со вчерашнего дня было за что.
Вчера в этом же клубе, на этой же сцене они с Николаем Васильевичем поспорили – и поспорили принципиально, с чувствами, с жаром – о том, кто первым вступит в Союз писателей Украины. Каждый был уверен, что достоин этого почетного членства, и был уверен уже давно, а спустя месяц после открытия литературного клуба, в котором они почти каждый день демонстрировали свое поэтическое мастерство, эта вера окрепла настолько, что вчера нашла выход.
И выход этот был вот каким. Николай Васильевич, после того как прочитал свои стихи, с особой гордостью публично объявил о своем намерении:
– Ожидайте вашого покірного слугу у Союзі письменників! – Что означает: «Ожидайте вашего покорного слугу в Союзе писателей!»
Здесь нужно уточнить, пока читатель не упрекнул рассказчика в искажении украинского языка, что описываемые события происходили в восточной Украине, где распространен суржик – смесь украинского и русского языков, на котором там говорит значительная часть населения. К ней относятся и герои нашего рассказа. Что касается сочинений, то их они писали и на русском, и на украинском, без смешивания, что обычно и бывает, потому как смешивать языки в письменной речи – совсем уж дикость.
Только он это сказал, как услышал голос из зала:
– Тільки тебе там і ждали! Гоголь! («Только тебя там и ждали! Гоголь!»)
Это сказал Иван Михайлович, возмущенный таким дерзким заявлением коллеги, тем более что в ближайшее время он сам собирался заявиться в этот самый Союз и стать его членом.
Дальше начался между ними спор, горячий, на повышенных тонах, с обвинениями, с обзыванием друг друга бездарностью и прочим, и дошло чуть ли не до драки. В итоге разошлись, но каждый из них заявил, что в Союзе писателей быть только ему.
Наблюдающему со стороны может показаться непонятной причина такого поведения и ярой конкуренции ввиду неочевидности связи между ней и вступлением в Союз (если, конечно, это вообще случилось бы). Казалось бы, каждый вправе сделать то, что требуется (издать книгу, получить отзывы), подать заявку и ждать результата. И это действительно так, а потому причина вражды наших героев состояла в другом.
Город, в котором они жили, был очень маленьким, и доморощенные поэты были твердо уверены, что нет никакого шанса получить одобрение сразу двух заявок: если и примут в Союз писателей, то только одного. Неизвестно, почему они так решили, но их жизненный опыт, приобретенный сперва в Советском Союзе, а затем на постсоветском пространстве, подсказывал им, что лимитов не может не быть, а для такого города, как их, этот лимит будет самым маленьким – единица.
Все это, конечно, было просто домыслами наших героев, непроверенными и неподтвержденными, и на деле никаких территориальных лимитов не существовало, по крайней мере официально. Но именно эти домыслы и породили между двумя поэтами жесточайшую конкуренцию и даже вражду.
И вот сейчас Иван Михайлович не хлопал и не смотрел на Николая Васильевича и даже позу принял такую, что, казалось, всем своим видом не желал признавать его существования. Он был бы рад уйти сразу после прочтения своих стихов, но до назначенной встречи оставалось еще достаточно времени, домой идти было не с руки, а гулять не хотелось. Вот и задержался еще минут на сорок.
А встреча у него планировалась с редактором, который мог бы помочь Ивану Михайловичу в осуществлении мечты о вступлении в Союз писателей.
Вчера, сразу же после того как случился скандал, он, не откладывая в долгий ящик и решив обогнать зазнавшегося и бог знает что о себе возомнившего конкурента, позвонил Разумовскому – литератору и редактору, который принимал самое активное участие в создании литературного клуба, который посещали наши герои. Хотя после открытия сам Разумовский появился там только два раза и больше не показывался, а также никакого участия в мероприятиях не принимал, его запомнили и считали специалистом высокого уровня. На деле он и был специалистом, в литературе понимал и занимался ею профессионально: не один десяток лет проработал редактором в разных издательствах, писал критические статьи, рассказы, стихи, был автором двух романов и даже имел кое-какие награды. Это, собственно, и послужило причиной того, что он отказался от посещения клуба через неделю после открытия (несмотря на то, что был главным идеологом его создания), про себя назвав его богадельней и кружком престарелых бездарностей.
И если рассуждения насчет талантов членов этой организации мы опустим и позволим читателю самому определить это, исходя из немногочисленных приведенных здесь образцов их творчества, то насчет престарелости скажем, что в этом Разумовский был прав. Всем начинающим поэтам было хорошо за пятьдесят и даже под семьдесят, большинство из них давно вышли на пенсию и занятий, кроме клуба и дачи, не имели. Молодежь же по каким-то причинам в литературной жизни города не участвовала (по крайней мере, не состояла в этом клубе).
Вскоре Иван Михайлович сидел у Разумовского и рассказывал о своих намерениях. Редактор терпеливо слушал нескончаемый монолог о таланте Ивана Михайловича, о сотнях исписанных листов, о Союзе писателей, о том, что для подачи заявки нужно перенести рукописные стихи из тетрадей в печатный сборник, отредактировать и издать его (непременно в кожаной обложке с золотым тиснением), а также о том, что для увеличения шансов соискателя надо бы иметь хвалебную статью в местной газете. Слушал он и удивлялся так, как не удивлялся уже давно, но, разумеется, не подавал виду, кроме того, пожалуй, что губы его иногда сжимались сильнее, как будто останавливая самих себя от произнесения того, что вертелось в голове.
В итоге Разумовский назвал стоимость литературного редактирования поэтического сборника и написания хвалебной статьи (работа есть работа), обозначил срок выполнения и сказал, что если Иван Михайлович согласен, то можно начать сразу после оплаты, то есть хоть завтра. Иван Михайлович согласился и ушел, сказав, что сегодня же отдаст исписанные листки наборщику текста, а как только печатный вариант будет готов, сразу же принесет редактору рукопись, достойную стать книгой с золотой обложкой, и деньги.
Только он скрылся за дверью, как раздался телефонный звонок.
– Ігор Петрович, доброго вечора. Це Ніколай Васильєвич. Поет. Ну, з клуба. Слухайте, мені б побачиться з вами. Тут діло є. («Игорь Петрович, добрый вечер. Это Николай Васильевич. Поэт. Ну, из клуба. Слушайте, мне бы увидеться с вами. Тут дело есть».)
«Уж не Гоголь ли?» – подумал Разумовский, улыбнулся и сказал, что будет рад видеть поэта завтра в пять часов вечера у себя в кабинете.
На другой день Николай Васильевич пришел точно в указанное время – и погрузил Разумовского в состояние дежавю. Все в точности как вчера: восхваление своего таланта, плодотворности и способа творения («Рюмашку вип’ю і пішло: пишу, поки рука не втомиться» – «Рюмашку выпью и пошло: пишу, пока рука не устанет»), готовность к членству в Союзе писателей, необходимость издания сборника стихов (тоже непременно в кожаной обложке с золотым тиснением), хвалебная статья и прочее. Губы Разумовского, как и вчера, иногда вздрагивали и сжимались, только уже по другой причине: глядя на собеседника и слушая его, он едва сдерживался, чтобы не рассмеяться во весь голос.
В конце концов, хоть и с огромными усилиями, но выслушав нескончаемые, казалось, речи поэта, Разумовский обозначил такие же условия, какие вчера назвал Ивану Михайловичу. При этом уточнил, что, если очень срочно, он может начать и завтра, несмотря на то что заказ у него уже есть (предполагая, что будет работать над двумя сборниками одновременно). Николай Васильевич сказал, что через несколько дней принесет отпечатанную рукопись и деньги и ушел, довольный собой и уже предвкушающий членство в Союзе писателей.
Не прошло и недели, как оба поэта, ничего не подозревая друг о друге, отдали Разумовскому свои рукописи. При этом каждый счел своим долгом обстоятельно и крайне подробно пояснить редактору, какие стихи должны войти в сборник и почему.
Через месяц работа была окончена. Престарелые таланты забрали отредактированные рукописи – и вот тут начались для Разумовского по-настоящему тяжелые испытания. Каждый час его отвлекали звонки с вопросами: почему тут вместо авторского тире («Яке як треба передавало саму суть» – «Которое как нужно передавало саму суть») оказалось двоеточие; почему вон там убрана запятая («Коли я чую, шо вона там ну́жна» – «Когда я чувствую, что она там нужна») и почему редактор указал на отсутствие рифм («Я автор, мені видніше» – «Я автор, мне виднее»). Каждый день он вносил нескончаемые правки и вел отчаянную борьбу за правила грамматики и пунктуации, то и дело слыша обвинения в том, что он совершенно неправильно понял глубину мысли автора (куда ему!) и потому сделал так много примечаний… Все это страшно выводило Разумовского из себя, и он зарекся когда-нибудь еще работать с подобными самородками.
Через две недели такой неприятной для редактора (и очень приятной для авторов) работы были готовы окончательные варианты рукописей и хвалебных статей. Теперь поэтам оставалось только напечатать свои творения в типографии, а статьи разместить в местной газете. Разумовский был несказанно рад, что его мучения закончились и что он наконец-то распрощался и с одним, и с другим поэтом – как он предполагал, навсегда.
Но обстоятельства решили не очень-то прислушиваться к желаниям Разумовского и сложились так, что новые встречи с любителями золотых тиснений у него все-таки состоялись. Одна – в самом ближайшем будущем и по телефону, а другая – через три месяца, лично.
Спустя три дня после того, как рукопись в окончательном варианте была передана Николаю Васильевичу, раздался звонок. Разумовский взял трубку, услышал: «Здравствуйте!», произнесенное знакомым голосом, подумал: «Гоголь!» и «Только этого не хватало!» – после чего поздоровался в ответ.
– Игорь Петрович! Слухайте, я, звичайно, усе розумію, тільки нащо ви помогли цьому бэздарю? («Игорь Петрович! Слушайте, я, конечно, все понимаю, только зачем вы помогли этой бездари?»)
– Вы имеете в виду Ивана Михайловича?
– Ну а кого ще?
– Послушайте, Николай Васильевич, я полагаю, что могу работать с кем захочу.
– Но ви ж знали, що він теж у Союз вступати хоче. («Но вы же знали, что он тоже в Союз вступать хочет».)
– Да, знал. И что с того?
Возмущенный таким нахальством редактора, Николай Васильевич начал задыхаться от гнева, прокричал: «А то, шо вин дурень и скотина!» – и бросил трубку. «Однако», – подумал Разумовский и пошел дальше работать.
А через три месяца, в течение которых он не слышал ни об одном из этих двоих, шел он мимо клуба и решил посмотреть, что там происходит. На сцене стоял Иван Михайлович и вещал:
Когда редактор загубил талант
И гению осталось умереть,
Он там сидит и только рад.
А я поэт и продолжаю петь!
Иван Михайлович закончил декламировать и поклонился. Из зала, где, как обычно, сидело человек десять, донеслось громкое «браво!», выкрикнутое Николаем Васильевичем. Так понравилось ему выступление коллеги, что хлопал он неистово, а в конце концов не выдержал, выбежал на сцену и обратился к публике:
– Друзі! На мою думку, це геніально! И правдиво до болі. Коли двох геніїв не приймають у Союз письменників тому, що поганий редактор загубив їх творіння! Це треба обнародувать! Про це треба говорити! Колега, браво! («Друзья! По-моему, это гениально! И правдиво до боли. Когда двух гениев не принимают в Союз писателей потому, что плохой редактор загубил их творения! Это надо обнародовать! Об этом нужно говорить! Коллега, браво!»)
Разумовский развернулся и ушел.
Вечером того же дня Иван Михайлович и Николай Васильевич вместе пили водку и в очередной раз ругали нерадивого редактора за то, что он до такой степени исказил их творения, что оба поэта получили отказ от Союза писателей. А еще за то, что своим недостойным поведением Разумовский чуть было не поссорил два огромных таланта – две глыбы на литературном поприще, о которых еще услышит весь мир, а не только родной город.
Композиция для струнного оркестра
Я ведь любил ее. Любил больше жизни. Такое один раз бывает. А что потом? А потом жизнь продолжается… И снова заканчивается…
Молодая парочка идет по улице. Он хочет казаться лучше, чем есть на самом деле, произвести впечатление. Она пытается найти в нем то, за что можно зацепиться, и… не находит и думает о другом. Они заходят в кафе, он смотрит на нее, а она – скорее вокруг. «Вот тот ничего, суровый, взрослый такой…»
– Я думаю, что жениться в институте слишком рано. Надо как-то устроиться…
«Ага, рано… Но не все же учатся. Некоторые уже отучились».
– Да, рано… Конечно рано…
«Маленький ты еще… Мужчина должен содержать женщину…»
Они ужинают, выпивают бутылку вина, выходят на улицу, идут до остановки. На 71-м автобусе она поедет домой. Он обнимает ее, они целуются в первый раз. Для него память об этом поцелуе останется на всю жизнь. Она же забудет, как только сядет в автобус…
Звонок. Беру трубку.
– Иван Витальевич, здравствуйте! Извините, что в выходной… Но вы просили, если что…
– Алексей Борисович, привет. Да… Что там?
– Тут у Филданского, похоже, кровотечение… Вы просили информировать, если что…
– Да-а… Плохо… Срочно готовьте к операции.
– Готовим уже.
– Я через двадцать минут приеду.
– Сами будете оперировать? Мы тут вроде…
– Сам буду.
Кладу трубку, встаю из-за стола. Наташа, моя жена, уже и без того понявшая, о чем речь, все же спрашивает:
– Ваня, что там?
– Да у Филданского кровотечение. Ехать надо.
– Боже… Может, кто-то другой?
– Нет.
Наташа встает из-за стола, открывает шкаф.
– Так… Рубашки поглаженной нет… Футболку наденешь?.. Отпуск у тебя… Завтрак вон не доел… Что же это… Господи… Филданский… Боже, помоги ему…
Подъезжает 71-й, и она уезжает. Через полгода она найдет другого, и он узнает об этом совершенно случайно. Она будет говорить о том, что не хотела ничего серьезного, но так вышло, что это он настоял, а она не смогла отказать, что все не решалась признаться и все тянула, хотя и зашло у них уже очень далеко, так что дальше – только свадьба, но она не хочет за него замуж, хотя свадьба, в сущности, ничего особо не изменит, и вообще она запуталась, и все такое прочее… А он подумает, что надо отравиться. Символично даже: как еще студенту медицинского университета покончить со всем этим, если не съесть лошадиную дозу таблеток? И когда бы не Филданский, то съел бы, точно съел бы…
Захожу в гараж, сажусь в машину, выезжаю. Через пять минут миную знакомую остановку… Интересно, 71-й до сих пор ходит? Бог знает… Вот загс, в котором у них была свадьба… Вот здесь, в этом доме, они жили. А может быть, и до сих пор живут. Лучше пусть живут. А вот Филданский… Плохо дело, и шансов почти нет. Зачем я еду? Ясно же все. И без того ясно. Наказываешь ты себя, Ваня. Или до сих пор что-то кому-то доказываешь. Взрослый мужик ведь. Но если б не он тогда, не было бы взрослого мужика…
– Я живу с ним…
Он смотрел на нее удивленно, не успев еще до конца понять смысл сказанных слов. Ведь у них дальше поцелуев не заходило никогда, а здесь, с другим, выходит, так…
– Как?..
– Я не знаю, сможешь ли ты меня простить… Все вышло внезапно, само собой… Не понимаю…
– Само собой?..
– Ваня!..
Он приехал домой, разделся, сел за стол, надел наушники, включил любимую композицию для струнного оркестра и так и сидел в течение нескольких часов, глядя в одну точку и думая, что жить ему больше незачем. А потом этот Филданский, шут гороховый, явился не пойми откуда и записался в друзья.
«Да ты с ума сошел, что ли? Дубина! Мало ли баб вокруг? Ты хоть институт окончи, а потом уже травись! А лучше не травись. Лучше под поезд. Голову тебе отрежет, и к нам привезут, а мы пришьем. Я лично пришивать буду и задом наперед сделаю. Ты все равно сдохнешь, а мы хоть поржем как следует. А вообще подожди, хоть одну операцию сделай. А то обидно будет: у тебя же руки из жопы, я отсюда вижу, а ты так и не убедишься в этом».
И много они кутили с Филданским, и с девушками знакомились, и гуляли на свадьбе друг у друга, и дружили потом всю жизнь. И всегда шутил Филданский, что настоящий хирург из них двоих только он, потому что однажды разработал технологию пришивания головы задом наперед, а товарищ не позволил ее опробовать. «А все с умыслом, все затем, чтобы Ваня потом мог диссертации писать да статьи и в своем НИИ уже в сорок с небольшим стать светилом мирового масштаба…»
Возвращаюсь домой, открываю своим ключом, чего не делаю почти никогда. Наташа выходит в коридор, смотрит на меня и все понимает. Я не спеша раздеваюсь, иду в зал, подхожу к шкафчику с пластинками, нахожу нужную, ставлю на вертушку, сажусь в кресло. Через секунду раздаются первые аккорды композиции для струнного оркестра.
Стриптиз
Приходим мы в прокуренный клуб, дешевую клоаку для пьяного времяпровождения молодежи – студентов или отморозков. Мы – студенты.
Заправились мы, само собой, заранее. Для таких, как мы, выпивать в клубе – роскошь в то время непозволительная. Сейчас это кажется странным – закидываться до похода в заведение, а тогда – в порядке вещей. Сейчас, если денег нет, просто не идешь никуда и выпиваешь дома или не выпиваешь вообще (невелика потеря). А если уж идешь, то пьешь там, а не заряжаешься загодя или бегаешь в магазин через дорогу за бутылкой водки, чтобы потом заменить на столе заказанную, но уже закончившуюся, на новую, точно такую же, но принесенную из магазина.
Впрочем, этот фокус срабатывал только в кабаках. В клуб с бутылкой не зайдешь: обыскивают на входе. Самое главное было – не нажраться слишком уж сильно, чтобы пройти фейсконтроль – странную и дикую, на мой взгляд, функцию, которая реализуется парочкой стоящих на входе дебилковатых мордоворотов. Впрочем, функция эта – достойное детище своего времени. Не до конца еще мы стряхнули с себя гниль девяностых, но без них кто знает, что было бы там, внутри. Хотя и с ними получить по роже можно было в два счета: концентрация отморозков была запредельная.
Платим по сто рублей за вход, позволяем двум упырям себя ощупать, протискиваемся внутрь. Нас трое. Я, моя тогдашняя подруга и мой университетский друг Леха. С подругой этой я таскался бог знает зачем. Да вы, конечно, понимаете зачем. Хотя она была мне, по большому счету, совсем не нужна, и смотрел я, кроме нее, на всех баб подряд.
Но если я только смотрел, то Леха действовал. Вообще я всегда был скромным в отношении женщин и теперь понимаю, что зря. Леха же запросто подходил к понравившейся ему особе и говорил:
– Привет! Пойдем потрахаемся.
«А что, – рассуждал он, – опыт показывает, что девять из десяти посылают, а десятая дает. А тут их вон сколько». Не зря, видимо, окончил он физико-математическую школу: теперь приемы арифметики и математического анализа применял на практике, причем весьма успешно. Методом проб и ошибок он подыскивал себе подругу на ближайшее время. И часто находил. Для будущего же, то есть для семейной жизни, мечтал он о скромной девственнице, которая бы устроила уют в доме, родила детей и посвятила себя целиком и полностью хранению домашнего очага. И, что удивительно (а может быть, и нет), так и вышло: он женился именно на такой девушке, родились у них дети, и жили они с женой мирно и счастливо. Но это было потом, спустя годы…
Раздвигаем руками заполняющий все помещение сигаретный дым и людей, жарких и пьяных, пробираемся сквозь толпу. От всей этой обстановки, духоты и висящего в воздухе никотина меня начинает шатать. Водка, выпитая перед приходом сюда, как будто вступила в активную фазу. Понимаю, что много добавлять нельзя, иначе быть беде. Пробираемся к бару. Леха, чтобы его было слышно за гремящей музыкой, орет мне на ухо:
– Ты чё будешь?
– Пива, наверное.
– Может, текилы?
– Чё-то меня развезло. Лучше позже.
– А я выпью.
– Давай.
Берем пиво, текилу и какой-то синий коктейль для моей подружки. Леха выпивает сразу и говорит официанту повторить текилу и налить еще пива. Думаю, что это он зря.
– Пойду посмотрю, может, места есть, – говорит Леха и уходит искать для нас свободный столик.
Возвращается через пять минут.
– Там мест нет. Но есть свободный бильярдный стол. Пошли туда. Через полчаса стриптиз будет. Поиграем пока.

