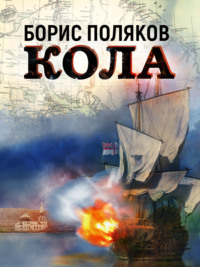
Кола
И снова Шешелов потянулся к трубке. Не поторопился ли он с обещаниями? Не слишком ли поддался настроению? Стоит ли ему вмешиваться? Он хотя и городничий, однако сослан. Репутация его подмочена. Когда находишься на краю земли, нельзя рваться вперед с завязанными глазами. А он оказался именно на краю земли. Разве мало ему прошлых уроков?
Когда здесь были коляне, он разделял их убеждения. Вздор! Всякая убежденность покоряет. Он был покорен.
Они симпатичны ему знаниями, которых он не имеет, убежденностью. Но он должен быть разборчив и осторожен. Вмешиваться в случай с границей – вставать на чьем-то пути. Господи, как все похоже! Опять слова о гражданском долге, о пользе народа, земли русской.
Опять столкновение с властью. Что это даст? Ночи без сна, страх ожидания, допросы…
К черту долги, слова, теории! Он хочет покоя! У него есть книги, есть коллекция. Они заменяют ему и политику, и светские развлечения, и друзей. Он не хочет слышать о политике.
Горячиться, однако, не следует. Он должен обдумать все здраво, трезво. Конечно, потерянная земля для колян – реальность. И хотелось себя ругнуть: испугался, потому что почуял опасность? Как и тогда? Недовольно поворочался в кресле. Это «тогда» он не любил помнить. Думал: перед собой он прав. Тогда он увидел опасность раньше других, отошел и тем спасся. Не такие ломались. Изменил своим убеждениям Достоевский – ум! А он маленький человек.
Шешелов давно придумал себе это оправдание и находил в нем утешение. А Петрашевский не сдался, до сих пор не сдался…
В огромных часах шевельнулись пружины и певуче пробили три раза. Встревоженные, улеглись ворчливо, и снова тишину нарушал только сонный шаг маятника. Печка остыла, и от окон полз холод. Заныли от давнего ревматизма ноги. Шешелов оглядел кабинет. Портреты царской фамилии на стенах. Огромный стол и тяжелый трехсвечник. Цветастые портьеры, новый мундир городничего. Выколотил потухшую трубку, вздохнул. Господи, какая глупая и ненужная бутафория! Граница, поморы, власть, страх. Он старый и больной человек. Захотелось пожаловаться кому-нибудь, рассказать откровенно, что жизнь прошла, что много лет рядом нет близкого человека, а одиночество так тоскливо. У него нет сил разбираться в случившемся. Он чувствует, что может поступить не так, как нужно. Ему захотелось в тепло кровати. Закрыться там с головой одеялом и все-все забыть.
И уже в постели вспомнил своих гостей еще раз. А с ними ему было хорошо. Давно на душе не было так спокойно. Где же он знал подобное? Да, да. Подобное было тогда. В то время он уже кое-что понимал в книгах. Там он смог познакомиться с литературными обзорами Белинского, с герценовским романом «Кто виноват?», там он следил за обновленным «Современником», с упоением читал первые рассказы Тургенева и замечательные письма Мамотина… Какое было прекрасное время! Расцвет таких дарований! Рождение натуральной школы. Да только ли это?
Он и тогда уже был немолод, но какую удивительную легкость и подъем сил ощущал он! Прочитав за ночь книгу, со светлой головой шел на службу.
Да, служба, служба… В ней прошла жизнь. Она была смыслом жизни. Ложась спать, думал о службе, она снилась ночью, и, просыпаясь, он с огорчением вспоминал о том, что им еще не сделано.
Он появлялся в казарме задолго до подъема и наводил порядок. Часто маршировал с солдатами. Знал, его усердие видят, старания оценят. И он старался. Он хорошо командовал своими солдатами. Но у него не было друзей. Иногда где-нибудь на учении он направлялся к только что смеявшимся весело офицерам, он тоже хотел шутить и смеяться. Но при нем замолкали. Круг перед ним смыкался.
А когда-то были друзья. Его любили солдаты за товарищество, командиры за удаль и молодечество. Служба была не только тяжелым крестом, но и радостью.
Пришло время, он получил офицерский чин. Все силы он вкладывал, чтобы равным войти в этот заманчивый круг избранных, что, казалось, должен сейчас открыться для него. Он продвигался по службе, но с ростом в чине ничего не менялось. Он стал майором, но так и не смог попасть в этот всю жизнь стоявший перед его глазами круг. Сколько же лет потребовалось, чтобы понять, что никогда он туда не попадет, что суть не в чине – в безродности! Другие могли уйти в отставку, жить обеспеченно. Ему уходить было некуда. Состояния он не нажил, своим в офицерской среде стал только формально.
Да, все это он понял раньше, чем стал майором, но не хотел себе в этом признаться. Он гордился своим положением, тем, что солдатский сын вышел в люди. Но былой интерес к службе пропал, все чаще стала им овладевать хандра. Может, поэтому он ухватился с радостью за петрашевские «пятницы»? Нет, об этом он думать не будет. Не хочет.
Под одеялом было душно. Он долго ворочался, голова на подушке никак не могла улечься. «По ночам совесть покоя не дает, – говорил старый Герасимов, – думаешь, все думаешь». Вот и коляне его растревожили. Хотел узнать одно, а вышло…
Что же он хотел понять в них? Да, да. Что заставляет их так болеть об этом деле? Ведь знают: жизнь на исходе, скоро умирать, а собрались к царю: «Не боимся наказаний». Петрашевский тоже не боялся. Господи, что это за сила – убежденность? Что можно ей противопоставить?
Шешелов лег на спину, натянул одеяло до подбородка, глядел и глядел в темноту.
29
…На плац-парадное место Семеновского гвардейского полка караул не пускал посторонних, и народ грудился на валу. Утро было пасмурное, промозглое. Неведомыми путями слух прошел по Петербургу, и толпа на валу росла, стояла недвижно и терпеливо, ждала молча. На плацу высокий помост с перилами, а рядом – одиноко вкопанные столбы. Свежая земля комьями чернела на снегу. У костра грелся палач. С трех сторон помоста разворачивались подходившие войска. В морозной тишине тяжелый шаг солдат и слова команды.
У Шешелова уже лежало в кармане предписание в Архангельск, он направлен в Колу, он давно обязан был ехать, но сказался больным и все оттягивал свой отъезд.
– Везут! – ударило по толпе, и ее качнуло. Шешелов напрягся, оттолкнул какого-то жителя петербургского в лисьей шапке и протиснулся в первый ряд.
Их высаживали из тюремных карет каждого под конвоем двух солдат. Толпа напирала, теснила, но Шешелов все же видел их: Достоевский, Спешнев, Дуров, Петрашевский… Господи, сколько прошло с тех пор? Какие страшные, худые лица! Когда все это началось? Шесть, семь? Да, да, восемь месяцев назад, и каждый сидел в одиночке.
Их построили и повели вдоль рядов солдат: ритуал позора. Поп в длинной рясе замыкал шествие. Солдаты опускали глаза. Молчание – погребальное. Под ногами скрипел снег.
Затем их построили на эшафоте. Петрашевский стоял впереди. Со всех сняли шапки. Военный аудитор читал приговор сената. Площадь замерла и перестала дышать. Тишина была зловещей. Аудитор читал приговор каждому. На площадь падали слова, ударяли по толпе эхом. «Расстрелянием… расстрелянием… расстрелянием…»
Было слышно, как в костре потрескивали дрова. Толпа в ужасе косилась на врытые столбы.
Поп начал с Петрашевского и обходил всех, гнусаво призывал к исповеди и покаянию. Никто не каялся. От исповеди отказались.
Осужденные стали прощаться, Достоевский подошел к Спешневу, и Шешелов слышал, как по-французски он негромко сказал: «Мы будем вместе с Христом» – и как усмехнулся Спешнев: «…горстью праха…»
С Петрашевского, Момбелли и Григорьева палач снял верхнюю одежду, натянул на них смертные балахоны. Этих троих первыми повели к столбам. Они спускались с эшафота, и до толпы донеслись слова: «Каковы мы в этих одеяниях?»
Господи, они еще шутили!
Толпа не шевелилась. Тысячи глаз следили, как палач привязывал смертников к столбам, как против каждого выстраивались пятнадцать солдат с ружьями.
Момбелли скрестил руки на груди. Его так и привязали. Григорьев вытащил из савана руки и перекрестился. Петрашевский стоял спокойно. Последние приготовления. Солдатам подали команду заряжать. Палач обошел смертников и опустил на глаза колпаки. В леденящей кровь тишине отчетливо прозвучал голос Петрашевского: «Момбелли, поднимите выше ноги, а то с насморком придете в царство небесное».
Шешелова трясло. Знакомая за последнее время, бросающая в пот, дрожь страха: он мог бы оказаться там, с ними.
Когда дело петрашевцев всплыло, в жандармское управление вызывали и его. На допросе он показал, что поддерживает знакомство с Петрашевским и ценит его расположение только из-за книг. Без него он не имел бы возможности прочесть многие из них. Это было действительностью. Он не лгал.
Когда он понял, что литературный кружок Петрашевского превращается в политический, он насторожился. Стал больше молчать и слушать, высказывался редко и неопределенно. Он слишком хорошо помнил декабристов, не забыл, чем это кончилось.
На следующих допросах он показаний своих не менял. Да, он читал Леру, Фурье, Прудона, Штрауса и многих других социалистов. Но эти идеи чужды ему. В социализм он не верит. Власть монарха считает единственно разумной. Нет, о прочитанном он ни с кем не беседовал. Он тогда просто перестал бывать у Петрашевского. Кто что говорил на «пятницах» – он не помнит за давностью. И ненавидел сидящего перед ним жандармского офицера, и боялся его до коликов в животе.
После допросов ворочался по ночам в кровати, взбивал подушку, ложился, снова вставал, ходил, курил, ждал – вот-вот арестуют. Только теперь понял, какая опасность над ним нависла. Чувствовал: ему, как и другим, пощады не будет.
После одной особенно бессонной ночи не выдержал напряжения томительной неизвестности, решил конца следствия не ждать. Добился приема к своему давнему благодетелю, до мелочей поведал свою историю дружбы с петрашевцами, просил помощи.
И завертелось другое жизненное колесо в его судьбе. Со сказочной быстротой следовало одно событие за другим. Его избавили от ареста, помогли уйти в отставку и, что было уже совсем неожиданным, дали назначение на должность, а точнее – выслали из Петербурга.
Да, он сейчас мог быть с ними. Стоять вон там в смертном балахоне.
…На площади все вдруг пришло в движение. Аудитор подал команду, и солдаты опустили ружья. Палач быстро отвязал смертников и привел их на эшафот. Аудитор читал государев указ, которым смертная казнь была заменена каторгой. Еще никто не понял, что случилось, не успел поверить в спасение, а тишину прервал желчным голосом Петрашевский:
– Вечно со своими неуместными экспромтами!
– Кто просил?! – раздраженно крикнул Дуров.
Петрашевского тут же стали заковывать в кандалы.
Но он отстранил палача, сел на помосте и сам заколачивал на себе кандалы. Потом уже, гремя ими, обошел всех своих, каждого обнял, прощаясь: его одного увозили на вечную каторгу прямо с эшафота.
Шешелов уехал в Колу с намерением не приближаться к политике. Жил тихо, занимался своей коллекцией – и вот, на тебе! Бесхарактерный трус! Никогда не имел убеждений. В душе поднималась глухая злоба. Он противен себе. Где бы ни жил он после войны, везде оставался чужим. Все имеют какую-то цель, привязанность, и только он, Шешелов, для всех белая ворона. Он мечтал о карьере, но не вошел в круг офицерства. С мещанами не дружил, боялся уронить свое достоинство. У петрашевцев увидел опасность и попятился. Другие за убеждения пошли на казнь, он от страха не смел шевельнуться. Теперь считал, что его коллекция – единственно возможное для него занятие. А тут приходят поморы – их больше смерти тревожит тайна передвинутой границы. Восемьсот верст земли. Для живущих здесь это не отвлеченность, а жизненная необходимость. Петрашевцы и эти поморы. Да, да. Такие люди нужны России. С убеждениями.
И, недовольный собой, ворочался в кровати.
Он чиновник. Ему не потерять бы достигнутого. Боже упаси провиниться! Он не может не дорожить благополучием. Из низов вышел.
И оправдывался перед собой: ведь всегда старался быть честным. Никогда не подставлял под удар другого. А с границей кто-то решил подставить его под удар. Но ничего, он восстановит граничные знаки, и снова установится тишина лет на тридцать…
В окна порывами бился ветер, упруго жался к стеклам, словно искал щели. Вновь подумалось о тайне нелепо потерянной земли, что тревожила умы кольских старожилов. «Такую обиду не могут забыть коляне», – говорил благочинный.
Нет, Шешелов не имеет права молчать. Он лучше других знает, как действовать, и должен писать. Он не хочет бездумно исполнять чужую волю. И ставить пограничные знаки не будет. Он останется честным. Покрывать галяминские плутни он не желает.
30
Суровые в Коле нравы. Совместные прогулки парней и девушек запрещены, и даже на вечёрках, где парни и девушки не сидят рядом, общие разговоры не допускаются: и танцы, и частушки под строгим присмотром кумушек. Но зато распространен на всем берегу своеобразный обычай-беседа.
В долгие зимние и осенние вечера, окончив дневные хлопоты, угомонилась и улеглась спать семья. А девушка, принарядившись, садится в своей светелке с какой-нибудь чистой работой. И к ней на огонек, на беседу, заходят парни-беседники. Поэтому и поют в своих песнях поморские девушки: мол, не гуляли они с милым, а сидели с беседником.
Под утро лишь, как прокричали вторые петухи, ушел Кир. Нюшка проводила его, закрыла воротину, огляделась: не видал ли кто? Был, ушел. Знать про то никому не надобно. Возвращалась в светелку тихим шагом; меж бровей складка, на душе разладица.
С Нюшкой Кир был нетерпелив, жаден, горяч. Потом о плаванье своем рассказывал неумолчно. Умом Нюшка его понимала: есть чем похвалиться. Но все казалось – не о том разговор.
Перед уходом Кир оглядел передник ее, стеклярусом шитый, и забрал с собою, унес залогом. Уходя, целовал ее, обнимал, шептал, что на святки пришлет сватов. До великого поста сыграют свадьбу. Нюшка молчала и не противилась. Все так и должно быть. Похоже на «так». А теперь, вспоминая встречу, досадовала. Иной какой-то стал Кир, напористый. Все сам решил. Будто не помор, а покоритель заморский. Как в награду себе взял залог, сказал, чтоб готовилась, будет свадьба. Подумаешь, одолжение сделал.
Не по нраву Нюшке такая самоуверенность, недовольна она собой. Что вдруг стала она покорной такой, податливой? С чего бы это?
В светелке на столе коптила свеча. Было угарно, сонно. Нюшка разулась, прошлась босыми ногами по тканым половикам, приоткрыла створку оконной рамы. На сундуке остался узелок с подарками Кира. Подумав, развязала, отнесла на стол, разглядывала. Платок большой, шелковый, узорный, с кистями длинными. Развернула, накинула на плечо. Хорош платок. Еще шелк васильковый на сарафан, а в нем бусы положены. В Нюшке восторгом, радостью отдалось: угодил Кир, порадовал. На диво хороши бусы. К сарафану и глазам Нюшкиным аккурат будут. Удивилась: откуда чутье такое?
Унесла свечку на комод, к зеркалу, примеряла к себе платок цветастый, шелк васильковый, бусы… А чего же не попросил Кир посмотреть, каковы ей обновки будут?
Но обида на Кира уже улеглась. Любуясь собой в зеркале, Нюшка допытывалась у себя: чем она недовольна? Что Кир обещал сватов послать и не спросил на свадьбу согласия? А разве она отказала бы? Разве и так не жених он ей? Зачем нужно, чтобы просил он, уговаривал?
Нюшка открыла сундук. Пружины у замка поющие. Сундук большой, добротный, кованный железом. Укладывала аккуратно подарки Кира, наряды с вечёрки. Опять стало беспокойно. Не было ее передника. Унес Кир. Теперь его сватам никто не откажет. И родные Нюшки, узнав, что залог у Кира, в жисть отказать не смогут. Иначе… Бабуся рассказывала. В ее молодости был случай в Коле. Отказали сватам родители. Жених привязал залог к оленьей упряжке, разъежал по Коле, надругиваясь. Позорище… Нюшка вздрогнула телом. Фу, напасть! У нее так не будет. Супротив воли Нюшкиной и родители, живы были бы, – не пошли, не отказали б Киру. Дом его почитается. Живут исстари дружно. С радостью породнятся. Да и обычаи рушить не станут. И мать, и бабуся по любви выходили.
Нюшка повеселела, закрыла сундук, разделась до нательного креста, оглядела себя нагую придирчиво: ничего, ладная. Наливая из кринки воду на полотенце, вполголоса напевала весело и беззаботно:
Мои щечки, как цветочки, глазки – черный чернослив.Как возьмет беседник замуж, будет навеки счастлив.Деловито протерлась мокрым полотенцем вся, до красноты. Накинула рубашку, забралась в постель. Чувствовала себя успокоенной, ленивой, сытой.
Конечно, думала, жаль передника. Один раз лишь надеть успела. На вечёрках теперь пойдут толки: нет стеклярусного передника. Обязательно кто-нибудь показать попросит. Узор снять или еще что. Она, конечно, придумает, что ответить.
Впрочем, пересуды и раньше Нюшку мало тревожили, а теперь и подавно. Кир взял залог, будет свадьба. Впереди все, как день погожий, безоблачно.
Нюшка забросила руки за голову, напевала про себя удовлетворенно, устало. Расплетут Нюшке косу, сменят кокошник на повойник, и уж не девка будет она, а баба-молодайка. Посмеялась про себя: «Жаль, косу расплетать нельзя Граньке поручить».
После свадьбы у Нюшки другие дела, заботы и подружки будут. Сразу же, через три дня, должна устроить она беседу женскую. Все бабы замужние, приглашены или нет, могут к ней на чай-пироги явиться. Поклон молодухе сделать, угощения откушать, а потом каждая к себе пригласить обязана: беседу устроить, попотчевать.
Нюшка прикидывала, с кем из баб после свадьбы подружиться. Прошлый год вышла замуж ее подружка. Свадьба была шумная. Народу – вся Кола. Мужики с ружьями. От церкви свадебный поезд выстрелами сопровождали. Пальба до самого дома шла. У ворот, для тех, кто в дом не попал, водка в бочонках была выставлена…
Ветер за стеной стих. Флюгарка на крыше умолкла. Стало слышно, как внизу, на кухне кто-то ходит. Видать, по хозяйству встала бабуся. Надо топить печь, готовить пойло скоту. Нюшке вставать не хочется. Ей, пожалуй, простят сегодня. Потянулась успокоенным, ленивым телом. Бабуся о Граньке настораживала… Гранька? Смешно! Мысли текли приятные, сонные. Заснула Нюшка, улыбаясь.
31
Кир заявился домой под утро; спал недолго, но сны видел хорошие, в прибыль, Проснувшись, лежал, стараясь вспомнить, что же такое светлое ему виделось. И вспомнил радостно: «Не сон – Нюшка, награда моя».
В светелке не успела она и фонарь задуть, Кир обнял, поднял ее на руки, прижал к себе и целовал безотрывно губы ее, шею, глаза.
– Тихо ты, – смеялась шепотом Нюшка.
Но ласковая ее податливость дурманом кружила голову: не до оглядок.
– От тебя парным молоком пахнет, – шептал Кир.
У Нюшки на запрокинутом лице блестели смехом глаза.
– Ага, из сливок я.
Кир целовал ее смеющийся рот. Из ярких губ горячее дыхание. На его шее ласковость ее рук. Он понес ее от двери.
– А фонарь, – Нюшка смеялась, – фонарь кто задует?
Вкус ее губ, горячих, порывистых, и сейчас ощутим был. Кир вынул из-под подушки ее передник, разглядывал узор, шитый стеклярусом: «Гляди, какая мастерица! И отдала залог, не препятствовала. Нюша… Свадьбу сделаем на всю Колу».
Сунул передник под подушку, расправляя грудь, потянулся с хрустом: хорошо-то все как! Дома в кровати – не на шхуне мыкаться. Не дует, не качает, тихо.
От сна осталось ощущение счастья, но жизнь была лучше снов: удачное плавание, вечёрка, Нюшка. Кир спрыгнул легко с кровати, стал одеваться. Тело отдохнувшее, будто сутки спал. В доме тишина. Маятник постукивает. Отца дома нет. Конечно, вчера Кир напрасно был крутоват с ними, помягче впредь надо. Но и старики хороши: уперлись на своем, не сдвинуть.
Позавтракал всухомятку, принарядился. Заметил на кухне – ключей от амбаров на гвозде нет. Постоял за воротами в недоумении. Зачем отец мог в амбары пойти? Ждать его, нет ли?
На улице тихо, пусто. Знать, коляне снова на берегу, встречают промышленников. А шхуна вчера у причала осталась, мешать там будет. И решил не ждать отца, сходить на берег, послать кого-нибудь за командой: ветер с севера в прилив – самое время судно в туломский створ отвести.
По дороге к причалу думал: распогодится – завтра на побережье идти надо. Оставить по становищам соль к лету. Весною развозом ее заниматься некогда. И вспомнил, говорил же ему Степан Митрич: давай завезем сразу. Под присмотр лопарям оставим. Но сил и желания на крюк к Восточному Мурману не хватило. Хотелось быстрее попасть домой.
В крепости и правда народу множество. Поморы рыбу соленую, мешки с мукою, припасы всякие носят с берега, от шняк, укладывают в амбары. Кир здоровался с земляками, то и дело поднимал картуз. С Восточным Мурманом, думал, надо управляться не мешкая и команду рассчитывать. Может, кто на осеннюю семгу идти вздумает или на зимние промыслы подряжаться, пусть идет. При шхуне одного человека оставить – доглядывать да снасти чинить.
Шумно в крепости. Снуют ребятишки, галдят. Стараясь помочь, мешают, крутятся под ногами вместе с собаками. Колянки яруса для просушки развешивают, сети наживочные трясут, смотрят, чинить которые. Сами веселые, голоса громкие. Страдная пора. В такое время коляне меж собой счет не водят. Кто пришел с промысла, по-соседски всегда помогут. Верно, помощь-то общества, Кир это понимает, опять выходит прежде состоятельным людям – кормщику или промышленнику, которого судно. Да и то сказать, уважаемому человеку помочь каждый за честь считает. А бабы особенно. Работой крестьянской они в Коле не изнуренные, вон какие гладкие собой да игривые.
– Здравствуйте, Кир Игнатыч! – глаза у молодаек озорством так и брызжут. – Помог бы нам в трудностях бабьих…
– Бог поможет! – смеялся, проходя, Кир.
– Ты на них реже взглядывай. Не только силу – кровушку до остатка выпьют.
Кир оглянулся. Нагонял его дядька Матвей, писарь из ратуши, по прозванию Шлеп-Нога. Был он ровесник отца, но вид имел моложавый, жил вдовцом и, несмотря на возраст, по бобылкам, говорят, хаживал.
– То-то, гляжу, усох за лето дядя Матвей. Не мягко, видать, на чужих перинах? – пошутил Кир.
– Сухота одна. Здравствуй, Кир Игнатыч! – И первым подал цепкую сухую руку.
– Здравствуйте, дядя Матвей! – почтительно отозвался Кир. – Ого, есть в руках сила!
– Есть еще, – согласился писарь. – Я смотрю – давеча шхунку вашу погнал Степан в Тулому, а тебя нет. Спрашиваю: куда кормщика дели? Загулял, говорят. А ты, гляжу, тверезый никак?
«Митрич? Погнал шхуну в Тулому? Зачем?» – соображал Кир. Вспомнилось: язык у писаря острый, язвительный. Ради смеха может такую шутку сыграть – коляне потом давиться будут от хохота. Сказывают, играли девки весною на улице, глядь – идет писарь, хромает, торопится. Девки поддразнивают его: «Дядя Матвей! Иди, пошути с нами, поиграй в горелки». Он им: «Некогда, девки. У причала шняка с солью тонет. Спасать надо. Соль растает». Девки всполошились, бегом на берег, а до него добрая верста будет. Прибежали запыхавшись – никакой шняки. Рассерженные нашли писаря, а он смеется: «Сами же пошутить просили».
– Да, загулял малость, – осторожно ответил Кир.
– Где же так? В кабаке тебя вчера не было.
Взгляд у писаря, как бурав: так и лезет в нутро самое. Уж не про Нюшку ли что повыведал? Пронеси господи.
– Думали, к вечеру зайдешь в кабак-то, – продолжал писарь. – Народ к твоему плаванию интерес имеет.
Кир облегченно перевел дух:
– Приду еще, дядь Матвей.
– Седни к обеду?
– Приду обязательно, – с удовольствием пообещал Кир.
– Ладно, коли. Не обмани, часом.
Выйдя из ворот крепости, Кир сразу увидел: шхуны вправду нет у причала. Зачем Митрич увел ее в Тулому без спроса? Ну, погоди, всыплю за самовольство! И, минуя крепость, пошел вдоль Колы-реки, на мыс, к туломскому берегу. Настроение от встречи с дядей Матвеем поднялось. Если уж он интересуется плаванием – хороший признак.
Был писарь одним из тех колян, с кем Киру надо говорить о своих замыслах в первую очередь. Шишковатая голова Матвея не зря на плечи посажена – одной из умнейших в Коле считается. И деньги у него водятся. Сколько помнит Кир, писарь четыре-пять шняк обряжал ежегодно в покрут.
Шхуна стояла в Туломе, теснила к отрубистому, крутому берегу поморские лодьи и шняки. Паруса убраны. Пока подходил Кир, определил: команда вся собрана, разгружает судно в амбары. Что они, с ума посходили? И подкрадывалось ощущение тревоги.
Распоряжался выгрузкой Степан Митрич, а поодаль, на отрубе, стоял, опираясь на трость, отец. Сдерживая недовольство, Кир подошел, здороваясь.
– Здравствуй, Кирушка!
– Ты велел разгружать?
– Я, Кирушка, я.
– Зачем? Соль завтра надо на Мурман везти. Ею по весне заниматься некогда.
– Сейчас есть другие заботы, Кирушка.
– Какие?
– Степан Митрич хлеб повезет к норвегам. Оттуда рыбу возьмет в Архангельск. Поутру купцы приходили с просьбой.
Голос у отца мягкий, а говорит так, будто вчера вместе решили все и теперь поздно вспять поворачивать. Неприятно кольнуло воспоминание: «Неужто и впрямь решил проучить меня, послать на судне работником? Круто что-то для одного разговора. Норов, однако, и у меня есть. Не зуек я».