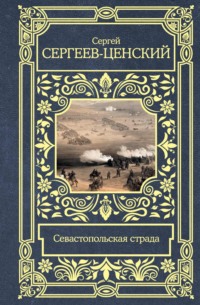
Севастопольская страда
Когда заметил вдали, справа от себя, эту бегущую не вперед, а назад, густую огромную толпу солдат, он живо обратился к Грейгу:
– Посмотрите, ротмистр, что это за полк бежит? Или это целая бригада?
Грейг, казавшийся ему наиболее правдивым и общительным из адъютантов князя, присмотрелся внимательно и вскрикнул:
– Это Углицкий полк!.. Углицкий!..
И тут же, повернув лошадь к Меншикову, сказал строевым тоном:
– Честь имею доложить, ваша светлость. Углицкий полк бежит!
Князь вытянулся на стременах.
– Как бежит? Где?
Вдали он различал предметы уже не совсем ясно. Грейг указал рукою на бегущих, и Стеценко еще только думал, кого из них двоих, бывших к нему ближе других, пошлет князь туда узнать, почему и от кого бегут, как Меншиков, ударив шпорой своего донца, с места рысью помчался наперерез бегущим. Ему и Грейгу оставалось только пришпорить своих коней.
Стеценко удивился, как молодо скакал теперь светлейший. Он, тонкий во всей фигуре, очень похож был именно теперь, сзади, и так держась на коне, на своего сына, молодого генерал-майора.
Его заметили конные офицеры-угличане. Они заметались около бегущей толпы солдат, и Меншикову не пришлось кричать: «Сто-ой!» – это прокричали другие. Толпа остановилась раньше, чем он подъехал.
Правда, задние еще напирали на передних, и хотя командир полка – полковник из гвардейцев, поэтому далеко не старый и молодцеватый на вид человек, – раза три, выехав перед полком, прокричал: «Смир-но! Глаза налево!.. Господа офицеры!..» – но смирно не становились, и равнения не было, и офицеры не в состоянии были в перемещавшихся ротах занять свои уставные места.
Меншиков подскакал, и Стеценко видел, как он силился что-то такое крикнуть, но от возмущения только открывал и закрывал рот, а полковник застыл с рукою под козырек и с округлившимися серыми глазами навыкат.
– Отрешу-у-у! – вдруг высоким, каким-то неожиданно скопческим фальцетом прокричал Меншиков. – От командования полком… я вас отрешу-у!
– Ваша светлость! – начал было что-то говорить в свое оправдание полковник, но, отвернувшись от него, Меншиков крикнул в первые ряды солдат: – Песенники, вперед!.. Музыканты перед середину полка!
И пока строились роты и занимали свои места офицеры, а песенники, барабанщики и музыканты со своими трубами и бубнами протискивались через ряды вперед или обегали роты с флангов, Меншиков обратился к старому командиру 1‐го батальона со шрамом на щеке от сабельного удара, с курносым простонародным лицом, с владимирским крестом в петлице:
– А что же ваш начальник дивизии, генерал Квицинский, видел, как вы пустились в бегство?
– Начальник дивизии ранен, ваша светлость… или, может, даже лишен теперь жизни: пронесли мимо нас на перевязочный, ваша светлость! – весь вытянувшись на седле и с застывшей у козырька рукой, хрипловато и подобострастно ответил подполковник со шрамом.
– Ранен?.. А командир вашей бригады генерал Щелканов?
– Говорили так, что тоже ранен смертельно, ваша светлость!
– Как? И Щелканов ранен?.. А князь Горчаков? – уже упавшим голосом спросил Меншиков.
– Не видно было на лошади, когда бежал Владимирский полк, а его сиятельство пошел в атаку с третьим батальоном владимирцев, ваша светлость, убит или ранен, не могу знать.
Меншиков согнулся в поясе, точно под тяжестью большого груза, но, постепенно выпрямляясь, спросил уже негромко:
– Разве владимирцы… владимирцы тоже бежали?.. Опустите руку.
– Так точно, ваша светлость! – Батальонный опустил руку. – Их осталось от полка совсем немного: может, только две роты, – остальные же погибли в рукопашном, ваша светлость!
С минуту молчал Меншиков, как будто занятый только тем, как выбегали и строились впереди песенники и музыканты. Но вот он заметил, что у многих солдат совсем нет ружей в руках, кроме того, что почти ни на ком нет ранцев… Он дернул лошадь, повернулся лицом к полковнику и закричал вдруг снова пронзительным фальцетом:
– Ваш полк стоял в ре-зер-ве, полковник… в бою с неприятелем не был и потерял оружие!.. За это я вас предам суду-у, знайте это!
Стеценко заметил, что у князя, обычно бескровного, вдруг слабо покраснели впалые щеки, уши и нос, когда вслед за этим криком он небрежно бросил музыкантам презрительный приказ:
– Играть церемониальный марш!
И Углицкий полк под торжественные звуки марша парадов двинулся мимо князя, Стеценко и Грейга в том же направлении, в каком бежал: безоружный, он не годился даже и для того, чтобы прикрывать отступление армии.
Не понимавшие, что это и зачем, все офицеры, начиная с самого командира полка, при первых звуках церемониального марша выхватили сабли и взяли их «на руку», чтобы, не доходя столько-то шагов до князя, взять их «подвысь» и затем опустить «на караул».
Но князь не смотрел уже больше в сторону проходившего полка: он даже хвостом повернул к нему своего донца. Он говорил Грейгу:
– Поезжайте, ротмистр, узнайте, что такое с князем Горчаковым и кто там сейчас его замещает, если он… ранен.
– Слушаю, ваша светлость!
– И в каком порядке там проводится отступление, – сделал ударение на последнем слове князь.
Грейг повторил:
– Слушаю, ваша светлость!
И вот уже точеные белые ноги его рыжей энглизированной кобылы Дэзи замелькали, огибая задние ряды проходившего полка, в том направлении, откуда летели еще английские гранаты и ядра, провожавшие беспорядочные толпы русских солдат.
IIЛорд Раглан, проехав через вполне уже безопасный теперь от русских орудий и ружей бурлюкский мост, направился к сэру Джорджу, чтобы поздравить его с победой.
Сакли аула строились из камней на глине, полов в них не было, горели только деревянные накаты потолка, который в то же время служил и крышей, потому что, смазанный сверху глиной с навозом, не пропускал дождевой воды.
Дым от горевшего навоза был очень удушлив, однако пожара никто не собирался тушить, хотя воды в Алме было для этого довольно; никому не нужен был горевший аул, от которого войска должны были направиться дальше, отрезать отступавших русских и перебить всю армию Меншикова, если она не сдастся.
Но только что проехав мост и подымаясь на другой берег Алмы, Раглан был испуган грудами страшно искалеченных тел стрелков дивизии сэра Джорджа.
Около них возились уже санитары и врачи, выискивая заваленных трупами раненых, которых клали пока отдельно, чтобы после перенести на корабли, так как походные госпитали, хотя и хорошо оборудованные, не были взяты на военные транспорты: они остались в Варне.
Оторванные ядрами головы страшно глядели на старого Раглана открытыми глазами. Некоторые тела были без ног, другие без рук, иные были разорваны так, что трудно уж было различить что-нибудь в кровавой массе. У иных черепа были размозжены не то осколками гранат, не то прикладами русских пехотинцев, и мундиры были обрызганы сплошь белыми сгустками мозга…
Тела убитых офицеров складывали отдельно по полкам, и Раглану доложено было, что одного только 23-го полка дивизии Броуна найдено восемь убитых офицеров, между ними и полковник.
– Боже мой! – Раглан поднес руку к глазам. – Такого количества убитых офицеров не было ни в одном нашем полку даже и в битве при Ватерлоо!
Потом он узнал, что ранен начальник дивизии, генерал сэр Леси Эванс, что под сэром Джорджем была убита лошадь… Встретивший его сэр Джордж имел удрученный вид.
– От моей дивизии не останется ничего, – сказал он Раглану, – если дальше нас ожидает такое же сражение!.. И сколько великосветских семейств должны будут теперь надеть траур!.. Убит капитан Монк… Убит сэр Вильям Юнг… Лорд Читон ранен смертельно… У меня не хватает мужества назвать их всех…
– Как? Неужели и лорд Читон?.. Это печально! Это очень печально, дорогой мой друг! – Раглан покивал головой. – Я никак не ожидал, чтобы русские с их никуда не годными ружьями могли так ожесточенно сражаться! Но у нас есть еще впереди задача их отрезать.
– Отрезать? Да, конечно… Но это, может быть, гораздо труднее, чем заставить их только очистить позиции. Притом же четвертый час уже: скоро начнет смеркаться. А успеем ли мы сделать это до темноты? У того, кто стремится уйти от гибели, вырастают быстрые ноги… Кавалерия наша может быть пущена вслед русским, но кавалерии у Меншикова впятеро больше, чем у нас… Будут ли шансы на успех?
– Да, я уже думал об этом, вы правы, конечно. Мы достаточно сильны, чтобы их победить еще и еще раз, но для преследования их нужны свежие силы. Может быть, задачу эту возьмет на себя Сент-Арно… Тем более что потери его, кажется, гораздо меньше наших.
Между тем он уже поднялся на гребень, за которым густо, кое-где даже не только в два ряда, а грудами лежали убитые русские.
– О-о, как много они потеряли!.. Очень много, да, очень много! – с торжеством в голосе протянул Раглан, оглядывая место ожесточенного рукопашного боя.
– Приблизительно вдвое больше, чем мы, – уточнил сэр Джордж.
– Да, не меньше… не меньше, чем вдвое… Но присмотритесь – они лежат головами к линии нашего фронта… Если только их не напоили пьяными перед боем, то это… это наводит меня на размышления… Это противник очень серьезный, кто бы ни говорил обратное, как это делают наши газетные писаки… Очень серьезный, очень серьезный… И ведь мы шли на совсем не укрепленную позицию, а Севастополь – первоклассная крепость. Для меня ясно по этому первому сражению, что она нам будет стоить дорого, очень дорого, мой друг! Сколько взято знамен и орудий?
– Орудий только два из двенадцати, какие стояли в этом эполементе… В плену у нас будет один генерал и много офицеров, все раненые, впрочем, так что их надо еще лечить… Знамен нами не было взято… Пленных солдат, тоже раненых, наберется, пожалуй, семьсот-восемьсот.
– Вот видите, какие скромные трофеи! Ни одного знамени и всего только два орудия!.. Нет, русские – противник очень серьезный!.. А насчет пленных я, знаете, думаю так: генерала и офицеров мы, соблюдая международную вежливость, возьмем к себе на госпитальное судно, а раненых солдат, пожалуй, вернем обратно их отечеству. У нас, кажется, мало будет медиков и для своих раненых, а для нескольких сот русских надо отрядить целый транспорт и приставить к ним большой штат хирургов. Нет, это нам не по средствам. Самое лучшее – отправить их в Николаев или в Одессу. Пусть со своими ранеными возятся сами русские.
А русские разбитые силы в это время уходили своими плотными каре как бы в строго выдержанном шахматном порядке. Британские орудия, занявшие открытые места неподалеку от заваленных трупами эполементов, пускали им вслед снаряды, но кое-где замечались уже недолеты.
Присмотревшись внимательно к этим плотным удалявшимся каре, Раглан добавил:
– Все-таки они представляют собой еще очень сильные войска. Лорд Лукан рвался ударить им в тыл, и я разрешил ему это, но лучше будет отозвать его обратно. Кавалерии у нас мало, она нам еще может пригодиться в будущем. Нам же надо будет заняться своими ранеными и похоронить, как должно, убитых.
Когда были подсчитаны потери в дивизиях Броуна и Леси Эванса, среди гвардейских гренадер и шотландских стрелков, Раглан написал донесение военному министру, герцогу Ньюкестльскому о «сражении при ауле Бурлюк». Донесение это было составлено скупым на краски, чисто деловым языком.
Потери были показаны в две тысячи солдат, сто четырнадцать сержантов и девяносто шесть офицеров. Упомянуто было о двух орудиях и пленном русском генерале Щелканове.
В то же самое время писал свое донесение самому Наполеону Сент- Арно о «победе на реке Алме», начиная торжественно и высокопарно, как это было свойственно ему, бывшему актеру Флоридалю: «Sire! Le canon de Votre Majeste a parle…»[19].
И если Раглан силы русских, стоящие против английских, называл равными английским, то преувеличение тут было небольшое. Сент-Арно, донося обо всем вообще сражении, как будто и войска Раглана были под его командой, исчислял силы русских в сорок пять тысяч, восемьдесят русских орудий выросли в его донесении в сто восемьдесят, а совершенно не защищенная окопами позиция оказалась «покрытой страшными редутами, которые были взяты только благодаря беспримерной храбрости французских полков, строго выполнявших предначертания своего главнокомандующего».
Излагая последовательно и сухо ход сражения, Раглан ни разу не упомянул о себе лично. Полумертвый Сент-Арно, находившийся все время в почтительном расстоянии от русских пушек, говорил только о себе.
Зуавы Боске возле деревни Орта-Кесэк, лежащей на дороге из Севастополя к Алматамаку, захватили беспечно подъезжавшую во время боя к русской позиции карету Меншикова, в которой сидел писарь, везший кое-какие чистые бланки и неважные текущие бумаги на подпись князю. И об этой карете в торжественно-победном тоне доносил своему монарху маршал: «Я захватил карету князя Меншикова! Я взял ее с его портфелем и перепиской!.. Я воспользуюсь драгоценными данными, какие там найду!..»
В руках французов остался тяжело раненный командир одной из бригад дивизии Кирьякова генерал Гогинов, о чем так же пространно и высокопарно писал Наполеону маршал.
А мадам Сент-Арно, с живейшим интересом наблюдавшая издали великолепную картину боя, вечером, не желая подвергать себя неудобствам бивуачной жизни, перебралась на корабль «Наполеон», в свою каюту.
О возможности преследования русских Раглан ничего не писал «милорду герцогу», но Сент-Арно заканчивал свое донесение словами: «Если бы у меня была конница, ваше величество, армия князя Меншикова перестала бы существовать!»
IIIТелеграф на мысе Лукулл сделал около двух часов дня свою последнюю передачу о том, что неприятель наступает на алминскую позицию по всему фронту. Но еще за час до того пушечная пальба была отчетливо слышна в Севастополе: поверхность моря передает звуки дальше и ярче, чем сухопутье.
Адмирал Корнилов, только что начавший было обедать, вскочил из-за стола, взял с собою обедавшего у него инженер-подполковника Тотлебена, незадолго перед тем присланного Меншикову Горчаковым 2-м из Бессарабии, и поехал верхом по знакомой уже ему дороге на Алму.
Горчаков оценил Тотлебена как инженера на Дунае, при осаде Силистрии, где он сложной системой подземных ходов вплотную подошел к передовому укреплению Араб-Табия и взорвал его по всему фронту.
Но осаду Силистрии приказано было снять, и Горчаков направил этого способного инженера в Севастополь. Однако непоколебимо уверенный в том, что из-за позднего времени года и по другим причинам союзники в Крым не пойдут, Меншиков не хотел даже думать ни о каких работах по укреплению Севастополя с суши. Только после 30 августа Корнилов вспомнил Тотлебена, этого флегматичного на вид, круглолицего офицера, который все жаловался на плохое сердце, но работать мог день за днем, по двадцать часов в сутки. Скоро Тотлебен сделался его ретивым помощником.
Сражение уже кончилось, когда они подъезжали к Алминской долине; им навстречу шла уже разбитая армия, вид которой всегда бывает сумрачен, даже если музыкантам и приказывают играть церемониальный марш.
Сумрачен был и сам Меншиков, который ехал верхом, хотя у него и побаливали ноги: его карету, трофей его победителя, облюбовала себе для дальнейшей прогулки к Севастополю мадам Сент-Арно.
Первое, что услышал от Меншикова Корнилов, было то, что он потерял двух своих адъютантов.
– Капитан Жолобов погиб, бедняга! – сказал он грустно. – Я заезжал проведать его на перевязочном; он был еще жив, но уже совершенно безнадежен. А Сколкову лекаря обещают жизнь, однако без руки какая же может быть у него карьера!.. Впрочем, генерал Скобелев и безрукий стережет Петропавловскую крепость…
Помолчав, он продолжал с гримасой большой брезгливости:
– Кирьякова же я ни в коем случае не хочу больше у себя видеть: это пьяный шут и болван! Вся сегодняшняя неудача наша исключительно от него!.. Если военный министр назначит его куда-нибудь в резервную часть, например в Киев, я буду очень доволен… Это положительно какой-то шут гороховый, а не начальник дивизии!
Корнилов хотел узнать, велики ли потери в полках и какие из полков наиболее пострадали, но ждал, когда об этом заговорит сам князь. Он же больше молчал, чем говорил, что было вполне понятно в его положении.
– А каков Петр Дмитриевич! – Меншиков покачал головой. – Что это – задор, какой был бы только безусому подпоручику к лицу, или в его корпусе совсем и не ночевала дисциплина?.. Командующему главными силами бросать общее наблюдение за ними и во главе батальона идти самому в атаку, что это такое? А батальонный командир на что?.. Или батальонные должны идти в атаку впереди взводов? Очень странно и непонятно! Человек по седьмому десятку… полный генерал, а?! Его счастье, что остался хоть в живых, а генерал Квицинский – тоже впереди батальона пошел в атаку! Может, и не выходится! Что же они оба думали, что за это я их к награде должен представить? Нет, не представлю!
Когда подъезжали к Качинской долине, в которой предусмотрительно были оставлены обозы армии, Корнилов спросил:
– Как вы думаете, Александр Сергеевич, не двинут ли они теперь свой флот к Севастополю, чтобы бомбардировать его на рассвете или даже ночью?
– Да, вам, конечно, надо ехать сейчас же назад и быть наготове ко всяким неприятностям… А я уж останусь при армии и заночую здесь, при обозе, – устало сказал Меншиков. – А чтобы неприятельский флот не ворвался в бухты, я думаю, надо бы затопить несколько старых судов на выходе из Большого рейда…
– Как так – затопить несколько судов? – ошеломленно повторил Корнилов.
– Обратить бухту в закрытое озеро – это единственно возможный выход из нашего положения… А вам, полковник, – Меншиков повернулся к Тотлебену, – вам надобно сделать вот что… Неприятель будет двигаться вдоль берега, как он и двигался, и, конечно, придет к Северной стороне – это неизбежно. Найдите на Инкерманских высотах позицию для нашей армии такую, чтобы можно было взять неприятеля во фланг именно тогда, когда он будет подходить к Северной стороне. Форты Северной стороны будут у него с фронта, армия – с левого фланга… Оборону же Северной стороны, Владимир Алексеич, я поручаю вам.
Корнилов был так изумлен предложением затопить суда при входе на Большой рейд, то есть обречь флот на полное бездействие, что не понял и последнего поручения князя.
– Оборону Северной стороны? – переспросил он. – Какими же силами могу я оборонять семиверстную линию, если вся армия будет под вашим командованием на Инкермане?
– Возьмите матросов с судов в дополнение к резервным батальонам… По моим подсчетам, у вас может составиться тысяч десять.
– Эта цифра может составиться только тогда, если я возьму с судов почти всех матросов, Александр Сергеич!
– Я именно об этом и говорю, – подтвердил князь. – Кроме того, вот еще что: нужно послать фельдъегерем к государю с донесением о сегодняшнем деле ротмистра Грейга… Ротмистр Грейг! – крикнул он назад, так как адъютанты его ехали на приличной дистанции. – Вы назначаетесь фельдъегерем к государю, – обратился князь к штаб-ротмистру, когда тот подъехал.
– Я, ваша светлость? – Грейг испуганно поглядел на него.
– Да, мне кажется, что вы это сделаете лучше, чем кто-нибудь другой. Я не знаю, получите ли вы за это очередную награду, но… во всяком случае хорошо сможете доложить государю, что вы видели и знаете… Прежде всего, конечно, скажете о том, что я нуждаюсь в самой спешной присылке подкреплений… Что армия противника велика, снабжена прекрасным оружием, но что если мы в самое ближайшее время, совершенно незамедлительно, получим корпус свежих войск, то сбросим неприятеля в море… Вот, Владимир Алексеич, вы возьмете его с собой, дадите ему необходимые инструкции и бумаги, и завтра же утром он должен выехать в Петербург… Свое донесение государю я напишу сейчас и пришлю вам с Исаковым…
Когда Корнилов, Тотлебен и Грейг, простившись с Меншиковым, отъехали две-три версты от Качинской долины, где войска расположились бивуаком на ночь, Грейг заметил на боковой дороге смутные в густых сумерках силуэты длиннорогих украинских серых волов, запряженных по несколько пар в три подводы, причем на каждой подводе было что-то длинное, черное и, видимо, очень тяжелое. Около же подвод, покрикивая на волов, шли толпою матросы.
– Что это может быть такое? – озадаченно самого себя, но вслух спросил Грейг, а Корнилов ответил на его вопрос:
– А-а! Это судовые орудия… Я их послал князю еще рано утром, а они только теперь доплелись сюда, когда в них нет уже надобности… Поезжайте, пожалуйста, к ним, голубчик, скажите, чтобы возвращались назад… чтобы оставили их на Северной стороне… Они там сослужат свою службу.
– А государю я должен буду донести и о том, как у нас перевозят орудия, ваше превосходительство? – не без насмешки спросил Грейг, поворачивая коня.
– Отчего же не доложить и об этом? Государь должен знать и то, какие у нас способы перевозки тяжелых орудий, – ответил ему Корнилов.
Подполковник Тотлебен, державшийся все время очень молчаливо, вдруг отозвался на это с большим оживлением:
– Да, государь должен знать правду! Не с парадного подъезда, а с заднего крыльца государь должен знать все о положении Севастополя! И что перевозочных средств оч-чень мало, и что инженерное имущество оч-чень бедное, и что войск оч-чень мало, и что оружие оч-чень плохое – все это должен сказать государю ротмистр Грейг. Он должен иметь мужество сказать это! Это есть его долг!
– Я уверен, что у Грейга мужества на это хватит, – сказал Корнилов, – но… будем молиться Богу, чтобы хватило мужества и у князя не настаивать на истреблении своего же флота! Я думаю, что это вырвалось у него под влиянием неудачи… Он очень расстроен… А? Вы это заметили?
– Как знать, – уклончиво ответил Тотлебен. – Когда Геркулес[20] бросал Антея на землю, земля Антею возвращала все его прежние силы… Если матросы наши хороши на море, то тем лучше они будут на суше…
– Матросов посадить в окопы? – крикнул Корнилов.
– Конечно, это только в случае крайней необходимости, ваше превосходительство, – поспешил смягчить свои слова Тотлебен.
– Матросов засадить в окопы – это все равно что художников заставить красить заборы!.. Нет, моряки слишком дорогой вид войска, и они сделают для защиты Севастополя то, что их учили делать! И сделают это именно на море, а не на суше!
IVКак только стемнело, ничего не евшие и не пившие за целый день солдаты, вдобавок еще, как это было в нескольких полках, бросившие тяжелые ранцы и сухарные мешки, разбрелись по Качинской долине в виноградники и сады: зрелое и незрелое, все поедалось без разбору.
Слышалось только повсюду, за невысокими каменными стенками и плетнями, как отрясались деревья, как градом падали наземь яблоки и груши, как перекликались друг с другом и переругивались солдаты, а фельдфебеля на привале около построек кричали неистово:
– Пе-ервая рота Бородинского полка-а, сюда-а-а-а!
– Пятая рота Суздальского полка-а, сюда-а-а-а!
– Восьмая рота Московского полка-а, сюда-а-а-а!
Это последнее «а-а-а-а!» тянулось до бесконечности. Конечно, голоса у фельдфебелей были разные: у кого бас, у кого звонкий тенор, – но трудно было все-таки различить в темноте, кое-где только слабо пронизанной огоньками непышных костров, свой ли фельдфебель кричит, или чужой, и солдаты, собираясь на крики, которые неслись со всех сторон, часто ошибались, попадали не только не в свою роту, а даже в чужой полк, и до полуночи почти бродили зря, а после полуночи барабанщики по всему лагерю ударили сбор, потому что Меншикову не спалось, – беспокоила мысль о глубоком обходе, охвате, даже о десанте противника под самым Севастополем, оставшимся без армии: представлялось совершенно необходимым к рассвету довести войска до Инкерманских высот.
И вот, то и дело натыкаясь на кусты карагача и дуба, объеденные за лето козами и потому колючие, отводя душу руганью, двинулись в темноте дальше совершенно перемешавшиеся местами части – просто толпы солдат, подгоняемые единственным желанием добраться до кухонь, когда придут наконец на место. Дальше, в лесу, совершенно перепутались и перемешались части, так что утром, едва забрезжило, когда дошли до Бельбекской долины передовые отряды, пришлось остановить их, чтобы разобраться по ротам, батальонам, полкам…
Но перед тем как разобраться, молодые офицеры и солдаты вкупе и влюбе разгромили виноградники и сады, чтобы уж ничего не досталось следом идущим французам.
А часам к девяти утра с Северной стороны на Южную через Большой рейд начали перевозить раненых, которые могли идти сами и шли впереди войск небольшими командами. Так как среди них не было начальства, то они и не знали, куда именно следует им направиться. Они появлялись толпами в наиболее сытном месте города – на базаре, где были харчевни и сидели торговки с булками, студнем, гороховым киселем, грушевым квасом. Торговки сердобольно роздали голодным раненым все свои товары, но подходили новые толпы усталых, измученных, закопченных пороховым дымом, с кровавыми повязками на руках, головах, иногда даже на ногах: ковыляли, но двигались – и глядели молящими глазами на базарную снедь.