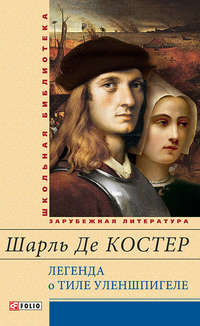
Легенда о Тиле Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, их приключениях отважных, забавных и достославных во Фландрии и других странах
В часы досуга Клаас постреливал; не один заяц был им загублен и обращен в жаркое за чрезмерное пристрастие к капусте.
Клаас ел в таких случаях с жадностью, но Сооткин смотрела на безлюдную толпу и говорила:
– Тиль, сын мой, вдыхаешь ли и ты запах подливы? Наверное, голодает где-нибудь. – И, погружённая в свои мысли, она готова была оставить для него вкусный кусочек.
– Если он голоден, – отвечал Клаас, – сам виноват; пусть вернётся, будет есть, как мы.
Клаас держал голубей. Кроме того, он любил щеглов, скворцов, коноплянок и прочих пискунов и визгунов, их щебетание и возню; и он охотно стрелял кобчиков и ястребов, истребляющих эту певчую братию.
Однажды, когда он во дворе отмеривал уголь, вдруг прибежала Сооткин, показывая ему большую птицу, кружащуюся над голубятней.
Клаас схватил арбалет со словами:
– Ну, пусть теперь чёрт спасёт господина ястреба.
Он прицелился и следил за движениями птицы. Спускались сумерки, и Клаас мог различить в небе только тёмную точку. Наконец он выстрелил; во двор упал аист.
Это очень смутило Клааса, а Сооткин была огорчена и кричала ему:
– Злой человек, ты убил божью птицу.
Она подняла аиста, увидела, что тот ранен только в крыло, смазала и перевязала его рану и сказала:
– Милый аист, нехорошо, что ты, наш любимец, вздумал парить по поднебесью, точно ястреб, наш враг; так не одну стрелу выпустит народ в ложную цель. Болит у тебя крылышко, аист милый? Как терпеливо ты переносишь мои заботы. Видно, ты знаешь, что наши руки – руки друга.
Оправившись, аист ел, что ему хотелось; особенно любил он рыбу, которую Клаас ловил для него в канале. И всякий раз, когда аист видел его возвращение, он широко разевал свой клюв.
Аист бегал за Клаасом, как собачонка, но ещё больше любил оставаться в кухне, грелся у огня и колотил Сооткин, хлопотавшую у печки, по животу, как бы спрашивая: «Нет ли чего для меня?»
И было так забавно видеть, как важно расхаживает по домику на своих длинных ногах этот вестник счастья.
LI
Но вновь вернулись тяжёлые дни; печально и одиноко работал Клаас в поле, ибо больше там не было работы. Сидя дома одна, Сооткин плакала, чтобы еда не опротивела мужу, придумывала разные приправы к бобам, которые приходилось есть изо дня в день. При муже она пела и смеялась, стараясь разогнать тоску, а аист стоял подле неё на одной ноге, уткнув голову под крыло.
Перед домом остановился всадник; он был в чёрной одежде, очень худой, а лицо его было печально.
– Есть кто-нибудь в доме? – спросил он.
– Бог да благословит вашу мрачную милость, – ответила Сооткин. – Что ж я, призрак, что ли, что вы, видя меня здесь, спрашиваете, есть ли кто в доме?
– Где твой отец? – спросил всадник.
– Если это моего отца зовут Клаасом, то он там, сеет хлеб; там и найдёшь его.
Всадник уехал. И Сооткин печально пошла за хлебом, чтобы в шестой уже раз взять у булочника в долг. Вернувшись с пустыми руками, она была изумлена, увидев, что Клаас едет с поля с победоносным, сияющим лицом на коне чёрного человека, а тот идёт с ним рядом и ведёт коня под уздцы. Клаас гордо прижимал рукой к бедру кожаную, видимо, туго набитую сумку.
Сойдя с коня, он обнял чёрного человека, похлопал его по плечу и, встряхнув сумку, воскликнул:
– Да здравствует мой брат Иост, добрый отшельник! Сохрани его Господь в радости, в сытости, в веселье и здоровье! Иост благословенный, Иост щедрый, Иост сытно питающий! Аист не солгал.
И он положил сумку на стол.
На это Сооткин жалобно сказала:
– Муж, у нас сегодня есть нечего: булочник не дал в долг хлеба.
– Хлеба? – воскликнул Клаас, раскрывая сумку, из которой хлынуло на стол золото. – Хлеба? Вот тебе хлеб, вот масло, мясо, вино, пиво! Вот ветчина, мозговые кости, дрозды, каплуны, паштеты из цапли, лакомства, как у самых важных господ, вот бочка пива, вот бочонки вина! Где булочник, который нам откажет в хлебе? Болван! Ведь мы ничего не будем покупать у него.
– Но, милый… – сказала ошеломлённая Сооткин.
– Ну, слушай и радуйся, – продолжал Клаас, – Катлина не осталась в Антверпене ждать, пока кончится срок её изгнания. Неле перебралась с ней в Мейборг, весь путь они сделали пешком. Здесь Неле рассказала моему брату Иосту, что, несмотря на нашу тяжёлую работу, мы часто живём впроголодь. Как мне сообщил этот почтенный посланец, – и Клаас указал на чёрного всадника, – Иост выступил из святой римской церкви и предался Лютеровой ереси.
– Еретики – это те, которые служат Великой блуднице, ибо Папа Римский – предатель и торгует святыней, – возразил человек в чёрном.
– Ах, Господи, – воскликнула Сооткин, – не говорите так громко, а то из-за вас сожгут и нас всех.
– Итак, – продолжал Клаас, – Иост поручил этому почтенному посланцу передать нам, что вступает в войско Фридриха Саксонского, набрав и вооружив для него пятьдесят солдат. Так как он идёт на войну, то ему не нужно много денег, которые, в случае неудачи, попадут только в руки какого-нибудь негодного ландскнехта. Поэтому он приказал: отвезти брату своему, Клаасу, эти семьсот червонцев вместе со своим благословением; передай ему, пусть живёт во благе и думает о спасении души.
– Да, – сказал посланный Иоста, – для этого настало время, ибо Господь будет судить каждого и воздаст ему по делам его.
– Конечно, сударь, – сказал Клаас, – но пока что могу же я порадоваться доброй вести. Прошу вас побыть у меня; мы отпразднуем эту радость, поглотив великолепные потроха, жарки́е, окорока, которые так заманчиво и привлекательно, – я, проходя, видел, – висели у мясника, что у меня от жадности зубы повылезли изо рта.
– Увы, – безумные, – сказал чёрный человек, – они предаются наслаждениям, между тем как око Господне следит за их путями.
– Слушай, посланец, – сказал Клаас, – ты хочешь или не хочешь выпить и закусить с нами?
Посланец ответил:
– Когда падёт Вавилон, тогда настанет для верных пора предаваться земным радостям.
Сооткин и Клаас при этом перекрестились, он же повернулся, чтоб ехать. Тогда Клаас сказал:
– Если уж ты непременно хочешь так нелюбезно расстаться с нами, то передай моему брату Иосту дружеский поцелуй и охраняй его в бою.
– Исполню, – ответил посланец.
И он уехал. Сооткин же отправилась за покупками, чтобы как следует отпраздновать их неожиданное счастье; и аист получил в этот день к ужину двух пескарей и тресковую голову.
Вскоре распространилась по Дамме весть, что бедный Клаас благодаря дару своего брата Иоста сделался богатым Клаасом, и священник выразил мнение, что это, конечно, Катлина околдовала Иоста. Ибо Клаас явно получил от него большие деньги, а между тем и юбчонки не пожертвовал для Святой Девы.
Клаас и Сооткин были счастливы; Клаас работал в поле или продавал уголь, а Сооткин хлопотала в доме по хозяйству.
Но глаза её по-прежнему неустанно искали по дорогам её сына Уленшпигеля.
И все наслаждались счастьем, дарованным им от Господа Бога, и ждали, что дадут им люди.
LII
Император Карл в этот день получил от своего сына из Англии письмо, которое гласило:
«Государь и отец мой!
Мне неприятно жить в этой стране, где проклятые еретики кишат, точно блохи, черви и саранча. Меча и пламени недостаточно, чтобы очистить от их скверны ствол мощного древа животворящего, коим есть и пребудет наша мать, святая церковь. И словно мало для меня этой печали, – я должен ещё терпеть, что меня здесь не признают королём, но лишь мужем их королевы, не пользующимся никаким уважением. Они издеваются надо мной и в ядовитых пасквилях, составители которых так же неуловимы, как издатели, рассказывают, что Папа Римский подкупил меня, чтобы я безбожными виселицами и кострами довёл это королевство до смуты и конечной гибели. Когда мне бывает нужно провести спешный налог, – ибо часто они злоумышленно оставляют меня совсем без денег, – они насмешливо советуют мне в своих ядовитых листках обратиться к сатане, которому я служу. Господа из парламента, правда, извиняются и, из страха, что и я могу укусить их, пыжатся, но денег не дают.
А стены лондонских домов покрыты позорящими меня пасквилями, где я изображён как отцеубийца, готовый покуситься на жизнь вашего величества, чтобы вступить на ваш престол.
Но вы сами, государь и отец мой, знаете, что, несмотря на законное честолюбие и гордость, я желаю вашему величеству долгого и славного царствования.
Они распространяют по городу преискусно вырезанную на меди гравюру, на которой изображено, как я заставляю кошек играть на клавесине. Кошки заперты в ящике, их хвосты торчат из круглых дырок, где они закреплены железными полосками. Человек – это я – прижигает им хвосты раскалённым железом, тогда они наступают на клавиши и яростно мяукают. Я нарисован в таком гнусном образе, что не в силах смотреть на себя. Да ещё изобразили меня смеющимся. Но вы знаете сами, государь мой и отец, предавался ли я когда-либо этому низкому удовольствию. Правда, я пытался найти развлечение в том, что заставлял иногда помяукать кошек, но я никогда не смеюсь. На их бунтовщическом языке они называют это «новый страшный клавесин» и говорят, что это преступление, но ведь у зверей нет души, и всякий человек, а тем более отпрыск королевского рода, вправе пользоваться ими для своего развлечения, хотя бы они и дохли от этого. Но здесь, в Англии, они так влюблены в скотов, что лучше обходятся с ними, чем со своими слугами. Конюшни и псарни здесь – настоящие дворцы, и есть дворяне, которые спят на одном ложе со своей лошадью.
Кроме того, королева, моя благородная супруга, бесплодна. С подлой наглостью утверждают они, что виноват в этом я, а не она, которая к тому же ревнива, вспыльчива и безгранично похотлива. Отец и государь мой, ежечасно молю я Господа охранить меня и надеюсь на другой престол, хотя бы в Турции – в ожидании престола, на который призывает меня честь быть сыном вашего во веки веков преславного и победоносно сияющего величества».
Подписано: «Фил».
Император ответил на это письмо:
«Господин и сын мой!
Не спорю, враги ваши многочисленны, но постарайтесь не раздражаться чрезмерно в ожидании более высокой короны. Многим лицам я уже не раз выражал моё намерение отречься от престола нидерландского и других: ибо я стар и хвор – и знаю, что не могу противостоять Генриху II, королю французскому. Ибо фортуна за молодых людей. Поразмыслите и о том, что вы, будучи повелителем Англии, своим могуществом вредите Франции, нашему врагу.
Под Мецем я потерпел позорное поражение и потерял сорок тысяч человек. От саксонцев пришлось бежать. Если Господь в божественном его благопопечении не вернёт мне одним разом мою былую силу и крепость, тогда, сын мой, я предполагаю отречься от моего королевского сана и передать его вам.
Вооружитесь посему терпением и до поры до времени исполняйте ваш долг по отношению к еретикам, не щадя никого, ни мужчин, ни женщин, ни девушек, ни детей, ибо я не без великого прискорбия уверился, что королева, супруга ваша, слишком часто оказывала им снисхождение.
Ваш любящий отец».
Подписано: «Карл».
LIII
Долог был путь Уленшпигеля, и кровью начали сочиться его ноги. К счастью, в Майнцском епископстве он попал в повозку с богомольцами и в ней доехал до Рима.
Прибыв в город и сойдя с повозки, он увидел на пороге корчмы прехорошенькую бабёнку, которая на его взгляд ответила улыбкой.
Обнадёженный этим приветом, он обратился к ней:
– Хозяйка, не дашь ли приют богомольцу? Срок настал, и мне пора разрешиться… отпущением грехов.
– Мы даём приют всем, кто платит.
– Сто дукатов в моём кошельке, – ответил Уленшпигель (хотя у него был всего один), – и первый из них я истрачу с тобой за бутылкой старого римского вина.
– Вино не дорого в этой святой стране, – отвечала она, – войди, напьёшься и на один сольдо.
И они пили так долго и без труда опорожнили столько бутылок, что хозяйка вынуждена была поручить своей служанке подавать другим гостям. Сама она с Уленшпигелем удалилась в соседнюю комнатку, облицованную мрамором и прохладную, точно зимой.
Склонив голову на его плечо, она спрашивала, кто он такой.
Уленшпигель ответил:
– Я маркиз де Разгильдяй, граф Проходимский, барон Безгрошá, на родине моей в Дамме мне принадлежит двадцать пять лунных поместий.
– Что же это за страна? – спросила хозяйка и выпила из бокала Уленшпигеля.
– Это страна, где сеют надежды, обещания и мечтания. Но ты, милая хозяйка с пахучей кожей и светящимися, точно жемчужины, глазами, ты родилась не при луне, ибо золотой отблеск этих волос – это цвет солнца, и никто, кроме Венеры, чуждой ревности, не мог создать эти полные плечи, эти пышные груди, эту круглую шею, эти маленькие ручки. Мы ужинаем сегодня вместе?
– Красивый богомолец из Фландрии, скажи, зачем ты приехал в Рим?
– Поговорить с папой, – ответил Уленшпигель.
– О! – воскликнула она, сложив руки. – Говорить с папой? Я здешняя и то не могла добиться этой милости.
– А я добьюсь, – отвечал Уленшпигель.
– Но разве ты знаешь, где он пребывает, какой он, какие у него привычки и требования?
– Мне по дороге рассказывали, что зовут его Юлий Третий, что живёт он весело и распутно, что он умелый и бойкий собеседник. Мне рассказывали, что он питает необычайную склонность к бродяжке, который где-то подошёл к нему с обезьянкой и, грязный, обтрёпанный, неотёсанный, попросил милостыню. Взойдя на папский престол, Юлий сделал его кардиналом, ведающим денежными сборами, и теперь не может жить без него.
– Пей и не говори так громко.
– Слышал я ещё, что однажды вечером, когда ему не подали холодного павлина, которого он приказал оставить для себя, он бранился, как солдат: «А dispetto di Dio, potta si Dio». И говорил при этом: «Я, наместник Божий, могу ругаться из-за павлина – рассердился же мой повелитель на Адама из-за яблока!» Видишь, красавица, я знаю папу и знаю, каков он.
– Ах, только с другими не говори об этом. Всё-таки ты его не увидишь.
– Я с ним буду говорить.
– Сто флоринов, если добьёшься,
– Я уже выиграл.
На другой день, несмотря на свою усталость, он всё ходил по городу и узнал, что сегодня папа будет служить обедню в соборе Св. Иоанна Латеранского. Отправившись туда, Уленшпигель расположился как можно ближе к папе и на виду. Всякий раз, как папа воздымал святую чашу или Святые Дары, Уленшпигель поворачивался к алтарю спиной.
Рядом с папой стоял сослужащий кардинал, со смуглым, толстым и злым лицом, и, держа на плече обезьяну, давал народу причастие, делая при этом непристойные телодвижения. Он обратил внимание папы на поведение Уленшпигеля, и после обедни были посланы взять его четыре отличных солдата, какими славится эта воинственная страна.
– Какой ты веры? – спросил его папа.
– Ваше святейшество, – ответил Уленшпигель, – я той самой веры, что и моя хозяйка.
Привели хозяйку.
– Какой ты веры? – спросил её папа.
– Той самой, что и ваше святейшество, – ответила она.
– Я тоже, – сказал Уленшпигель.
Тогда папа спросил его, почему же он отворачивается от Святых Даров.
– Я считал, что недостоин смотреть на них.
– Ты богомолец?
– Я пришёл из Фландрии вымолить отпущение моих грехов.
Папа благословил его. Уленшпигель удалился со своей хозяйкой, и она отсчитала ему сто флоринов. С этим приятным грузом он покинул Рим, чтобы возвратиться на родину.
Но за пергаментное свидетельство об отпущении грехов ему пришлось уплатить семь дукатов.
LIV
Два монаха ордена премонстрантов прибыли в это время в Дамме продавать индульгенции. Поверх их монашеских одеяний были надеты кружевные рубахи.
В хорошую погоду они торговали на паперти собора, в дождливую – в притворе, где была прибита табличка с расценкой грехов. Они продавали отпущение грехов за шесть лиаров, за патар, за пол парижского ливра, за семь, за двенадцать флоринов, за дукат, – на сто, двести, триста, четыреста лет, а равно, смотря по цене, также полное загробное блаженство или половину его и разрешение самых страшных преступлений, включая вожделение к Пресвятой Деве. Но это стоило целых семнадцать флоринов.
Уплатившим сполна покупателям они вручали кусочки пергамента, на которых указано было число оплаченных лет. Внизу можно было прочесть следующую надпись:
Коль не хочешь, чтоб тысячу летВ чистилище тебя припекали,А потом в аду, на вечном огне,Печь, варить и поджаривать стали –Купи индульгенцию! –Грехов отпущенье,Милость Божию и прощеньеПо сходной цене продаём.Помни о спасенье своём!И покупатели стекались за десять миль отовсюду.
Один из монахов часто читал народу проповеди. У него была цветущая рожа, тройной подбородок и порядочное брюшко, нимало не смущавшее его.
– Нечестивец! – говорил он, вперяя взор в кого-либо из своих слушателей. – Нечестивец! Взгляни – вот ты в адском огне! Жестокое жжёт тебя пламя. Тебя кипятят в котле кипящего масла, в котором жарят пироги Астарты. Ты – колбаса на сковороде Люцифера, ты огузок в кастрюле Гильгерота, великого дьявола; и на мелкие кусочки для того ты изрублен. Взгляни на этого великого грешника, не подумавшего об отпущении грехов, взгляни на эту кастрюлю рубленого мяса; это он, это он, это его безбожное тело, это его проклятое тело так разделано. А приправа к нему? Приправа – сера, дёготь и смола! И все несчастные грешники будут вечно пожираемы, но так, чтобы непрестанно вновь воскресать к новым мучениям. Вот где льются неподдельные слёзы, вот где подлинно скрежещут зубы! Господи помилуй, Господи помилуй! Да, вижу, вижу тебя в аду, бедный грешник, вижу твои мучения! Один лишь грош, уплаченный за тебя, – и уже легче твоей правой руке; ещё полушка – обе твои руки освободились из пламени. А остальное тело? Флорин всего – и низверглось на тебя благостной росою отпущение грехов. О сладостная прохлада! И так – десять дней, сто дней, тысяча лет, смотря по взносу: ты уже не рубленое мясо, не жаркое, не оладья, кипящая в масле. И если не для тебя это, грешник, то разве мало в сокровенных глубинах этого пламени других страждущих душ: твоих родных, твоей любимой жены, какой-нибудь милой красотки, с которой ты так сладостно грешил?
При этих словах монах толкнул в бок своего товарища, стоявшего подле него с серебряным блюдом. Тот опустил глаза и благоговейно потряс блюдом, призывая к жертвованиям.
– И разве, – продолжал монах, – разве в этом страшном пламени нет у тебя сына, дочери, любимого ребёнка? Они кричат, плачут, они взывают к тебе! Неужто ты глух к этим жалостным стенаниям? Нет, невозможно. Твоё ледяное сердце тает, – и это стоит тебе грош. И посмотри: при звуках этого гроша, падающего на эту жалкую медь (здесь монах вновь потряс своим блюдом), ты видишь вдруг просвет в пламени: одна бедная душа поднялась из жерла вулкана. И вот она на свободе, она на чистом воздухе! Где её муки? Холодное море перед нею, она бросилась в него, она барахтается в нём, плавает на спине, переворачивается на волнах, ныряет. Слышишь – она издаёт радостные крики, видишь – она кувыркается в воде. Ангелы глядят на неё и ликуют. Они ждут её, но она не может оторваться от своего наслаждения. Ей хотелось бы стать рыбой! Она не знает, что там, наверху, её ждут прохладительные водоёмы, полные душистой, сладостной, нежной влаги, в которой – точно холодные льдины – плавают громадные горы из белого леденца. Вот подплыла акула, но душа не боится её, она садится чудовищу на спину, и оно не чувствует этого. Она ныряет с ним в глубь морскую, она приветствует морских ангелов, которые едят waterzoey[9] из коралловых чаш и свежих устриц на перламутровых тарелках. И как встречают её здесь, каким уходом, приветом и вниманием она окружена! Ангелы сверху всё зовут её с небес. И вот, наконец, возрождённая, блаженная, она вздымается в небеса, звеня жаворонком, взлетает туда ввысь, где во всём великолепии восседает на престоле Господь Бог. Там находит она всех своих земных родных и друзей, кроме тех, которые не купили своевременно индульгенции, презрели отпущение грехов, даруемое святой нашей матерью – католической церковью, и жарятся в недрах адовых. И так вечно, впредь во веки веков в огне непреходящих страданий. А прощённая душа – та в чертогах Господних наслаждается благоуханной влагой и сладостью леденца.
– Покупайте индульгенции, братья; есть на всякие цены: за крузат, за червонец, за английский соверен. Принимаем и мелкие деньги. Покупайте. Покупайте. Здесь священная торговля: здесь есть товары для всякого – для бедного и богатого. Но в долг, братья, к великому горю, мы давать не можем, ибо покупать прощение и не платить за него наличными – преступление в глазах Создателя.
Монах, собиравший деньги, молча потрясал блюдом. Флорины, крузаты, патары, дукатоны, денье и су сыпались в него градом.
Клаас, считая себя богачом, уплатил флорин, получив за него отпущение на десять тысяч лет. В подтверждение монахи выдали ему кусок пергамента.
Вскоре они увидели, что не купивших себе индульгенции осталось в Дамме всего несколько закоренелых скупцов. Тогда оба перебрались в Гейст.
LV
В хламиде богомольца и с отпущением грехов в суме покинул Уленшпигель Рим. Бодро шёл он вперёд и так пришёл в Бамберг, который славился лучшими овощами в мире.
В трактире, куда он направился, его встретила приветливая хозяйка со словами:
– Молодой мастер, хочешь поесть за деньги?
– Конечно, – ответил Уленшпигель, – а за какие же деньги у вас едят?
– За шесть флоринов – на господском столе, за четыре – на купеческом, за два – на общем.
– Чем дороже, тем лучше для меня, – отвечал Уленшпигель и сел за господский стол.
Наевшись досыта и запив еду рейнским, он обратился к хозяйке:
– Что ж, кума, я съел на шесть флоринов; плати, стало быть.
– Ты издеваешься, что ли? – ответила хозяйка. – Плати за обед.
– Прелестная хозяйка, – возразил Уленшпигель, – не видно по вашему лицу, чтобы вы были неисправным должником, нет, наоборот, я вижу, что честность ваша так велика, любовь к ближнему так необъятна, что вы готовы заплатить мне восемнадцать флоринов, не то что шесть, которые должны мне за еду. Достаточно взглянуть на эти прекрасные глаза: солнечные лучи стремятся из них на меня, точно стрелы, и под их светом любовные шалости возрастают пышнее, чем бурьян в пустыне.
– Знать не хочу никаких твоих шалостей и бурьянов – плати деньги и уходи.
– Что! Уйти – и тебя не видеть? Лучше издохнуть на месте! Хозяйка, красотка, я не привык обедать за шесть флоринов, я бедный бродяжка, пешком пришедший через горы и долы. Я нажрался досыта, так что вот-вот высуну язык, как сытый пёс; заплатите же мне за тяжкие труды моих челюстей; я заработал мои шесть флоринов. Позвольте получить, – и я так нежно обниму и поцелую вас, как и двадцать семь любовников обнять не могут.
– Да ты всё это говоришь из-за денег?
– А ты хочешь, чтоб я тебя даром съел?
– Нет, – сказала она, отталкивая его.
– Ах, – вздохнул он, следуя за нею, – твоя кожа точно сливки, твои волосы точно золотистый фазан на вертеле, твои губы точно вишни. Есть ли кто на свете вкуснее тебя?
– Негодяй, – говорила она смеясь, – ты ещё денег требуешь, скажи спасибо, что поел даром.
– Ах, – ответил он, – если бы ты знала, сколько у меня там ещё пустого места.
– Убирайся, пока муж не пришёл.
– Я не буду суровым кредитором, – ответил Уленшпигель. – Дай пока хоть один флорин залить жажду.
– Возьми, каналья, – ответила она.
– Можно ещё прийти?
– Уходи с богом!
– С богом, значит, к тебе, голубка, ибо уйти и не видеть больше тебя, это безбожно. Если бы ты позволила мне остаться, я бы тебя каждый день съедал по меньшей мере на флорин.
– Ой, возьму палку! – крикнула она.
– Возьми мою, – ответил Уленшпигель.
Она захохотала, но ему пришлось уйти.
LVI
Ламме Гудзак переселился обратно в Дамме, так как в Льеже стало неспокойно из-за еретиков. Его жена была рада этому, потому что льежцы искони известны как злые насмешники и трунили над добродушием её мужа.
Ламме часто заходил к Клаасу, который, с тех пор как стал богатым наследником, охотно проводил время в трактире Blauwe-Torre, где всегда был готовый стол для него и для его собутыльников. За соседним столом обычно помещался Иост Грейпстювер, скаредный старшина рыбных торговцев; скупой и мелочный, он выпивал не больше полукружки, питался одной солёной селёдкой и думал о своих грошах больше, чем о спасении своей души. А у Клааса в кошельке лежал листочек пергамента, на котором значилось десять тысяч лет отпущения грехов.
Сидели они как-то в трактире – Клаас, и Ламме, и Ян ван Роозебеке, и Матейс ван Асхе; пришёл и Иост Грейпстювер. По сему случаю Клаас пил кружку за кружкой, и Ян Роозебеке заметил ему:

