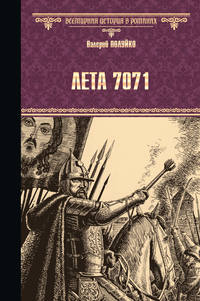
Лета 7071
Ходили толпой на Поганую лужу – к митрополиту. Полдня стояли ждали. Пообморозились. Настрадались.
Не вышел к ним митрополит: совсем хворь одолела. Чернца выслал, велел сказать, что денно и нощно молится о царском здравии и просит Бога не оставить его в трудный час. Велел и им всем молиться и просить Бога даровать царю победу.
От слободы к слободе пошли перешепотки: будто прискакивал от царя брат царацын Темрюк с наказом к боярину Мстиславскому – ехать в новгородские и псковские земли войско на подмогу царю собирать. Верили, не верили, но шептаться не переставали. Наконец не стало терпенья: занудила безвестность и тревога. Весь посад всколыхнулся. Не сговариваясь, пошли к Кремлю, собрались у Фроловской башни, стали бухать в окованные железом ворота.
Сверху, с отводной стрельницы, заорал на них стражник:
– Эй, народ, расходься! Пищали заряжены!
– Пищалью нас не стращай! Мы подобру пришли!
– Нам правду проведать!
– Нет правды!.. Расходься! – угрозливо кричал сверху стражник. – Фитиль прилажу, будет вам ядрена потешь!
– Не гоношись, не гоношись! – закрикивали его. – Ишь, под небу вылез и ядреное раздаешь!
– Спущайся сюды, мил-бел! Мы тебя наядрим хошь во все места!
Еще одна голова высунулась из-за бойничного зубца. Гулко, как било, прогудел над толпой надсаженный голос:
– Эй, народ! Я стрелецкий голова Авдей Суков! Пошто скучились?
– Голова, столкни-ксь нам тово еборзея! Пищалью стращал!
– Мы правду пришли вызнать, а он нас – пищалью!
– Зови болярина! – кричали из толпы. – Пущай станет перед нами и скажет!..
– Не вздуряйтесь! – еще громче крикнул стрелецкий голова. – Расходись!
– Не разыдемся! Зови болярина!
– Пущай скажет нам про ратное дело!
– Уж кой час в неведенье!
– Зови болярина!!! – заревела разом вся толпа. Замахали руками, засвистели, полетели на стрельницу комья снега.
– Тьфу! – плюнул с досады Авдей Суков. – Болярина им… Буде, самого Господа Бога?!
– Бо-ля-ри-на! Бо-ля-ри-на! Бо-ля-ри-на!
– Ну, ждите, собачьи души!
Стали ждать боярина.
Кто молился надвратному Спасу[40], кто трясся от холода, толкался и орал, будто крик согревал, а кто в унынье и страхе молча ждал, что же будет дальше? Выйдет к ним боярин или стрельцы пальнут из пищали – и делу конец. Но стояли в толпе и такие, которые если уж затевали что, то непременно должны были добиться своего. Таким и на стены взлезть не велико дело. Полезут, ежели в раж войдут: и ни стрельцы со своими пищалями не остановят их, ни строгий лик Христа – сдерут со стены и его, чтоб не охлаждал своим осуждающим взором разбушевавшуюся удаль. Таких лучше не распалять…
Знал об этом Мстиславский, потому и поспешил без промедления к Фроловской стрельнице, как только услышал от стрелецкого головы о собравшейся перед воротами толпе.
Мстиславский мог бы подняться на отводную стрельницу и оттуда говорить с собравшимися, но он решил выйти прямо к ним – лицом к лицу, чтобы ни в ком не зародилось подозрение, будто боится боярин толпы.
Коль боишься толпы – какова тебе вера тогда? Никогда еще трусу не верили на Московии!
Выйдя к черни решительно и спокойно, будто на гульбище к ним пожаловав, Мстиславский одним своим видом успокоил и самых ретивых смутьянов, и самых упрямых неверов.
– Мое почтение и поклон вам, люди московские, – спокойно, негромко сказал он и низко поклонился. – Коль по чести своей я достоин вас слушать, московские люди, говорите, я слушаю!
– Достоин! Достоин! – закричали из толпы. – Знаем тебя!
– Пошто оставили вы дела свои и заботы и сошлись сюда? Буде, кто подбивал вас?
– Шли по доброй воле! И звали тебя, дабы ты сказал нам всю подлинную…
Из толпы выступил косматый угрюмый мужик, поклонился Мстиславскому:
– Кожемяк я, боярин. За Яузой мой дом. Дозволь от всего народу вопросить тебя про царя нашего и господаря Иван Васильевича, что в землю литовскую ушел с ратным делом. Чтоб не было в наших душах переполоху и смуты, скажи нам и перед иконой Господней перекстись – справил государь дело свое ладно иль худо?
За Никольским раскатом черкесы едва сдерживали лошадей. Толпа еще не видела их – все смотрели на Мстиславского и ждали от него слова.
Мстиславский стоял на мосту, перекинутом через ров, – место это было высокое, и с высоты он сразу заметил черкесов. Подумал раздосадованно: «Ох и ретив голова! Уже и Темкина всполошил. Загорится сыр-бор, а ворота настежь…»
Лицо у Мстиславского посуровело, он повернулся к воротам, поднял глаза на надвратную икону и решительно, размашисто перекрестился.
– Господи! – не отрывая глаз от иконы, прошептал он, и даже самые задние услышали его шепот: – Молим тя, даруй победу нашему государю!
Мстиславский опустился на колени и услышал, как вместе с ним, тяжело и грузно, опустилась вся толпа.
– Молим тя, господи! – еще напряженней прошептал он.
– Молим тя, господи! – выдохнула толпа, и пополз гул по стенам и стрельницам, по куполам, по звонницам…
– Молим тя, господи!
«Осподи-осподи…» – укатилось к Москве-реке.
3К концу января зима настоялась, как пиво на хмелю: крепко, нестерпно шибало морозом, палило жгучим ветром, будто между небом и землей металось невидимое пламя.
По закуткам, по притынам набились пухнатые сугробы, повжимались в заборы, в стены изб, поподлезли под самые крыши, словно хоронились от стужи. Куда ни глянь – снег, снег… Долго скупилась зима, долго держала землю черной, неприкрытой, но потом расщедрилась: что ни день – снегопад, что ни ночь – метель. Засыпан снегом Кремль, засыпаны слободы: по полям, по урочищам, по выгонам снегу в полсажени – не слежалого, легкого, как дух. Чуть дунет низовик, и сразу же вспучивается, поднимается кверху густая снеговерть – ни неба, ни земли не видать, только белое, сизое, синее мельтешение…
Из-за Яузы, с Москвы-реки, с Воробьевых гор метутся тучи снега. Заметают площади, улицы, избы, соборы…
Ночью – хоть глаз выколи: стылая, кромешная мгла. От избы до избы через улицу не перейти. Закружит, завертит – в двух шагах от порога запутает. Собьешься с пути – ни огонька, ни звука. Зови не зови, никто не услышит, никто не выйдет на помощь.
До утра все мертво. Спит Москва, засыпанная снегом, исхлестанная ветром, исстуженная, неприветливая…
Если к рассвету не стихнет, не отпуржит, город так и не расшевелится за весь день. Даже к полудню не соберется на торгу больше двух-трех сотен людей. С десяток лавочников снимут запоры со своих лавчонок, да какой-нибудь неудачливый купец раскинет с досады свой товар – авось найдется покупатель. Пробежит иззябший пирожник, грея руки на горячих пирогах, – уступчивый и не такой уже навязчивый; прошмыгнет карга-ворожея, закутанная в немыслимое тряпье, из-под которого воровато, еле слышно доносится быстрый шепот: «Гадаю-ворожу, от сглаза отвожу!» – прорысит по делу слуга боярский, прокатятся сани, мелькнет подолом ризы какой-нибудь шустрый попик, торопясь в приход на Ильинку или Варварку, или выедет из Кремля окольничий Темкин с черкесами, проедется вдоль рва туда-сюда и опять уберется в Кремль.
В полдень стукнет на Фроловской стрельнице пушка – полетят с куполов белые хлопья, посыплется белая пыль, будто кто тряхнет высокие, похожие на снежных баб соборные маковки. На стрельницах сменятся пушкари. Скинув бараньи тулупы, разбредутся по кабакам: кто к Фетинье, а кто в Занеглименье, к бронникам, в их питейную избу, которая прозвана на Москве «Гузном».
В ненастный день после полудня совсем пустеет Москва. Расходятся с торга последние людишки, разъезжаются по гостиным дворам купцы, мытник завязывает свою кожаную сумку, несет ее на Мытный двор – привешивать свинцовую печать.
Тихо. Пустынно. Угрюмо.
Через весь посад, через Китай-город – по Никольской, по Ильинке, по Варварке – метет сквозная поземь: хлещется о кремлевские стены и стрельницы, наметает сугробы под самые бойницы, а по Тверской, со степи, через растворенные городские ворота, рвется встречный ветрище. Сшибаются ветры, закручивают неистовую завирюху – кажется, вот-вот земля скрутится свитком.
На звонницах глухо погудывают раскачиваемые ветром колокола. Они то затихают, то с новым порывом ветра сильней напрягают свой гуд – тогда чудится, будто жалобно и надрывно стонет под снегом земля.
В белом мраке лишь-лишь проступают снежными глыбами Кремль, Покров…
До сумерек висит над городом густая, вспененная бель, а с сумерками почернеет, отяжелеет, опадет на землю, и до рассвета будет лежать на улицах и площадях холодная темень.
Но уж если выдастся погожий денек, без завирюхи и без снегопада, – тогда Москва разбередится чуть свет. Всполошится люд: кто куда, кто зачем… Идут пешком, едут верхом, в санях, на телегах… Все торопятся, всем к спеху!
На Кузнецком мосту, как всегда, давка и ругань. Пол-Москвы ходит и ездит через этот мост: все Занеглименье, весь Малый посад, Дмитровка, Петровка, а мост худ – бревна настила будто плавают на воде, и узок: лишь-лишь, в самый притык, разминуться возам. Замешкается какой-нибудь возница или лошадь споткнется, смыкнет на сторону – и заторится проезд. Крик такой учиняется, будто орда татарская подступила к городу. Виновный непременно схлопочет по боку иль по загривку, и ладно, если стерпит еще, не даст сдачи… Тогда разъедутся по-быстрому. А не стерпит, ответит, такая буча поднимается – страшно смотреть! Кто – кого, и кто – чем! Бежит тогда мостовой за стрельцами. Разводят, растаскивают стрельцы драчунов, но бывает, и стрельцам не унять разбушевавшихся ретивцев.
4Февраль тоже зачался пуржистым. Мело, студило… Москва оцепенела – выветренная, выстуженная, засыпанная снегом.
Ранней весны не ждали. Февраль с пургой – весна с нудьгой. Но вдруг к Масленице непогодь унялась, спал мороз, снег отяжелел, спластался, ветер уже не таскал его следом за собой. Серая кудель облаков осветлилась. Сквозь них тускло проглянуло солнце.
На Москве закуролесила Масленица.
В канун Масленицы, всю сыропустную седмицу[41], на подворье Хворостининых гурбились ряженые: и приходящие, с соседних дворов и улиц, и свои – челядные… Посреди двора нарядили масленицу – сажени в две высотой и в три обхвата.
Ожерелье на масленице из березовых чурок, рубаха полотняная, по подолу «мережки» из пряников. Вместо грудей – две сулеи с продыренными боками, из которых тонкими струйками бьет вино, и боярский виночерпий, спрятавшийся с бочонком под широкой рубахой масленицы, все время пополняет их. Только подставляй рот и пей!
Блины, в сметане, как в свежем снегу, и в масле, и в меду, прямо с огня, – горой на деревянных подносах… Слуги несут и несут их, будто где-то в подклетях у боярина расстелена скатерть-самобранка.
Сам боярин сидел на крыльце, укутанный в шубы и полсть, на голове высокая, рыжего меха шапка, похожая издали на горку медовых блинов. Боярин широк, тяжел и так же потешен и несуразен в своем облачении, как и масленица, пялящая на него из-под черной нарисованной брови свой глумливый глаз.
Всю неделю просидел так боярин: ни слова не сказал, ни пошевелился, только глаза его все время светились, как две маленькие плошки, завистливо и печально следя за шалым разгулом на своем подворье. Сыновья его тоже всю неделю молча и неподвижно простояли за его спиной.
Никому ничего не возбранялось в эту неделю на боярском подворье. Каждый мог вытворять все, что ему заблагорассудится, и чем жутче, бесстыдней и неутолимей буйствовали ряженые, тем ярче блестели глаза боярина.
– Испола-а-ти, болярин! – вопили самые хмельные и самые восторженные, вползая к нему на крыльцо по обледенелым ступеням.
– Живи сто лет! Тышшу, болярин!..
Самых настырных боярские служки стаскивали со ступенек, чтоб не досаждали боярину, отряжали крутить хоровод, есть блины, пить вино, вконец опившихся оттаскивали в хлев: ни потехи от них, ни задору – лежат кулем… Не для того боярин затеял гульбу, чтоб смотреть, как дрыхнет опившаяся чернь. Только разор, только шалая буйность и дурь – только этого хочет боярин. Лицо его бело – белее снега, покрывшего скат над крыльцом… И у мертвых не бывает такого лица. Третий год одолевает его хворь, и вот, видать, подступил конец. Глазами, одними глазами вбирает он в себя последние крохи жизни, последнюю радость присутствия в этом мире, и нет для него ничего дороже этого последнего, потому что, вернись к нему снова здоровье и молодость и проживи он опять такую же долгую жизнь, переполненную удовольствиями и радостями, ему все равно не достало бы этой последней радости и этих последних ощущений причастности к тому великому и непостижимому, которое навсегда исчезало из него.
Глаза его светятся тускло и страшно – живые глаза мертвеца. Все в нем умерло: и жалость, и сострадание, и злоба, и доброта, душа его опустела, как разрушенный временем дом, и только в глазах – глубоко-глубоко – еще теплился слабый огонь.
Неподвижен боярин… Сыновья за его спиной – как последняя опора, на которой еще держится его жизнь. Кажется, отступи хоть один из них, и смерть тотчас обрушится на него.
– Живи тышшу лет, болярин! – распинается чья-то глотка. – До скончания света, болярин!
…Всю неделю крутилась на боярском подворье неистовая гульба, и всю неделю молча, жадно и страшно смотрел на нее старый боярин – как волк, матерый, еще повелевающий стаей, но уже бессильный и обреченный.
Он прощался с жизнью, а жизнь бесилась, юродствовала, глумилась сама над собой, словно для того, чтобы он не жалел о ней и не завидовал тем, кто еще был переполнен ею.
В последний день, лишь только отзвонили обеденные колокола и на подворье срядились сжигать масленицу, кто-то выпустил из псарни собак – для потехи, с хмельной одури… Выпустил собак и затворил ворота. Изъярившиеся, просидевшие целую неделю взаперти, собаки с жутким остервенением кинулись на людей. Будь ворота не заперты, собаки вдоволь бы натешили свои клыкастые пасти и выместились бы на людях за свое долгое мучение, но людям некуда было бежать, и они кинулись на собак – еще с большим остервенением, еще злобней и беспощадней. Две ярости столкнулись – звериная и человеческая, и поднялось такое, что даже старый боярин зашевелился.
Старший из сыновей, Андрей, приклонился к нему, осторожно спросил:
– Кликнуть псарей?
Старый Хворостинин напрягся – ему тяжело было говорить, но злорадство, прихлынувшее к нему в душу, так и выперло из него.
– Пусть грызутся… – прошипел он.
– Собак жалко – перекалечат! – еще осторожней сказал Андрей.
– Пусть грызутся, – повторил Хворостинин.
Старый, умирающий волк, он жаждал последней своей добычи – мести за свою обреченность, и получил ее. Собаки и люди, которые сейчас одинаково были ненавистны ему – за то, что должны были пережить его, – сцепились между собой, и кому-то уже не суждено было пережить его. Ему было все равно кому – собаке или человеку, лишь бы только увидеть, узнать, утешить себя, что он не одинок в своей обреченности.
Андрей, как будто догадавшись о чувствах отца, смелей заговорил с ним:
– Поглянь, тять, любимый твой, Узнай, уж совсем ободрал мужика. Да дюжий, дьявол, не может кобель его завалить! Два раза на спину сигал…
– Завалит! – заговорил и средний сын, Дмитрий. – В загривок вцепится – быть мужику на земле.
Андрей и Дмитрий стали по обе стороны от отца. Сзади, за спиной, остался Петр. Молча, сдерживаемые только напряженным вниманием, смотрели, как изодранный, окровавленный мужик отбивался от огромного муругого пса, с яростным упорством норовившего хватить его за горло.
Мужик отступал к городьбе, чтобы защитить себя хоть со спины, но пес, словно угадав его намерение, бросался на него то спереди, то сзади, из-за чего мужику никак не удавалось приблизиться к городьбе. Мужик был ловок, силен – с рогатиной пошел бы, пожалуй, на медведя, – но сейчас ему даже полена не попадалось под руку. Голыми руками отбивался от пса.
– Тять, а то кликнуть псарей?! – встревожился Андрей. – Узнай-то на волка натаскан…
Старый Хворостинин только зашипел в ответ.
Мужик совсем изнемог от свирепых наскоков пса. Пес уже дважды сбивал его с ног, но мужику оба раза каким-то чудом удавалось уберечь свою глотку от ощеренных, дымящихся клыков.
У старого Хворостинина глаза от напряжения наполнились слезами. Он всхрапывал, как сонный, давясь воздухом, – рот его был широко открыт, на бороду скатывались густые слюни и застывали маленькими сосульками.
– А волка уже не возьмет, – сказал с сожалением Дмитрий. – Стар!
В это время мужик поскользнулся, упал на бок, заломив под себя руку. Пес стремительно метнулся на него – под бурой шерстью скрылись голова мужика, грудь, руки, торчали только ноги, неподвижные, словно отсеченные.
– Доконал, – спокойно сказал Дмитрий, но ноги мужика вдруг взметнулись вверх – он перевернулся через голову, подмял под себя пса. Рык его стал прерываться, глохнуть…
– Узнай… – Казалось, старый боярин хотел крикнуть, чтоб посильней взъярить пса, но сил на крик у него не хватило, и получился лишь полустон-полушепот.
Мужик поднялся на ноги, изнеможенно покачнулся и, едва сделав шаг, упал лицом в окровавленный снег рядом с задушенным псом.
5Лишь проводили масленицу, как снова взялся мороз. К третьему дню поста так настыло, что звон заутренних колоколов уже не расплывался над землей, а улетал стремительно в небо и осыпался оттуда частым щелком, словно по застывшему небу хлестали бичами.
Старый Хворостинин, услышав этот странный звон, сказал своему домашнему дьячку, читавшему ему в спальне по утрам псалтырь:
– По мне звонят… Ин как! Будто в колоду горохом.
– Студено, батюшка, – пропел дьячок.
– Собороваться нынче буду.
– Аки угодно, батюшка.
– Кого призовем?..
– Кого повелишь, батюшка. Архангельского протоиерея…
– Гундос. Левкия – от Чудова…
– Левкий, батюшка, с царем на брани.
– Жаль. Левкий освятит[42], помирать не терпится.
– От Успения – Перфилия…
– Возгря[43].
– От Благовещенья?..
– Благовещенцы Сильвестром провоняны. Елевферия от Новоспаса, что на Крутицах… Поезжай.
– Далеченько, батюшка… Лють морозная… Исстудим попа. Призовем от Николы Драчевского, не то от Вознесения…
– Поезжай. Возьми сани с верхом… Шубы… Покровы… Елевферию хочу душу вверить. К обедне воротись…
– Аки велишь, батюшка, – поклонился дьячок.
– Погоди… Сыновей призови…
Дьячок еще раз поклонился, вышел. Хворостинин изнеможенно откинул голову на подушки, прислушался.
– Звонят, – шепнул он самому себе, закрыл глаза и уложил на груди свои иссохшие руки.
Хрястко, как льдины в ледоход, сшибались и рассыпались тяжелой капелью последние, уже не частые удары колоколов, и вместе с ними, удар в удар, надрывно билось под скрещенными руками его сердце. Удары колоколов становились все реже и глуше, и сердце все реже и глуше стукало в его груди. Удар – и совсем нестерпимо дожидаться другого… Второй – и кажется, что до третьего уже не дожить.
Колокола стихают, стихают…
Хворостинин снял руки с груди, из последних сил уперся ими в подушки, приподнялся, громко сказал:
– Смерть, где ты? Покажься!
Тихо качнулось длинное пламя единственной свечи, стоявшей у его изголовья, вместе с ней качнулся зеленый полумрак…
Колокола смолкли, а сердце его забилось часто-часто, словно высвободилось из каких-то пут. Хворостинин упал на подушки, крепко зажмурил глаза.
– Тять, кликал?..
Хворостинин узнал голос Андрея, но глаз не разжмурил – долго еще лежал с напряженными веками, словно боялся, что это смерть голосом Андрея окликает его.
– Мы пришли, тять…
Хворостинин медленно открыл глаза – три тени стояли у его изголовья.
– Подымите свечу, – тихо сказал он. – Не вижу вас.
Андрей поднял свечу – три тени стремглав перескочили на стену.
– Сыны… – Хворостинин набрал в себя побольше воздуха. – Помру нынче.
Свеча дрогнула в руках Андрея…
– За попом уж послал… Вам – воля моя последняя. Дабы праздность и ленощи вас не сгубили… Дабы не почили на даровом, чести и места не ища… все по духовной[44] царю оставляю. Вам же… Тебе, Андрей, – саблю свою… в бирюзовых ножнах… полоса булатная, насечена золотом. Тебе, Димитрий, – седло бархатное, серебром чеканенное… со всею снастью… да цепи поводные серебряные. Тебе, Петр, – куяк с сустугами[45] и шелом к нему… Яблоко у него на навершии срезано… Ссек мне его Кудаяр-мурза, а я ему башку ссек. Не довелось мне сгинуть в поле… Ин помираю, как в бабьем подоле.
Хворостинин помолчал, старчески пощурился на сыновей.
– Сурова воля моя, сыны. Вижу, смутились ваши души.
– Воля твоя свята для нас, – сказал Андрей.
– Сурова, сыны, но справедлива. Не хочу приять вашей судьбе… дабы сами добыли, кому что по достоинству. Садитесь, сыны, на коней и езжайте к царю… Просите службы у него. Будет ему в угоду ваша служба, он вас пожалует большим, чем могу пожаловать я. Доверьте ему ваши судьбы, блюдите во всем ему верность… Царь – ваш отец отныне, и раделец ваш, и жалователь… Все, что придет от него, будет вашей заслугой и честью. Все, что отымется, будет вашим позором. И еще заповедать хочу вам… Как встарь заповедал чадам своим славный княж Мономах. Ежели крест целовать станете, поначалу в сердце своем допытайтесь – устоите ли на том?.. Тогда целуйте. И, целовавши, блюдите, дабы не погубить души своей клятвопреступлением.
– Все исполним, в чем воля твоя, – сказал твердо Андрей.
– Тебя хочу слышать, Димитрий.
– На воле твоей стоять буду, – отозвался Дмитрий.
– Ты, Петр, братьям старшим послушник… По их воле ходить будешь, покуда не отставят они тебя от воли своей. А посем – моя воля на младость твою… Что я рек, то тебе как заповедь Божья. Преступишь ее – из могилы дойдет мое проклятие.
– Твоя воля, отец, – одна дорога, – глухо, сдержанно промолвил Петр. – Ежели изойдет она?
– Вспять пойдешь…
– Вспять не ходят, отец. Я своей дорогой пойду.
– Слаб ты, Петр, нетореным путем идти… Нет на то моего благословения.
– Повинись, Петр, отцу, – с укором сказал Андрей. – Последняя воля…
– На всю мою жизнь!
– Повинись, братец, – подал голос и Дмитрий.
Петр убрал свое лицо от света свечи, еле слышно сказал:
– Повиняюсь…
Хворостинин устало смежил глаза.
– А теперь велите закладывать буланых… Поеду с Москвой прощаться.
Глава шестая
1Смененный Курбским на воеводстве в Дерпте, боярин Челяднин по пути из Ливонии в Москву завернул в Великие Луки, куда прибыл из Можайска с войском царь.
Великие Луки были опорным городом – отсюда начинались походы на Ливонию, отсюда же решил выступить Иван и на Литву.
В Великих Луках войско делало последнюю большую остановку. Сюда свозились припасы, здесь воеводы окончательно приставлялись к полкам, здесь заканчивались и последние приготовления: дальше, за извилистой Ловатью, уже не было русских городов. Лишь на самом рубеже, в сорока верстах от Лук, стоял еще один небольшой крепостной городок – Невель. Но после нападения на него нынешним летом литовского гетмана Радзивилла, которого не смог ни одолеть, ни отогнать от его стен князь Курбский, городок этот был сильно разрушен, малолюден и годился только для короткого привала.
Ко дню приезда Челяднина войско уже переправилось через Ловать, ушли из города и воеводы. В отлогой прибрежной низине виднелись их разноцветные, нахохлившиеся, как куры на насесте, высокие шатры. В городе оставались лишь пушкари со своим нарядом, ожидавшие, когда для них наведут мост поверх непрочного речного льда, который мог подломиться под тяжестью пушек, да вся конная посоха. Город был забит санями, телегами, лошадьми… Лошадей было так много, что даже церкви в городе пропахли конюшней.
Давно не видел Челяднин такого – со времен казанских походов. Большую силу собрал царь… Догадывался Челяднин, что не одному Сигизмунду решил он доказать свою силу и умение воевать, но и своим боярам тоже, и, быть может, боярам больше, чем Сигизмунду.
В Луках царь поселился в небольшой церквушке Иоанна Крестителя. Жил в тесной келейке пономаря и никого, кроме Федьки с Васькой да архимандрита Чудовского монастыря Левкия, приехавшего к войску благословить ратников, к себе не допускал. С воеводами встречался в Разрядной избе, куда иногда заезжал после обедни, но чаще не заезжал. Зато к войску ездил по два раза на дню и, случалось, отстаивал и вечерню у походного алтаря вместе с каким-нибудь полком.
Челяднин встретился с царем в Разрядной избе. Сразу по приезде в Луки, еще не прознав всей сути, лишь выпытав у стрельцов на заставе, что царь живет в Иоанновской церкви, он направился было прямо к нему, но, пока переезжал из одного конца города на другой, воеводы узнали о его приезде и выслали ему навстречу молодого княжича Оболенского.
Оболенский встретил боярина, предупредил о царском затворничестве и не очень сдержанно, по молодости не умея скрыть своих чувств, посоветовал дожидаться царя в Разрядной избе.

