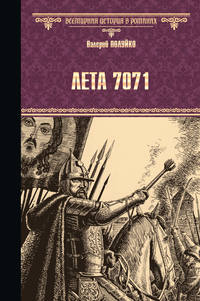
Лета 7071
Челяднин поначалу хотел было пренебречь советом молодого князя, но, видя его волнение и понимая, что он просит не только от себя, но также и от остальных воевод, повернул вместе с ним в Разрядную избу.
«В черном теле держит, – думал он об Иване, едучи в Разрядную избу. – Ужли так крут, что приблизиться страшатся? А келья? Пошто бы ему в ней хорониться? Грозу напустить и из хором можно».
Хотелось Челяднину разобраться кое в чем, осмыслить, понять поступки царя… Воеводы непременно жаловаться станут, совета спросят. Между собой уж, поди, все переговорили, обо всем обсоветовались, теперь на свежую голову накинутся. Накинутся, чувствовал Челяднин, по Оболенскому видел. Верно, много страху и растерянности нагнал на них этот тайно подготовленный царем поход. Думали небось в запале и на радостях, расстроив ему дело весной, что не скоро ему собраться с духом – не на соколиную же охоту выезд… Теперь, видать, ахнули, да уж поздно! Перехитрил их царь.
«Не занимать ему у вас ума, не занимать!» – думал Челяднин с невольным злорадством, сам не зная и не понимая, откуда в нем это злорадство. Много обиды на царя таилось в его душе, но всегда, как бы жестоко и несправедливо ни обходился с ним Иван, всегда он чувствовал, как сквозь все его злобствования и обиды пробивается невольная, смущающая его гордость за царя. Не хотел он ее, стыдился и никогда никому не признался бы в этом своем чувстве к царю, но задавить его в себе не мог. Оно жило в нем, мучило, как какой-то тайный грех или наваждение, подтачивало в нем его собственную гордость и волю. И сейчас опять выползло из какого-то укромного уголка…
Чем больше думал Челяднин об Иване, тем сильней раздражался против бояр. Хотя и мало он знал, живя в отдалении, про всякие их хитрости и претыкания, но и то, что знал, что доходило до него, убеждало его в их неумности, наивности, а главное, в бесполезности всего того, что затеяли они в надежде осмирить царя. «С мальчонкой не совладали, чего уж теперь пыжиться? Теперь его не обручить! Теперь и у него сила есть… И хитрости – куда вам всем! Поди, уж пошло по Руси, что царь, как старец, в келейке живет… И христолюбив, и праведен! Народ такого царя любит! А вы, бояре?! Вы толстосумы, праздни и обжоры! Лишь укажи он на вас сему народу – что от вас останется?»
Вспомнился ему Курбский. Прибыв в Дерпт, князь Андрей рассказывал ему:
– Вся Русь на царя молится! Весь черный люд на него как на радельца своего глядит. На заступника! От нас, бояр! Говорил он с ними однажды в Москве, на торгу, с Лобного места… Двенадцать уж лет прошло, а помнят! Мальцам вместо сказок рассказывают, как выходил к ним царь-батюшка на говурю! По всем весям шепчутся… Часа ждут, когда он силы наберет и их от бояр оборонит!
Дивно было Курбскому. Впервые он ехал по Руси через ямы[46] и впервые услышал это… Он же, Челяднин, за десять лет беспрестанных переездов понаслышался такого, что завязывай глаза и беги на край света! Рассказал бы он боярам, что каждый мужик на Руси на них нож наточил, – так не поверят, смеяться учнут. Неколебима в них вера в смиренность русского мужика. Видят они его преклоненного, с покорной головой и не ведают, что он злобу свою от них прячет, а не почтение блюдет.
«Э-хе-хе, боярушки, – уныло думает Челяднин. – Вам бы бороды остричь – полегче б головами стало вертеть… Повертелись бы вы, поозирались, буде, и узрели бы, какое на вас надвигается?! Держали вы Русь под собой, как лед реку, а половодье-то всякий лед крушит! Мужик, буде, и не напустит на вас ножа, ежели царь не натравит, а уж поместные[47] праздник свой справят за вашим столом. Ибо где им взять свою долю, как не у вас вырвать? И он отдаст им вашу долю! И они станут ему служить за нее так, как никогда не служили вам ваши холопы!»
Выболелся он уже весь от этих мыслей: не в первый раз приходят они к нему. И ничего на душе, кроме уныния. Посмеется лишь над собой, что и сам ведь – боярин, такой же, как все, и, не выдвори его царь из Москвы, не потаскайся он по Руси, не посмотри, не послушай, ничего бы он этого не знал, и не было бы в нем этих мыслей… Может, и лучше было бы?!
…Улочка, по которой с трудом протискивались сани Челяднина, наконец выбилась к площади. Площадь была грязная, изнавоженная, истыканная коновязями, возле коновязей кучи соломы, черные вытаины от костров… Поодаль, на взгорке, – купольная часовенка, возле нее черными рядами, как гробы, – пушки. Пушек много: впереди, в двух рядах, – большие стенобитные да шесть рядов малых. Среди больших стенобитных знаменитые еще по Казанскому походу – «Медведь», «Единорог» и «Орел». При осаде Казани эти три пушки за один день боя снесли до основания сто саженей городской стены. Тут же и огромная «Кашпирова пушка», способная стрелять ядрами в двадцать пудов весом. Отлил ее лет десять назад на московском Пушечном дворе взятый на службу Иваном немецкий мастер Кашпир Ганусов. Рядом с «Кашпировой пушкой» другая, немного поменьше – «Павлин». Ее отлил вслед за Кашпиром Ганусовым русский мастер Степан Петров. У «Павлина» ядра – в пятнадцать пудов.
После отливки оба эти орудия были установлены на торговой площади, на двух главных городских раскатах: «Павлин» – на Покровском, близ собора, «Кашпирова пушка» – на Никольском. С тех пор их ни разу не снимали с раскатов, но теперь пришел и их черед.
Челяднин не смог пересчитать пушки – на глаз только прикинул, подумал: «Велик наряд! До сотни, поди… Не иначе как на Полоцк нацелился. Умен, умен… Возьмет Полоцк – до самой Вильны путь открыт. Всполошатся паны-рада! Мира запросят! Даст он им мир, а своим на хвост наступит… Да так, что и не шевельнутся».
Да площади вертелось с десяток всадников. Лошади под ними были горячи, всадники с трудом сдерживали их.
– Татаровя, – склонившись с седла, сказал Челяднину Оболенский. – Тот, в лисьем башлыке, – царь Касаевич, казанин… А на соловых – царевичи… Бек Булат, Кайбула и Ибак. Царя стерегут. Тенью при нем…
– Пошто ж так? – удивился Челяднин.
– Поди пойми – пошто? – еще ниже склонившись, тихо сказал Оболенский. – От нас щитится!
– От страху?..
– От презренья! А более всего… – Оболенский совсем сполз с седла, приткнулся чуть ли не к самому лицу Челяднина: – Я ин гадаю – злохитрствует. Чтоб повинить нас, будто и жил с нами с опаской. Да и воинникам, и черному люду посошному показать: вот, деи, каки у меня бояре – страшусь перед ними за живот свой.
– Пустое, князь, – усмехнулся Челяднин. – Честью одаривает татар царь. Они честь любят не меньше нашего.
– Велика ли честь?.. Сворней по каждому следу! В Разрядную же избу один Касаевич вхож. А царевичам – не велено.
– По их же обычаям и не велено. У них при царе даже мурзы и бей в пороге сидят.
– Ужли и нам при нашем царе в пороге сидеть? Не то ли тщишься сказать, боярин?
– Тебе бы, княжич, вовсе не думать о таковом, – сказал спокойно Челяднин и дружелюбно посмотрел на Оболенского. – Службы ищи, дела высокого!
– Я службы не гнушаюсь, боярин. На мне бехтерцы[48], а не праздный кафтан! Но ни деды мои, ни отцы у московских государей под порогом не сиживали, и мне не пристало иметь сие за честь.
– Ни у дедов твоих, ни у отцов добрых холопов в услужении не было, – сказал ему Челяднин с грубоватой строгостью, – а у него цари и царевичи, сам речешь, тенью при нем!
– Эк цари! – не то удивился, не то растерялся от такой неожиданной и обидной прямоты Челяднина Оболенский. – Татаровя!
– Татаровя?! – насмешливо повторил Челяднин. – Твои деды, да и его, к сей татарове на поклон три века ездили сапоги у них лобызали… А они у него на своре, как борзые!
– Дивно от тебя такое слышать, боярин, – сказал с укоризной Оболенский. – В нашем роду вельми чтят твой род, а тебя почитают особым почтением – да все лиха твои… Не от Бога они!
– Горе мне, коли токмо за лиха почитают меня, – обронил Челяднин.
– Не от Бога они! – настойчиво повторил Оболенский.
– Все от Бога, – сказал спокойно Челяднин.
Его спокойствие, видать, сильней всего и обидело Оболенского. Он насупился и до самой Разрядной избы больше не заговаривал.
2Разрядная изба стояла в дальнем конце площади, у начала широкой и длинной улицы, за избами которой виднелся высокий остроконечный восьмерик деревянной церкви, где отстаивали обедни, заутрени и вечерни воеводы. В прошлый поход бывал в этой церкви на службах вместе с воеводами и царь, теперь для него служили в Иоанновской церкви. Служил Левкий, к которому с недавних пор почему-то стал благоволеть Иван. Чем-то подкупил его ожесточившуюся душу этот хитрющий и ловкий в любых делах чернец: то ли своей прошлой враждой к Сильвестру, то ли своей преданностью иосифлянам, потому что Иван больше всего любил в людях преданность, а может, плутовством и разгульностью, которыми тоже славился чудовский архимандрит. Даже духовника своего – протопопа Андрея – не взял Иван с собой в поход, а Левкия, приехавшего в Великие Луки нежданно-негаданно, допустил к себе, и так близко, как когда-то допускал только Сильвестра.
У Разрядной избы двое рынд кинулись встречать Челяднина. Раскутали его из шуб, помогли выбраться из саней.
На крыльце, закинув за упертые в бока руки длинные полы шубы, стоял князь Серебряный. Лицо его сияло, как и алый, с золотыми шнурками, кафтан, выставленный из-под шубы… Он медленно сошел по ступеням вниз, распахнул руки, громко сказал:
– Здравствуй-ста, мил боярин! Снова Бог шлет тебя в мои объятья!
– Жалуй, жалуй, Петр-князь, – сдержанно проговорил Челяднин, но глаза его заискрились. – От добрых встреч я поотвык, а от худых старался быть подале.
– Облобызаемся, мил боярин!
Серебряный обнял Челяднина, троекратно поцеловал и, отступив на шаг, вдруг истово перекрестил его.
– Пошто ин крестишь меня, как нечистого? – подивился Челяднин.
– Чтоб напасти все сошли и отступились от тебя лиха!
– Эвон! Я, грешным делом, подумал – от меня открещиваешься. Племянник твой полдороги роптал на меня, – глянув на Оболенского, шутливо пожаловался Челяднин и рассмеялся.
Серебряный резанул племянника быстрым взглядом, сказал с пренебрежением:
– Под носом взошло, а в голове и не засеяно!
Оболенский побледнел, остановившиеся глаза заволоклись слезами. Челяднину стало жалко молодого княжича, которого родовые обычаи заставляли стерпеть даже такую обиду.
– Терпи, княжич, – сказал он ему ободряюще. – Настанет и твое время! Будут еще дядья пред тобой заискивать… Вот и помянешь тогда им… красный кафтан и черную обиду.
Оболенский вымученно улыбнулся – одними губами, а глаза напряг еще сильней, боясь сморгнуть с них навернувшиеся слезы.
– А неужто никак не к лицу мне кафтан? – сощурился Серебряный.
– В кольчуге иль в куяке, поди, поприглядней было бы! – ответил Челяднин.
– Кольчуга – на брань, кафтан – на пир! Нынче вечером в твою честь, боярин, князь Володимер пир устраивает. Попристанет и тебе кафтан с аламою[49] надеть.
– Великой честью дарит меня князь, – нахмурился Челяднин. – Да токмо не пировать заехал я сюда. Царю поклониться – и на Москву. Путь долог.
– Сие пред его ушами ты изречешь, боярин, коли станет тебе охота, а мне да князю Пронскому, который в избе дожидается, велено звать тебя на пир добром и милостью.
– Экая суета, Петр-князь, – вздохнул Челяднин. – Тебя, что ль, уважить? Кафтан твой пожалеть?
Серебряный с недоумевающей растерянностью посмотрел на Челяднина, к чему-то огладил ладонью бороду и враз посуровел, будто собрал в горсть всю веселость со своего лица.
– Ну, веди в избу, – заметив недоумение на лице Серебряного и желая прервать этот разговор, озабоченно и поспешно сказал Челяднин.
– Пожалуй, боярин! – повел рукой Серебряный и невольно встретился взглядом с Оболенским. Тот злорадно усмехнулся. Теперь приспело ему торжествовать. Но Серебряный не заметил злорадства своего племянника – не до этого ему стало. Мысли его завертелись, завертелись… Вспомнилась последняя встреча с Челядниным – в Смоленске, лет пять назад… Не таким был тогда боярин! И речи не такие говорил! «Неужто укатали царские горки?» – думал с тоской Серебряный, поднимаясь вслед за Челядниным на крыльцо.
Сзади торжествующе топал Оболенский. Серебряный приостановился, обернулся к нему, глухо сказал:
– Останься, княжич… Царь подъезжать станет – известишь.
В темных сенях Челяднин споткнулся о порожец, чуть не упал, досадливо сказал Серебряному:
– Как тут царь ходит?!
– Ему мы светим, – ответил Серебряный и, отстранив Челяднина, стал искать на двери скобу.
Тяжелая, разбухшая дверь, обитая рогожей, натужно чвакнула, отворяясь. Густая, пахнущая потом, воском, дубленой кожей и березовыми дровами теплота дохнула на Челяднина из широкого дверного проема.
Челяднин переступил высокий порог, поклонился:
– Мир вам и лад, бояре и воеводы! Коли ждали меня – благодарствую!.. Коли нет – милуйте за незванность!
Наперед выступил Пронский.
– Поклон тебе от всех нас, боярин! – сказал он важно и так же важно поклонился. – Князь Володимер також кланяется тебе и зовет нынче к столу своему – на первое место.
– От чести и цари не отказываются, – сказал спокойно Челяднин, в полупоклоне приложа к груди руку. – Петр-князь оповестил меня про сие и кафтан повелел переодеть. Негоже, поди, в стеганине на первом месте сидеть?!
– Честь не по одежке идет! – с надменным ехидством выговорил Пронский и выпятил от самодовольства губы.
Челяднин сообразил, в кого он метил… Все воеводы были принаряжены, и сам Пронский был в дорогом кафтане, но нарочитой, бросающейся в глаза пышностью никто не выделялся. Лишь на Алексее Басманове поверх светлого суконного кафтана, который очень молодил его и красил, был надет богатый бархатный охабень с высоким стоячим воротом, сшитым голубым шелком и тонкой серебряной вителью[50]. Этот-то охабень Басманова, видать, сильней всего и раздразнивал Пронского, да и не одного его… Челяднин увидел, как довольно осклабились от слов Пронского и Щенятев, и Шуйский…
«Э, воевода, да ты тут воробчиком на сорочьей свадьбе!» – подумал про Басманова Челяднин и сам поначалу не заметил, что подумал без неприязни, а, скорее, с сочувствием.
Басманов, казалось, не замечал ни насмешек, ни косых взглядов – сидел невозмутимый и даже менее обычного насупленный; глаза его вцепились в Челяднина, но в них не было ни настороженности, ни пристальности – только любопытство.
Челяднин оглядел избу. Слева, меж двух пристенков, стояла большая печь, украшенная изразцами с изображением всадников и пушкарей, палящих из пушек, под печью куча дров, лохань с талым снегом, подставленная под поддувало. Оттуда то и дело выкатывались раскаленные угли и падали в лохань, выжигая в густой снежной жиже черные лунки. У печи рынды ладили масляный фонарь, готовясь встречать в темных сенях царя.
За печью все место – саженей пять вдоль да столько же поперек – занимала горница с двумя окошками по одной стене и тремя – по другой. Окошки были маленькие, затянутые провощенным бычьим пузырем, света пропускали мало – по стенам, в светцах[51], горели лучины.
В горнице было тепло, но все тупились к печке, только Басманов сидел отдельно, да Горенский за самым столом рассматривал трехаршинный Большой чертеж[52], составленный в Разрядном приказе по повелению царя еще к первому походу в Ливонию.
Челяднин мало знал Горенского: в его время тот не был даже окольничим и ни к каким думным делам не был причастен. Да и помимо Горенского в избе сидело несколько воевод, которых Челяднин вовсе не знал либо знал только понаслышке. Все они выдвинулись и посели на боярских и воеводских местах уже после того, как он был отставлен царем от управления думой и выпровожен из Москвы. Всем им немного было дела до него – ни радость, ни огорчения его приезд им не принес, – лишь любопытство светилось в их глазах. Хотелось поглядеть на знаменитого опальника, про которого всяк, знавший его, неизменно говорил что-нибудь необыкновенное, и всегда шепотком, с оглядкой, с утайкой и таким видом, будто больше оберегал его, чем себя.
Пронский, заметив, что Челяднин перестал слушать его, с обидой отступил от него и нарочно громко, чтоб показать ему свою обиду, сказал:
– Тут все други твои и приятели, боярин! А кто честью не дарен знать тебя, тех я тебе назову. Воевода Морозов!..
– Не трудись про меня говорить, князь Пронский, – смущенно вымолвил Морозов и поднялся с лавки. – Ведом я боярину… Год целый под ним в Смоленске был… Вторым воеводой. Здравия тебе, Иван Петрович! – поклонился Морозов. – С доброй дорогой и с честью тебя!
– Здравствуй, воевода, – ответил Челяднин. – Спасибо за доброе слово… Токмо дорога не добра, а честь не велика!
Серебряный, все это время стоявший позади Челяднина, негодующе хмыкнул. Откинув за спину полы шубы, он прошелся по горнице, приковав к себе взгляды, и стал у окна, принявшись внимательно смотреть в него, будто и вправду мог что-то увидеть сквозь его мутную, слегка прозрачную паволочень.
– Смоленские полки привел на подмогу, воевода? – спросил у Морозова Челяднин. – А на кого же Смоленск оставил?
– В Смоленске Шеремет-меньшой…
– А большого почто нет с вами?
– Стар воевода, – неохотно ответил Пронский. – Хворобы одолели. А про Воротынского, поди, ведаешь? – тяжело добавил он.
– И про Бельского, и про Воротынского… Князь Курбский мне в Дерпте поведал.
На минуту установилось тяжелое молчание.
– Воеводу Бутурлина уж не ведаешь точно. Вот он – воевода Бутурлин! – указал Пронский на жидкобородого толстяка. – Стратиг сведомый и хитрый, как хорь! На Успенье[53] боярином стал.
Бутурлин поднялся с лавки, поклонился Челяднину.
– Токмаков, князь звенигородский! – указал на другого воеводу Пронский.
– Слыхал о тебе много славного, князь, – сказал Челяднин Токмакову. – Не по старческой докучливости, по удивлению хочу спросить: ужли сам, своими руками, старого магистра ливонского Фюрстенберга полонил?
– Кабы князь Курбский Феллина приступом не взял, како бы мне до магистра достать?
– Однако ж и ланд-маршал Филипп Белль был тобою взят! Рекут отменно храбр был маршал?
– Филипп Белль был первейший в Ливонии рыцарь, – спокойно сказал Токмаков. – И храбрости сатанинской! С пятью сотнями латников кинулся он на меня да на князя Барбашина, а у нас с князем двенадцать тысяч ратников. Хоть и врасплох напал на нас, да одолели мы его легко.
– Во всякой земле не без героя, – проговорил раздумчиво Челяднин. – Помнишь, Петр-князь, – обратился он к Серебряному, – казанского царевича Япанчу? Как дерзко он бился с нами! Из Казани ушел, чтоб покоя нам не давать! Сидит в засеке в лесу и ждет: явится на самой высокой градской веже знамя, и вот он уже скачет на наши полки, а из города – також… Отворят ворота, вывалят тысячей – и пошла резня. Япанча с одной стороны, казанцы с другой. Не погроми ты тогда, Петр-князь, Япанчу, гляди, и не добыли б мы Казани.
– Ужли удача Серебряного, а не воля и мудрость царя скорили нам царство татар? – неожиданно спросил молчавший досель Басманов.
Серебряный не очень внимательно слушал Челяднина, и только после вопроса Басманова до него дошло все сказанное Челядниным, особенно последнее. Ничего более страшного и опасного и сказать было нельзя! Челяднин, видимо, и сам сообразил, что сказал лишнее, но вопрос Басманова не застал его врасплох.
– Ежели ты, воевода, в чем-то усомняешься, спроси про сие самого царя, – невозмутимо ответил Челяднин и опять почувствовал, что вместо злости на Басманова в него невольно закрадывается сочувствие и жалость к нему. «Лихо тебе небось, воевода, – подумал он о нем. – От бояр оттакнулся и к царю пути не сыскал. А веди умен же ты… И в ратном деле искусен. Искал бы себе славу на поле брани, а не в царских покоях».
Пронский закусил губу и тупо смотрел куда-то в сторону: от презрения к Басманову он не мог даже обозлиться на него или позлорадствовать, как другие. После стычки с ним в Можайске, где Басманов принудил его перековать триста дюжин ядер, Пронский отказывал ему даже в ненависти. Он не замечал его и вел себя так, будто того вовсе не было – никогда: ни сейчас, ни в прошлом, ни живого, ни мертвого.
– Продолжи, князь, – мягко сказал Челяднин Пронскому. – Зрю, не всех ты назвал мне. И прости, что перебил тебя, неуместным отвлекшись. Воевода Токмаков винен в том: уж больно много славных дел сотворил он, чтоб не подивиться ему!
– Окольничий Хлызнев, из рода Колычевых! – кивнул Пронский на молодого, статного, красивого воеводу, во все глаза глядевшего на Челяднина. – В нынешнем разряде идет тысяцким государева полка.
Хлызнев встал – напрягшийся, бледный от волнения, – истово, как праведнику, поклонился Челяднину.
Челяднин давно заметил его волнение и его благоговейный взгляд, которым он смотрел на него. Знал Челяднин, как строптив был и непокорен великокняжеской власти род Колычевых. Немногие убереглись в нем от опал и казней. «И сей, поди ж ты, тоже напитан противой, как криничный песок водой, – подумал он про Хлызнева. – Поклон мне отдал, как великомученику. И ликует, поди, что душу свою причастил злом на царя. Ну, ликуйте, ликуйте, боярчата, щерьте зубы!.. Достоин он и вашей злобы, и вашей ненависти, да вы не достойны его. Крещены вы в разных купелях, и подле вашей стоял лише Бог, а подле его – и дьявол. Все в нем свято и все грешно. Захватил он Русь за хребет, клыками захватил, – иль сломит, иль кровью захлебнется! Мне бы лишь не дожить до часа того! Не зреть вавилонской жути, не зреть и его отчаянья, коли и Бог, и дьявол отступятся от него».
Хлызнев, поклонившись Челяднину, торопливо опустился на лавку и больше не поднимал на него век, зато тяжелые глаза Пронского, будто пригвожденные к лицу блестящими остриями зрачков, нет-нет и окатывали Челяднина холодом, или вдруг вскидывались от удивления, или жухли от горечи и разочарования. Понимал ли Челяднин, что творилось в душе Пронского, чувствовал ли в себе неожиданные перемены, когда видел его удивление, и сознавал ли свое отступничество от прежнего, встречая разочарованный и осуждающий взгляд Пронского? Нет, не до этого было сейчас Челяднину. Все время, с той самой поры, когда за ним затворились ворота Дерпта и ямщик хлестанул лошадей, он жил лишь одним – ожиданием Москвы. Все другое – заботы, дела, обиды, горести, все былое и все настоящее – заслонило от него, как стеной, это ожидание. Мысли его смешались, как будто кто-то запустил в его голову руку и орудовал там, как в горшке с квашней. Но ведь и мысли его были совсем не такими, как прежде. И настроение тоже было иным: не только радость вез он в Москву в своей истосковавшейся душе, но и свою надломленность, усталость, разочарование… И Пронский, и Серебряный сразу разглядели в нем это и не замедлили показать ему свое неудовольствие. Да он и сам понимал, что огорчает своих старых приятелей. Не таким они привыкли видеть и знать его и не такого ожидали от него. Надеялись небось, что он, лишь выйдя из саней, станет принародно обличать и проклинать царя за свои и чужие лиха, станет противиться и дерзить ему еще пуще, чем прежде, а они за его спиной будут довольно оглаживать бороды и тайно ставить свечки святым угодникам, чтобы уберегли они их от царских опал. Пусть даже и не ждали они от него ничего такого, все равно его приезд был для них торжеством: не только оттого, что царь сдался и без просьб о милости снял с него опалу, но больше оттого, что в их стане опять появился человек, которому они единодушно отдавали первенство во всем и вокруг которого так же единодушно сплотились бы на борьбу против самовластного и строптивого царя. И разочарование в нем было для них не только разочарованием в своих надеждах – его отступничество или смирение было для них тягостным и жутким предзнаменованием безуспешности этой борьбы.
Может быть, Пронский с Серебряным так, с маху, и не сочли Челяднина отступником, но что он им не понравился – они от него не скрывали. Правда, Пронский был не так откровенен, как Серебряный, – сдерживал себя боярин, не торопился судить Челяднина: скорый суд – неправый суд, а Серебряный был горяч, возмутилась его душа, и вот он уже перед всеми выставил свое возмущение, и как ни старался Челяднин не обращать внимания на Серебряного, на это его показное стояние у окна, все-таки не смог этого сделать. Всей своей жизнью, каждым годом и часом, проведенным в изгнании, он мог бы оправдаться перед своей совестью, но он захотел оправдаться и перед Серебряным, даже не оправдаться – защититься, потому что чувствовать к себе презрение всегда мучительно – заслужено оно или нет.
– Петр-князь! – окликнул он Серебряного. – Уж не тщишься ли ты высмотреть в окне дьявола, которому я запродал свою душу?
Серебряный не успел ответить. В избу вбежал Оболенский и даже не прошептал, а лишь прошевелил губами:
– Царь!
Рынды бросились с фонарем в сени – и не успели. Иван вынырнул из темноты сеней, как из мутной воды. За ним царь Касаевич, Федька Басманов, Васька Грязной…

