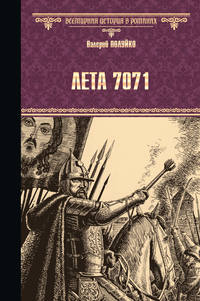
Лета 7071
– Не я их кую, гвозди те! – опять удивился Пронский. – Да и под каждое копыто не заглянешь!
– Гвозди кованы из крушного железа[16], – сурово бросил Басманов. – Старицких воевод допытать хотел – они мне не повинились! Твое на то слово было: не виниться большим воеводам без княжеского указу.
– Так исстари у нас ведется, – засмеялся Пронский. – Мы – удельные!
– В порохе ямчуги[17] недостает – тоже исстари ведется?
– Пороху надобно много, а с Белоозера ямчугу неспешно везут… Оружничий и сообразил на меру по горсти убавить.
– Пошто же тверские и новогородские добрый порох доставили?
– Так на Старицу более всего по росписи идет: и ядер, и пороху…
– А кружало сие ты, однако, намеренно послал, – вдруг осек Пронского Басманов.
– Буде, ты меня еще на правеж поставишь? – снова вскипел Пронский.
– Вот и докажи!.. По совести сделай, чтоб себя обелить. – Басманов помедлил, словно бы испытывая Пронского: возмутится тот на обвинение или смолчит, примет его… Пронский смолчал. Ободренный этим, Басманов твердо договорил: – Своей казной перекуй все ядра.
– Своей казной?! – ужаснулся Пронский. – Ты в своем ли уме? Где я возьму таковую казну? Не сам же я рублю рубли?
– Коли вас не пресекать, так и царю их не из чего станет рубить!
– Ядра непременно надобно перековать! – сказал Серебряный. – Триста дюжин – великий счет!
– Нет у меня таковой казны, – упорствовал Пронский.
– Не хочешь по совести и по добру – будет по злу. Я не властен над тобой, воевода, ты можешь ехать прочь… Токмо ведай: быть тебе в ответе. За всех!
Пронский решительно встал с лавки, в глазах у него заметались свирепые огоньки. Басманов тоже поднялся…
Серебряный почувствовал, что сейчас может произойти самое страшное: они вконец рассорятся, и Басманов, несмотря на все свои сомнения и колебания, все же пойдет к царю с доносом. Покрывать Пронского он просто не мог: царь все равно доведался бы про негодные ядра, и уж тогда за покрывательство Басманова самого ждала Бог весть какая участь.
– Перекуй, воевода, ядра, – стал наступать на Пронского уже и он. – Перекуй! Своей головы не щадишь – чужие пожалей!
Пронский помолчал, пораздумывал, а может, просто подразнил своим молчанием и Серебряного, и Басманова, которые были ему сейчас одинаково ненавистны, и бросил презрительно:
– Перекую!
9У Махони Козыря, заплечных дел мастера, днем работы не было. Работа его начиналась вечером, когда изо всех полков шли к нему под розги и плети провинившиеся за день воинники и посошники.
За неимением потребного места Махоня справлял свое дело в бане. Тут же он коротал и дневное время, сидя в предбаннике и ожидая, когда кто-нибудь позовет похлестать веником спину. Платы за это он не брал, но просьбу исполнял старательно. Так же старательно он исполнял и свою основную работу.
По всей Руси знали Махоню: он сек и новгородских, и тверских, и рязанских, сек в Казанском походе, сек в Астраханском, сек в Ливонском, теперь сечет в Литовском.
Махоня был добр, покладист, но на руку тяжел. Больше двух дюжин пястей от него никто не выдерживал. Сек Махоня простонародье: носошников, ратников, десятских, случалось, и сотских, но до дворянской или боярской породы его не допускали. Тех больше брали мытарством… Мытарить же Махоня не умел. Махоня сек, да так, что даже дубленые мужичьи спины лопались под его плетью, а попадись ему на лавку боярский сын или дворянчик – не ужить бы ему и до дюжины…
Саженистый в плечах, увалистый, как боров, Махоня был невысок ростом, но с длинными, почти до колен, руками, безбородый, с маленьким лицом и маленькими глазками… Татарская примесь выдавалась в нем явно… Подсмеивались над ним насмешники:
– Ты, Махонь, ни в козла, ни в барана, ни в черного врана!
– Дык… сам я себя вытворял, что ль?! – беззлобно говорил Махоня и всегда одинаково. – Бог меня вытворял!
По целым дням сидит он в предбаннике, размачивая в кадке розги и гутаря с банящимися. Всех он привечает, ко всем с лаской, будто все ему приятели или родичи, и квасу подаст, и кафтан подсобит надеть, а только никого он в лицо даже не знает. Зато все знают его. А которые не знают, впервой видят – все равно с ним как приятели.
– Махонь! – позовет кто-нибудь из парной.
– Эге! – отзовется Махоня и насторожит ухо.
– Похлещи-кось, Махонь!..
– Похлещу, – спокойно отмолвит Махоня, не спеша встанет с лавки, выберет по руке веник, пойдет распаривать в котле. Отхлестав, вернется в предбанник – взмокший, рдяной от пара, с тяжелой одышкой, выпьет жбан квасу, снова усядется на лавку и непременно начнет поучать: – Поперек хребта не ходь веником: жги не будя! Погуляй перво промеж лопат да по хребту – жга и проймет, ажио до самых ребер!
– От твоих плеток жга небось до самых кишок пронимает?
– Се кому как! Кой по-зряшному страждет, тому лихо! Кой по заслуге – тому как с женкой на палатях!
Так и сечет Махоня спины: днем – веником, вечером – плетьми и розгами.
Вечером, лишь отслужат молебен в полках, бегут к нему наперегонки провинившиеся. Каждый старается прибежать первым: первого Махоня не сечет. Таков у него обычай. Не сечет он и последнего… Но последним быть непросто – тут уж как Бог даст.
Идут к нему и пехотные людишки, идут посошные, случается, и конный заработает розог, но совсем редко: конным в войске вольготье, не то что пехоте. Пехотные всегда терпят самые большие лишения, и дерут их почем зря из-за каждого пустяка: то по нужде сходят не там, где надо, то кусок хлеба припрячут на черный день, а десятский вытрусит, то тот же десятский застанет за игрой в кости – и за все розги! Храпишь ночью – розги, прозевал огонь под котлом – розги, отлучился не вовремя – розги. Не послушался с первого слова десятского или сотского – плети. За драку и брань меж собой – плети, а если мародерствуешь – и под палки поставят. Украл петуха или курицу – пять палок; украл поросенка или овцу – дюжину; а за барана и все две, да еще в уплату алтына три, которые положит казна, а за них, ежели не ляжешь животом на поле брани, отрабатывать надобно после похода.
Посошных секут реже – они вне войска: строгостей у них поменьше, и надзор за ними послабей. У посошного одно дело – подай или подвези. Не поспел вовремя – старшина съездит в зубы, и дело с концом. Каждый старшина бережет спины своих людишек: на посеченный горб много не взвалишь. А ежели еще Махоня погуляет – неделю к спине тряпье прикладывать нужно. Оттого и остерегаются посошные старшины слать под розги своих посошников, за великую провинность только отсылают к Махоне. Чаще попадают к нему ездовые: то коня перепоят, то овес утащат и на брагу сменяют или на колеса вовремя дегтю не положат… Заскрипит колесо – а остановиться боже упаси! – и старшина тут как тут и крутым матом да батагом через спину… А ежели не в духах, без мата и без батагов, смиренно, как праведник, скажет:
– Вечером-ка явись!..
Вечером, еще более не в духах, позабыв, кто в чем виноват, начинает допытывать явившихся:
– Чем винил?
– Колесо затер: дегтю не положил…
– Врешь, братец… А ежели и не врешь – все едино, чтоб поприглядистей был. Давай-ка лоб!
Поставит старшина мелком на лбу метку-чертку, всыпет Махоня за эту чертку дюжину розог. Две чертки – две дюжины. За три – три! Ежели поставят на лоб крест – получать плети. За один крест – полдюжины, за два – полную. Иного счета нет: исстари так уложено, и исстари неизменно все так и ведется. Десятские, и сотские, и тысяцкие, и головы стрелецкие, и даже воеводы – все метят провинившихся чертками и крестами.
Так и идут виновные к Махоне с мечеными лбами. А ему большого ума не надо: поглядит на лоб и отстегает ровно по метке. Шельмовать не шельмуют. Всякий метчик, старшина то, иль десятский, иль сам воевода, поставит метку и непременно скажет:
– Гляди, Бог шельму метит!
И каждый вспоминает сто раз слышанную, рассказанную и пересказанную притчу о шельмеце, которого Бог на всю жизнь отметил, и страшится стереть метку, и несет их к Махоне все, сколько бы ему их ни поставили.
Первого Махоня не сечет. Первый сидит при нем и подает ему розги, окатывает водой отсеченных, привязывает и отвязывает их от лавки. У Махони такой обычай… Не сдуру, не с блажи держится его Махоня. Ему всегда требуется помощник, вот и милует он первого, чтобы тот с охотой и старанием помогал ему.
10Копейщик, у которого царь на смотре копье пробовал, поспел к Махоне первым. Бешено, как впервые взнузданный конь, мчался он. Три креста поставил ему тысяцкий. Только ноги могли спасти его от полутора дюжин Махониных плетей. Не встал бы он после них: не той он был силы, чтоб выдюжить такой бой, оттого и мчался как скаженный, обгоняя по дороге таких же, как и сам, надеющихся спастись от тяжелой Махониной руки.
Вскочил он в предбанник, где Махоня уже приготовился к своей немудреной работе, и повалился как мертвый, без единого звука, только брязнулся об пол своим изжелта-бледным лицом.
Махоня плеснул на него водой, посмыкал за бороду, попинал легонько в зад. Копейщик очнулся, показал Махоне лоб.
– Ох, мама кровная! – ужаснулся Махоня и присел перед ним на корточки. – Ну, подымась, подымась, – стал он ласково приговаривать и помогать копейщику подняться на ноги.
Копейщик поднялся, шатаясь, подошел к кадке с водой, бултыхнулся в нее головой.
– За что ж тебя так, родимай?
– За царя… – просипел копейщик.
– За которого-то быть царя?
– За нашего… батюшку Иван Васильча!
– Господи! – прошептал Махоня и перекрестился. – Что ты?..
– А ништо… Мы с ним – как с тобой… Погутарили про воинское дело… Копье он у меня… взял!.. Этак половчил в руке… и – в землю!
– Ты ж чаво?..
– А я ничего…
– Ишь ты! А плетки – пошто?
– Копье-то… не встрянуло!
– Ух, матерь кровная! – снова ужаснулся Махоня.
– Дык, теперь што? – радостно сказал копейщик. – Теперь ништо!
– Верноть, – согласился Махоня. – Бог тебя послал нонче первым, а первого я не секу.
Копейщик сел на лавку, откинулся головой к стене.
– Посидь, посидь, – сказал ему Махоня, – а я по нужде отойду. Како зайдут яшо, так и почнем.
Махоня вернулся с улицы, а в предбаннике уже сидело пятеро. Подпоясался Махоня красным кушаком, хлебнул квасу, потер ладонью меж жирных ягодиц и ласково поманил ближнего:
– Не бось, родимай! Розга, она что мать родная, сечет и ум дает!
Мужичок от страха не мог и кафтан с себя снять.
– Подсоби, – сказал Махоня копейщику.
Копейщик споро раздел мужика, уложил на лавку, пристегнул руки-ноги ремешками. Махоня неторопливо вынул из кадки розгу, протащил ее сквозь сжатую ладонь, покачал в воздухе, словно примеряясь, и без замаха, будто вполсилы, стеганул по напряженной, потной спине. Мужик даже дернуться не успел, но заорал так, что Махоня отступил в удивлении и заглянул ему в лицо.
– Больноть? – спросил он ласково.
– Дюжа… – простонал сквозь зубы мужик.
– Далей полегчей будя, – так же ласково сказал Махоня и снова полосонул через спину розгой.
…Пока он высек первых пятерых, явилось еще человек тридцать. Расселись по лавкам, угрюмо, безмолвно, как перед покойником. Изредка кто-нибудь вышепчет: «О, Господи Исусе Христе…» – торопливо перекрестится и опять уткнет бороду в кафтан.
Махоня лоснится от пота, хекает в каждый удар – надрывно, как стонет, с руки срываются при каждом ударе брызги пота и падают на иссеченную спину, въедаясь солью в багровые извивы.
Подошел к Махоне один с крестом на лбу – пот с бороды ручейком…
– Хочь перемена, – обрадовался Махоня, увидев крест. – Дай-кось мне плеть, – сказал он копейщику.
Тот подал ему плеть. Махоня стал разминать ее, подбадривая вконец потерявшегося мужика:
– Не бось, родимай! Плетка, она мягчей розги! Плетка рвет, а рваное быстрей гуится. Что ж ты укоил, что плети схлопотал?
– Коня загнал.
– Легко отделаешься, родимай, за грех такой великий! В раю будешь, помянешь Махоню добрым словом.
После трех ударов мужик запросился:
– Погодь, Махоня… Мочи нет.
– Чего ж годеть? – сказал ему ласково Махоня. – Эвон у меня яшо сколь страдальцев! До полуночи не управлюсь. И со счету ты меня сбил, родимай, – сокрушился Махоня. – Чтоб ни Богу в обиду, ни тебе, почну сызнова.
11Басманов после вечернего осмотра войска, на который он ездил с Горенским и третьим воеводой молодым княжичем Оболенским, решил заглянуть к Махоне, посмотреть на его работу. Горенский подумал было отказаться и поехать выспаться перед завтрашним походом, но почему-то не посмел. Он чувствовал себя перед Басмановым как-то неуверенно – то ли оттого, что впервые шел вместе с ним в больших воеводах, то ли от страха перед ним. Исходила от Басманова какая-то сила, которой Горенский не понимал, но которую чувствовал на себе, чувствовал ее жестокость и властность, и потому не решился.
Махоня уже почти со всеми управился, когда приехали воеводы. Он сел отдохнуть, а чтоб не было перерыву, поставил вместо себя одного из оставшихся. Этот, поставленный Махоней к розгам, был сотским – на груди у него висела похожая на рыбий хвост медная бляха с вычеканенным на ней двуглавым орлом с коронами на головах и растопыренными крыльями. Махоня хоть и был простоват, а хитер – с умыслом выбрал себе замену: увидел на лбу у сотского два креста и решил оставить его напоследок, чтоб избавить по своему обычаю от плетей.
Сотский угрюмо взял розги и принялся сечь.
Был он космат, волосы росли у него даже на ушах, а со лба прорастали клином чуть ли не до самых бровей. У него и кресты были поставлены по разные стороны от этого клина. Широкое, скуластое лицо напряжено, будто он что-то закусил в зубах; из-под тяжелых бровей, вросших густой рыжиной в самые виски, светился большой, налитый кровью глаз и такое же большое, белое, как кресты на лбу, бельмо.
– Ох, аспид! – закричал после нескольких его ударов лежащий на лавке здоровенный, жилистый мужик. – Как ножом режет!
– Ну уж?.. – не поверил Махоня.
– Ей-бо!.. – прорычал мужик. – От тебя терпел… О-о! От сего вся мочь вышла!
– Щекотки не любишь? – осклабился Махоня. – Расхолен, как болярин.
– О-о! – еще вымученней рыкнул мужик и разразился отчаянным матом. Сотский невозмутимо полосовал его спину.
– Возьми ты, Махонь, – взмолился мужик.
– Пущай дощекочет! – весело и довольно ответил Махоня, уверенный, что мужик притворяется, и наставительно добавил: – Лозою в могилу не вгонишь…
Тут как раз и зашли в предбанник Басманов, Горенский и Оболенский. Махоня важно поднялся им навстречу, с достоинством поклонился. Остальные тоже поклонились. Сотский злобно глянул на воевод, отбросил сломавшуюся розгу, с неохотой опустил в поклоне голову.
Мужик на лавке продолжал яростно материться.
– Угомонься ты, – сказал ему Махоня и проворно отстегнул ремешки, державшие мужика на лавке.
Мужик тяжело поднялся, глухо сказал сотскому:
– Зверюга!
На воевод не обратил никакого внимания. Со стонами и охами принялся надевать на себя одежду, ненавистно поглядывая на своего мучителя и осыпая его проклятиями.
– Чем винил? – спросил мужика Басманов.
– Не винил, воевода…
– Пошто ж сечен?
– А чтоб знал наших!
– Врешь, поди?
– Да пошто мне врать? На лавке-то уже отлежал! Кабы винил, три дюжины схлопотал бы… А так – единую!
Говоря с мужиком, Басманов пристально наблюдал за сотским. Видел, как тот в сердцах отбросил розгу и злобно сверкнул своим страшным глазом. И страх, и отвращение шевельнулись в душе Басманова… Никогда еще не доводилось ему видеть в человеке такой мрачности и яростной, тупой злобы. Сойдись с ним Басманов один на один где-нибудь в укромном месте, не стал бы он зацеплять его, обошел бы, но сейчас ему даже дыхание перехватило от желания затронуть его…
– Чей сотский? – спросил он сурово.
– Нарядного головы Еремея Пойлова.
– За что плети?
– Голове в зубы съездил.
– Небось не вкушал еще плеток?! – сказал угрозливо Басманов. – А ну-ка, Махоня, попотчуй его! Да от меня добавь полдюжины, дабы знал длину рукам своим.
Сотский спокойно, неторопливо скинул кафтан, рубаху, поудобней улегся на лавке… Страха не выдавалось в нем, будто не под плети ложился, а в парной на полок, потомиться, понежиться…
Махоня старался угодить воеводам. Плеть свистела и с протяжным щелком прилипала к спине сотского. Тот молчал, ни звуком не выдавая своей ужасной муки. Последние удары Махоня делал с оттяжкой, резко забирая впивавшуюся в спину плеть на себя, и рвал кожу. Сотский вытерпел и это. Когда изморенный Махоня отступил от него, а копейщик дрожащими руками отпустил ремешки, он тотчас и поднялся. Бельмо его ненавистно уставилось на Басманова. Басманов отвернулся, отступил в темный угол.
– Хорош у царя воинник! – сказал ободряюще Горенский. – Терпелив! Како ж имя твое?
– Малюта… Скуратов.
Глава четвертая
1Когда Шереметев после своего затворничества, якобы отхворав, приехал в Кремль, он, к своему великому ужасу, узнал, что царь ушел в поход. Ему даже зябко стало, хоть и был он в двух шубах, и страшно, и тоскливо: впервые за всю свою жизнь он остался не у дел, впервые не пошел в поход, впервые не снял со стены свой воеводский шестопер.
Первой его мыслью было: кинуться вслед за царем, догнать его, упасть в ноги, сознаться во всем, пусть опалит, садит в застенок – легче ему было это перенести, чем сидеть без дела в Москве вместе с дьяками и писцами.
Всю свою долгую жизнь Шереметев воевал. Не было у него иного занятия, ни в чем больше он не был искусен, ни к чему не склонен… В Боярской думе у него было место, но занимал он его редко: то пребывал в походах, то готовил войско и оставался при нем во времена недолгих перемирий, то наместничал и воеводствовал в порубежных городах. Он презирал всех, кто сидел в Москве, на легких хлебах, боясь и нос высунуть в поле – под татарские стрелы и немецкие пищали. Он и брата своего меньшего, Никиту, тоже уманил из Москвы, чтоб не лез тот со своей горячностью во всякие тайные боярские дела, за которые многие уже поплатились головами. Сидел Никита наместником в Смоленске – на хороших кормах, при большом почете, пять тысяч войска было у него и самая лучшая русская крепость, – только не сиделось ему там. Наезжал он в Москву и наезжал, по случаю и не по случаю, и оставался в ней без причины так подолгу, что царь порой приказывал выставить его вон. Как старший брат, остерегал он Никиту от этих поступков, на которые царь смотрел с большим неудовольствием и мог сурово сыскать за них. Только Никита мало внимал этим предостережениям: месяц-другой потерпит – и в Москву. Нынче неладная зима помешала ему – не стал тащиться по бездорожью, – а случись хорошей зиме и хорошей дороге, непременно уж объявился бы в Москве.
Оставив коня служке, Шереметев решительно направился в думную палату, чтоб доложить там о своем немедленном отъезде. Но пока он шел по дворцовым коридорам и переходам, где после царского отъезда не жгли даже лучин и не ставили стражу, от чего они казались еще мрачней, чем обычно, решительность его ослабела. Здравый смысл брал верх. Первая отчаянная мысль сменилась другой. Она вернула в него прежние опасения и страхи, вытесненные из его души ошарашивающей неожиданностью происшедшего, а давнее недоверие к царю, всегда заставлявшее его быть настороже, вконец образумило его: он спокойно и трезво рассудил, что ехать сейчас к царю с повинной – все равно что лезть голодному волку в пасть. Лучше уж стоять на своем до конца, держаться своей выдумки, которая оправдывала его перед царем и в которую тот, видимо, поверил, потому что не стал даже проверять и доискиваться до истинной причины его затворничества.
Время было не самое раннее, и в думной палате Шереметев застал только Мстиславского и боярина Захарьина-Юрьева.
– Отрадно видеть боярина в добром здравии, – приветливо сказал Мстиславский и даже встал, чтоб встретить его.
– Слава Богу! – ответил Шереметев. – Не по мне сыч кричал.
Посидели, помолчали.
– Темна хвороба сия, – сказал Захарьин не то сочувственно, не то лукаво. – Как распознать – живой иль мертвый?
– Да уж… – буркнул Шереметев.
Снова помолчали.
Захарьин приклонился к Шереметеву, приглушил голос и доверительно сообщил:
– Царь перед походом больно гневен был… Велел живого иль мертвого тащить к нему. Духовник царский, протопоп Андрей, отговорил…
– Да неужто?! – засмеялся Шереметев, но в душе содрогнулся от этого известия. «Выходит, сыч-то кричал! – подумал он с тоской. – Да Богу было угодно, чтоб жил на земле в сей час протопоп Андрей!»
– Так уж и отговорил?
– Отговорил… Тем, что ангелы будто в такого вселяются и тревожить их – грех великий!
Захарьин тихонько, с удовольствием засмеялся. Глаза его хитровато, заговорщицки блеснули…
Шереметев нахмурился, холодно сказал:
– Прикинул я к себе хворь, дабы в думу не ходить. Больно шумно тут стало в последнее время… А я уж свое отшумел.
Шереметев сам подивился своей выдумке, которая неожиданно пришла ему в голову: и отговорку хорошую нашел для себя перед царем, и Захарьина отбрил. У того даже челюсть отвисла от неожиданности: все что угодно ожидал он от Шереметева, только, должно быть, не такого признания.
«Что, съел, царский угодник! – подумал со злорадством Шереметев. – Небось на слове думал меня словить?! Да старый ворон даром не каркнет!»
Шереметев поднялся с лавки, крякнул…
– Новости каки есть?
– Новости есть, – ответил Мстиславский. – Как же не быть?
– Сказывай…
– Первостепенно: братец твой, Никита, епистолию дослал…
– Се что! Он много их шлет. Еще сказывай!
– Князь Андрей Михайлович Курбский, прибыв в Дерпт, отписку дослал о прибытии…
– Что за новость? Раз отбыл, непременно прибудет.
– …а боярин Иван Петрович Челяднин по пути в Москву.
– Эк и новость! – по-прежнему равнодушно сказал Шереметев, но на сей раз покривил душой. Эта новость обрадовала, очень обрадовала, однако виду он не подал: откровенно радоваться возвращению в Москву боярина, которого царь целых десять лет держал в отдалении, было не совсем безопасно. Неизвестно, как встретит его царь на Москве: милостью ли одарит за прежние лиха или еще сильней заопалит? Всем было ведомо, как не благоволил к нему царь. В вечном подозрении держал, ни на год не давал ему покоя, переводил из одного города в другой и даже звания конюшего[18], которым исстари владел род Челядниных, лишил…
– Нешто не новость? – удивился Захарьин. – Не частым гостем был боярин на Москве.
– Да уж порты не протирал по думным лавкам!
Мстиславский, чуя, что они вот-вот сцепятся, подошел к полке, на которой ворохом лежали грамоты и свитки, прицелился глазом, безошибочно вытащил какую-то грамотку, развернул ее.
– Братец-то твой Никита… На сей раз совсем уж пречудную епистолию дослал. Грозится в Литву отъехать, коли государь его в Москву не воротит!
– Спятил Никитка! – ужаснулся Шереметев. – Иному б Медынь иль Таруса раем были, а ему в Смольне не сидится!
– Нраву он переменчивого, – подтравил Шереметева Захарьин. – Как баба на сносях!
– Се истинно! – сокрушенно согласился Шереметев.
2Расстроенный и сокрушенный вышел из думной палаты Шереметев. Приказный люд – писцы, подьячие, приставы, спешившие по своим делам в думу, сталкиваясь с ним в коридоре, учтиво кланялись и замирали, ожидая, пока он удалится.
Шереметев не замечал их, угрюмо проходил мимо.
На переходе, что вел из думной палаты в царский дворец, горел масляный фонарь. Он нещадно чадил, в нос шибало угаром.
Шереметев постоял в раздумье на переходе и, сам не зная зачем, перешел на царскую сторону. Пошел по дворцу, отрешенный и замыслившийся, растревоженный причудами брата своего. «Не сносить ему головы, – думал он удрученно. – Виданное ли дело – царю такое писать… Отъедет в Литву! Да за такое… Эх, Никита, Никита!»
Шереметев, занятый своими мыслями, не заметил, как по одному из переходов ушел в старый, нежилой дворец, чудом уцелевший в последний пожар и сразу же покинутый царем. К нему год спустя были пристроены новые хоромы, а старые, все еще пахнувшие гарью и палом, с закопченными слюдяными окошками, пустовали. Хранился в них всякий скарб: старая утварь, лавки, столы, рассохшиеся кадки, дырявые, битые котлы, цепи, веревки, крюки, багры; пылились и сгнивали стертые ковры, дотлевали изъеденные молью, старые шубы; разваливались в прах, в щепы некогда роскошные великокняжеские троны, превращались в труху громадные кровати, на которых усердные хозяева этих хором зачинали своих наследников. Сыскать тут можно было даже гробы и могильные кресты, невесть как очутившиеся среди всего этого хлама.
Шереметев обошел всю старую часть дворца, позаглядывал во все углы, попинал старое барахло, которое служило московским государям еще тогда, когда он, Шереметев, был совсем молод. Рассохлись и развалились троны, погнили бархат и парча, поломались посохи, пооблущилось золото на набалдашниках, порыжела кость, померли государи, восседавшие на этих тронах и державшие в своих руках эти посохи, а он, Шереметев, все еще живет, дышит, видит, слышит, мыслит, служит новому государю и терпит от него такое, чего не пришлось терпеть ни от деда его, ни от отца.

