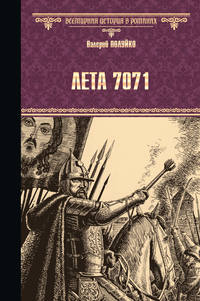
Лета 7071
В одном углу Шереметев наткнулся на обрывок какого-то старого знамени. Поднял, всмотрелся – узнал знамя, с которым великий князь Василий ходил отбивать у литовцев Смоленск. Шел с ним в том походе и Шереметев – дворовым воеводой. Было это полвека назад. Был он тогда молод, честолюбив, горяч, отчаедушен. Три раза ходил с войском на приступ. С третьего раза взяли город. На радостях даже не брали в плен литовцев. А князь Василий еще и деньгами одарил их, отпуская с миром. Помнит Шереметев то далекое время, помнит тот поход – он был первым большим походом в его жизни. Потом было множество других походов: против поляков, литовцев, татар, черемисов, ливонцев, шведов… Теперь и не счесть уже, во скольких он перебыл за эти пятьдесят лет!
Воспоминания о Смоленске опять вернули его к мыслям о брате. «Эх, Никита, Никита! Я тот город своей кровью добыл, чтоб ты мог в нем сидеть припеваючи! И пошто ты такой норовистый? Пошто на рожон лезешь? Аль великую охоту имеешь быть кинутым на божедомке[19] – без могилы, без креста?»
Шереметев зашвырнул в сердцах обрывок знамени подальше в угол, отряхнул руки. «Буде, еще все и образуется? – подумал он с надеждой. – Неужто государь не разберет, что с жиру он?»
Знает Шереметев, отчего Никита в Москву рвется: чтоб пировать на царских прохладах[20] да с соколами по урочищам мотаться! В Смоленске много не напируешь, соколами не потешишься: там рубеж, там всегда нужно быть начеку. Сиди за стенами и жди! Враг может пойти завтра, может и через год – а ты сиди, жди! Понимал Шереметев, как не по душе Никите такое сидение, и клял уже себя вовсю за то, что уговорил его уехать из Москвы.
…Пройдя узким коридором, забранным по стенам дубовым брусьем, преминув бывшую трапезную покойной княгини Елены, из которой маленький переходный коридорчик с узкими, стертыми ступенями вел в верхнее жилье – в терем, где некогда княгиня обреталась со своими девками, мамками, няньками, Шереметев через ряд обветшавших хозяйственных приделов вышел в черные сени. В высоких сводах зияли пустые проемы окон, сквозь которые к самому полу опускались толстые наклонные столбы света. Каменный пол дышал холодом. Большие двустворчатые ворота, в которые когда-то въезжали возы, доставлявшие в царский дворец съестные припасы и воду, закосились на раздерганных петлях, в щели набился снег – не таял, лежал широким узорчатым пластом, похожим на петушиный гребень. В глубине сеней, там, где рубленый сводчатый восьмерик опирался на мощные выступи белокаменного основания, темнел вход в подвал. Шереметев приблизился к нему, заглянул… Затхлая стужа свела ему ноздри.
Сквозь незаглушенные отдушины в подвал пробивался тусклый свет, отчего казалось, что подземелье наполнено прозрачной сизой плесенью. Чуть выделялись светом гребни ступеней. На одной из них в расплывчатом, сером пятне света Шереметев заметил какой-то шевелящийся комок – не то собака, не то человек…
– Эй! – крикнул он вниз. – Кто там?
Голос его бухнулся, как камень в глубокий колодец, медленно затих внизу. Ему показалось, что комок зашевелился и как будто пискнул. «Псина», – подумал он, но всмотрелся повнимательней: комок шевелился…
– Спаси Господи! – перекрестился Шереметев и ступил на черные, расползшиеся под его ногой гнилые ступени. Спустившись пониже, снова всмотрелся.
– Ба-а! – выдохнул Шереметев, встретившись с большими черными глазами, в упор смотревшими на него. – Царевич?! Федор Ианыч! Ты ли се, мальчона?
Круглые, немигающие глаза Федора с ужасом смотрели на Шереметева.
– Остынешь здеся, Федор Ианыч! Пошто уховался в погреб? Няньки, поди, с ног сбились… А ты – подумать токо!
– Не забижай меня, – тихо сказал Федор. – Тятька прознает – голову тебе отрубит.
– Ишь, чему тебя обучили?! – подивился Шереметев. – Видать, няньки твои, суки борзые? Под подолами кобелей водят, а тебя, сиротинку, и доглядеть некому. – А про себя подумал: «Мачеха твоя и того пуще… Гиена лютая!»
– Идем-ка отсюда, Федор Ианыч!
Шереметев взял царевича за руку, тот послушно пополз за ним наверх. В сенях Шереметев оглядел его, поправил на нем соболью мурмолку, потрепал за нос:
– Куды – к нянькам?.. Аль на башню полезем?
– На башню, – тихо, несмело ответил Федор.
Шереметев толкнул ногой створку ворот – она с треском и визгом отворилась немного… Дальше ее не пустил сугроб.
– Выходи, царевич! Поперед тебя не могу!
– А в башне страшко?
– Не страшко, царевич! Там стража…
Шереметев взял царевича на руки и пошел прямо по снегу, забредая в него по колено, потом выбрался на дорожку, протоптанную к Успенскому собору, обминул собор, дошел до Кремлевской стены и опять побрел по снегу вдоль стены, до самой башни.
Под башней, рядом с притыном[21], был наметен большущий сугроб. В сугробе торчал бердыш, на нем висела сабля в потрескавшихся, побитых деревянных ножнах, кожаный сыромятный пояс, на снегу валялись меховые варежки.
– Разбойник, – недобро проворчал Шереметев, опуская Федора на землю. – Вишь, царевич, как слуги твои службу блюдут! Нет на посту окаянного!
От сугроба за башню вели следы. Шереметев, ступая след в след, заминул за башню.
– Ах, разбойник! – закричал он. – Нет тебе иного места нужду справлять?! Чрево свое рассупонил!.. Этак весь Кремль з..! Надевай порты, не то дындло свое отстудишь – бабы горевать будут.
Он выволок стрельца из-за башни, поставил перед собой – тот стоял ни живой ни мертвый.
– Чей таков?
– Прибор головы Авдея Сукова…
– Улежно брашнит вас Авдейка Суков! Голова на служе, а брюхо натуже! Подпояшься, Сидорова коза! И гляди мне! – погрозил Шереметев ему кулаком. – Дозоры вверху бодры?
– Сидять… – лепетнул стрелец.
Шереметев с царевичем вошли в башню. На широких ступенях, уходящих крутым изгибом вверх, была настелена солома, в нишах стояли бочки с песком, со смолой, на стенах висели багры, крюки, тяжелые колотуши на пеньковых верзилах[22], в одну из бойниц была просунута небольшая пищаль, охваченная по казне кожаным пояском, чтоб не отсыревал порох в зелейнике, остальные бойницы были закрыты деревянными щитами.
Лестница, все сильней изгибаясь и суживаясь, ползла вверх. Шереметев с трудом забрался на верхний дах, втащив за собой и царевича. На даху двое дозорных с жаром метали кости. Увидев воеводу, они в ужасе сунулись лбами в холодный пол и замерли.
– Разбойники! – напустился на них Шереметев. – Костарством шалуете, а к городу подступили татары!
Стрельцы не шевелились, не поднимали голов – лежали как мертвые.
– Померли? – тихо, жалобно спросил царевич.
– Таких и бойлом не убьешь! Носы в щели позаткнули и молятся куриному Богу! Подымайсь!
Дозорные мигом вскочили, виновато насупили лица.
– Сейчас быстро вниз, – приказал Шереметев, – и во дворец, скажите: царевич на стрельнице, Москву оглядывает!
Дозорные умчались.
– Кабы был ты погоже, а я помоложе, забрались бы мы с тобой, Федор Ианыч, на самый верх, – сказал ласково Шереметев и кивнул на стремянку, прилаженную к задней стене башни.
Лестница вела наверх, туда, где на толстых дубовых стропилах под островерхим навесом висел большой набатный колокол. Это был новгородский вечевой колокол, привезенный на Москву еще великим князем Иоанном Васильевичем. С тех пор не сзывал он уже непокорных Москве новгородцев на их буйные вече. Теперь он сзывал москвичей – в Кремль, за его спасительные стены, когда в степи за Москвой-рекой появлялась татарская конница.
Шереметев отворил небольшую железную дверцу, яростно проскрежетавшую проржавевшими петлями, ступил на облом – узкий настил, положенный поверх выдающихся из стены толстых бревен.
– Ну, поди сюда! – Шереметев повернулся к Федору, протянул руку. Тот робко подступил шага на два и вдруг заплакал, боясь подойти ближе.
– Э-хе-хе! – вздохнул Шереметев. – Робок ты больно… Ну, оставь слезы, оставь… Поглянь! – Шереметев потянул Федора к себе. – Вишь, Москва! Государем станешь – твоя вотчина будет!
Федор хныкал в полу Шереметевой шубы и не хотел смотреть на свою будущую вотчину. Мурмолка свалилась с него, обнажив большую круглую голову с редкими белесыми волосиками, похожими на пух оперяющегося птенца. Шереметев поднял мурмолку, посильней нахлобучил ее ему на голову. Федор стал затихать. Шереметев уже не трогал его, молча смотрел вдаль, на Заречье… Там, за Серпуховскими воротами, начиналась старая Ордынская дорога, по которой когда-то московские князья ездили в Золотую Орду за ярлыками на княжение. Теперь по этой дороге подкрадывается к Москве другая орда – Крымская. Сколько раз уж встречал и отгонял ее Шереметев?! Крымский хан на воротах своего дворца особый кол установил, на который собирался вздеть голову Шереметева, если бы тот живой или мертвый попал ему в руки.
Где-то там, в той стороне, была и Тула, близ которой последний раз сошелся Шереметев с ханом. Великий бой дал ему Шереметев, хоть и было у него войска раз в пять меньше, чем у хана.
Раненый конь придавил тогда Шереметева, и растерялись русские полки без воеводы, – только тогда и справил хан победу, да и то неполную: Алексей Басманов с остатком войска стал в Судбищенских оврагах, и не выбил его хан оттуда, пока и царь с Оки с главным войском не подоспел.
3На торгу в мясных рядах переполох. Народу скопилось уймище, галдеж, давка… Всех распирает азарт, любопытство, ретивые лезут куда повыше, чтоб не прозевать ничего, не прослушать…
Мясники, в нагольных кожухах, подпоясанные бычьими жилами, разъяренные, с секачами в руках, отгоняют наседающую на них толпу, кричат, матерятся…
На крюках, куда в обычай подвешивают полти, висят дохлые собаки; кое-где под ними застывшие лужи крови – вешали и живых.
Мясники затворили лавки, повесили на мясные лари замки. Торг не ведут. Ругаются с толпой, огрызаются на подзадорки. Рышка Козырь, родной брат Махони Козыря, по прозвищу Боров, самый сильный и самый здоровенный среди мясников, захватил двухсаженное стропило и жмет им в толпу. Передние вопят: Рышка жмет страшно, сила у него буйволовая, глаза от натуги вскровенели, морда вспучилась, побагровела, шея – как дубовый комель…
– Осади! – хрипит он.
Задние напирают, передние вопят… Рышка жмет, держит толпу. Кому полегче, тот глумливо орет:
– Псятинки – на закуску!
– Секани-ка ляжечку!.. С шерсткой!
– Рышка!.. Боров пузастый! Пуп распупится!
– Хрен вам в нюх! – хрипит Рышка.
Остальные мясники побрали дреколье, тыкают им, махают, а один по-иному смекнул – водой из отстойной ямы. Бухнул в нее пешней, пробил лед и поливает по головам.
От такого купания толпа подала назад. Рышке стало полегче.
– Ге, лупандеры! Токо бы и пялили зеньки! – орет он.
– А чего нам – поглядим!
– Ловчено с вами сыграли!
– Не ловчей, чем с вами! – огрызается Рышка.
– Сорок дён смехоты!
– Слышь, Рышка?.. Кабыть тебе ишо на пуп соли сыпнули!
Рышка злится, сопит. Которые с ним лицом к лицу, те молчат, не растравляют его – боятся. Знают: разойдется Рышка, всем мало места будет. Не раз видывали, как Рышка быка за хвост на землю валит. Но те, что подальше от его кулаков, подзуживают:
– Небось и на постели тебе кобеля сунули?
– Слышь, Рышка?.. А, Рышка?!
– Ну, чаво? – нехотя отвечает Рышка, ожидая подвоха.
– А никак ведьма вам кобелей нацепляла?
– Эге ж, ведьма… Така, как ты!
– Да у мене и хвоста-то нет!
– Спереди у тебя хвост!
Толпа гогочет, колышется, сзади уже не напирают, но народу прибывает и прибывает.
– Ужо не спущу я ноне плотницким, – грозится Рышка. – Будут они у мене тесаны!.. Эй, слышьте, плотницкие?! Есть вы тута?! Задира ваша вам даром не сыдет!
– Не сыдет! – подгукнули Рышке и другие мясники.
Мясницких на Москве боялись все. Занятие у них было такое, что без силы и ловкости не управиться, – вот и подбирались там мужички дебелые и ядреные. Задираться с ними – себя не жалеть! Даже кузнецы, тоже не без силы, и те не решались ввязываться в драки с мясницкими. Если выходили на кулачный бой мясницкие, все отступали. Двумя, а то и тремя улицами ходили на них – и все равно не одолевали. Однажды на потеху царю сошлись они с кадашевскими да бронницкими слободчанами, полдня бились, истерзали слободчан, избили их в кровь, изломали им кости, но и сами три дня крамарен не отмыкали и торга не вели. Рышкин отец помер от того боя: стар был, не выдюжил. А слободчане целую неделю таскали на погост покойников. Царь от такой потехи в гнев пришел и запретил с той поры кулачные бои.
Истосковались московиты по кулачной потехе. Покуда царь был в Москве – терпели, не хотели плетей получать. А как ушел он в поход – почуяли свободу, и загулял в них задор. На третий день по отъезду царя дворовые чеканщики споили пушкарей, стоявших на Варварской стрельнице Китай-города, и выпалили из пушки тухлыми яйцами по Варварке. Окольничий Темкин, оставленный в Москве с сотней черкесов для держания порядка, тех пушкарей поставил на правеж да жалованье им усек на два алтына, а чеканщики ходили по торгу и бахвалились, что выпалят еще и по Ильинке – с Ильинской стрельницы. Пушкари этой стрельницы не подпускали теперь к себе никого: боялись, чтоб и им не угодить под плети.
По субботе завелись меж собой на торгу гончарники: перебили все свои горшки, кувшины, миски… Пять возов черепков вывезли с гончарных рядов. Весь месячный наработок перетрощили в запале. А в воскресенье, перемирившись в кабаке, потащили на кулачки бондарей – за то, что будто те осенью торговали гнилыми кадками. Сошлись опять прямо на торгу, у собора, уж и кожухи поскидали, да попы развели, не дали возле храма Божьего буйству грешному разразиться. Пошли они на Москву-реку, да, покуда шли, позабыли, из-за чего сыр-бор загрелся. Повернули опять в кабак.
Окольничий Темкин ездил по торгу с черкесами и подсмеивался и над бондарями, и над гончарниками: хотелось ему стравить их, чтоб потешиться в царское отсутствие кулачным боем. Не стравил – вернулся в Кремль злой. Два дня не появлялся на торгу.
Нынче, только выехал из Никольских ворот, увидел толпу в мясных рядах и помчался с черкесами во весь опор.
Сидящие на крышах увидели скачущих черкесов, закричали, замахали руками… Да куда тут бежать!
Черкесы вломились в толпу, подняли коней на дыбы: засвистели нагайки, завопили люди, захрапели испуганные лошади…
Темкин орудовал саблей – хлестал плашмя по головам, по спинам… Какой-то мужичина подвернулся под лезвие – полоснулась сермяжная ферязина до самого тела, мужик выгнулся, взвыл, глянул волчьим взглядом на окольничего и пустил в него какое-то бранное проклятие. Темкин не расслышал, но погрозил мужику саблей. Мужик, скорчась, исчез за спинами.
Вскоре ни одного человека не осталось в мясных рядах. Даже сбитые и подавленные старались поскорей заползти за какой-нибудь ларь… И в соседних рядах не осталось ни души – разбежались со страху. Только на крышах еще сидели людишки, боясь спускаться, чтоб не попасть черкесам под руку.
Попрятались и мясники. Один Рышка Козырь стоял с поломанным стропилом в руках среди перевернутых ларей, развороченных настилов и навесов. Валялись шапки, рукавицы, сумки, корзины, какие-то крюки, топоры, хомуты…
Рышка прихохатывал от удовольствия, гордо выпячивая свое большущее пузо. Темкин грозно надвинулся на него конем.
– Эй, обрин! Пошто учинил бучу?
– Бучу не учиняют, болярин, буча сама учиняется.
Темкину, видно, понравилось, что Рышка назвал его боярином: он усмехнулся, с любопытством спросил:
– А еще чего скажешь?
– А боль ничаво. Зря-то баить не свыклай.
– Ан врешь! Пасть-то широка, и зуб редок.
– Пасть, чтоб попасть, болярин! А зуб редок – так, бают, кобыла лягнула.
– Ну а псов пошто на крюки поцеплял? Блаженным на диво иль кому во вред?
– Через псов, болярин, у нас с плотницкими крутая выйдет! То они нам кобелей нацепляли. Эй, братя! – крикнул он попрятавшимся мясникам. – Выходь ужо!..
Мясники по одному стали вылазить из своих схованок. Но к Рышке не приближались, стояли поодаль – боялись Темкина.
– Мясницкие! – угрозливо крикнул Темкин. – В приказ похотели?!
– Не по нашему злу, болярин, – загалдели мясники. – Кабы нас не замали… Плотницкие – анафемы!
– Уж и вы не ангелы!
– До шкоды мы не падки, болярин, – твердо сказал Рышка. – Ежели где и што… так не по-зряшному. За честь свою стоим.
– Честь ваша – лузга гречишная!
– У кого што, болярин, – спокойно, с достоинством проговорил Рышка. – И мурав за честь свою стоит. Ужо мы сыщем с них, с плотницких, – сказал и покачал в руке стропило.
– Но-но! – пригрозил Темкин, хотя и знал, что никакие угрозы не подействуют на мясницких и они сделают так, как надумали. – Дьяки сыщут…
– То нам не вправ, балярин. Дьяки – пером, а мы – гужом.
– Но-но! – еще строже осек Рышку Темкин. – Гляди ты мне!
– Так бается, болярин, – невозмутимо ответил Рышка.
– Бедовый, гляжу, ты! – подивился Темкин, но больше нападать на Рышку не стал. Стеганул своего каракового и поскакал вдоль торга.
Черкесы с гиком пустились за ним.
4У Покровского раската[23], в кабаке, который на Москве зовут «Под пушками», людно с самого раннего утра. Подьячие, писцы, дрягили с Мытного двора, пекари, привезшие чуть свет на торг свои хлебы, стрельцы, ярыжки толкутся у раската неотступно.
Вдовая кабатчица Фетинья держит кабак в порядке, в прибыли. Хоть и не больно просторно у нее, зато тепло и чисто. Столы и лавки всегда скребаны, полы и стены мыты с полынью, чтоб клопы и блохи не плодились, на стенах фряжские листы[24] с разными диковинными птицами и зверями. Сама Фетинья всегда нарядная, в дорогом кокошнике с бисерным окладом, ласковая, уступчивая – может и в долг налить.
Фетинья еще молода, по-вдовьи томна, соблазнительна и красоты поразительной. Мужики вокруг нее – как мартовские коты!
– Фетинья, поди, три года немужня… – заводят они с ней хитрый разговор.
– И чиво?..
– Ды как – чиво? Телка и та хвост дерет!
– Телку быки замают.
– Тебя нежели – телки?..
– Буде, и телки! – Фетинья засмеется, закраснеется, но глаз не потупит, обожжет приставоху горячим взглядом, так что у того горло судорогой перехватит.
Нынче у Фетиньи Сава[25] плотник с артелью гуляет. Фетинья свежего меду достала из погребца-медуши, уважила Саве.
Буен Сава в гульбе – первый на Москве задира и зачинщик всех дурачеств, но и плотник искусный. На весь край знаменит. С Постником Бармой собор Покрова на рву ставил да и царский дворец в Александровой слободе рубил, за что ему царь пятьдесят рублей пожаловал сверх корма и приговорного жалованья.
Сава невелик, костляв, замухрыст… Голос у него сипл – от верховых ветров, продувших его насквозь на куполах соборов и церквей, глаза ленивы, но веселы. Сава безбород, голова курчава и рыжа, как пожухлая осенняя трава.
– Песню бы загуляли, братя, – сипит Сава, прикладываясь к березовому корцу, куда Фетинья услужливо плеснула медовухи. – Нутру измоторошно!
Из угла один из артельщиков тонким бабьим голосом затягивает:
Эх, ды застучали сякиры-топоры…Голос его дрожит, слабеет, вот-вот обсечется, но тут дружно, с тяжелым выдохом вступают остальные артельщики:
Эх, ды застучали ва темном бару…Вышедший по нужде на улицу пьяный артельщик стоит под стенкой, упершись в нее лбом, и плачет.
Из кабака доносится угрюмое:
Эх, пашто падсякают пад корню,Пашто клонют младую главу…Рядом с кабаком на двух колках, врытых в землю, стоит большая черная доска под двускатным навесом, исписанная густыми белилами. Возле доски другой пьяный артельщик держит за бороду щупленького подьячего, сует ему под нос копейную деньгу и настырно требует:
– Чти, строка, чего на доске писано? Чти – копейную получишь!
Подьячий осторожно высвобождает из лап мужика свою бороду, берет у него деньгу, внимательно ее осматривает.
– Резаная[26], – говорит он обидчиво и возвращает монету артельщику.
– Чти, анафема! – вскидывается артельщик и снова пытается ухватить подьячего за бороду. – Чти, вя то!..
– Ну, давай, давай, – соглашается подьячий и берет монету. – Ишь, ерепен какой! До митрополичьего указу он охочий! Ну, внимай… А деньга все же резаная.
– Ды я табе яшо корец меду выставлю, – хрипит ублажаючи артельщик.
– Ну, внимай! – Подьячий начинает читать писанный полууставом митрополичий указ: – Не велено священническому и иноческому чину по священным правилам и соборному уложению в корчмы входить, упиваться, празднословить, браниться…
– Вон чиво?! – дивится артельщик.
– …и каки священники, диаконы и монахи учнут по корчмам ходить, упиваться, по дворам и улицам скитаться пьяны, сквернословить и биться, таких бесчинников хватать и заповедь на них царскую брать – по земскому обычаю, как с простых людей, дражников, берется, и отсылать чернцов в монастыри к архимандритам и игуменам, и те их смиряют по монастырскому чину…
– Эва!.. – икнул мужик. – По таку строгость чернцы начисто перемрут. Людяче ж, поди, в них нутро, а?
Подьячий не ответил, продолжил чтение:
– А попов и диаконов слати к поповым старостам, каки являют их святителям, и святители правят их по священным правилам. На каковом чернце заповеди не можно доправить, то взять заповедь на том, кто его поил. Не велено також, – повысил голос подьячий, – чтоб православные христиане от мала и до велика именем божиим во лжу клялись, на кривь креста целовали, непристойными словами бранились, отцом и матерью скверными речами друг друга попрекали. Бород чтоб не брили и не стригли, усов не подстригали, к волхвам, чародеям и звездочетам не ходили.
– Ох, лыгаешь, самочей, – прищурился одним глазом мужик. – Разе могет митрополит так указать? Како ж люди промеж себя говорить-то будут?
– Побожиться тебе, Фома-невер?!
– Побожись!
– Вот те крест! – истово перекрестился подьячий.
Артельщик горько сопнул, растянул губы и заплакал. Слезы рясно побежали по его растрепанной бороде. Он размазал их по щекам, по носу, трясущимися руками достал из череска[27] еще одну серебряную монету, протянул ее подьячему.
– Бери последнюю… Все одно теперя… Померла Расея! – взмахнув руками, крикнул артельщиц и, шатаясь, пошел в кабак.
В кабаке Сава опаивал артельную братию. Перепадало и ярыжкам – им Сава тоже подносил. Ярыжки сидели у порога: дальше их не пускали, чтоб пол не следили и не воровали. Ярыжки сосали из разбитых, повыщербленных горшков и мисок хмельную медовуху – Фетинья не давала им ни корцов, ни ковшей, – блаженно щурились на Саву, кивали ему головами, как кони на водопое, и готовы были молиться на него.
В кабаке было испарно. От горящих лучин шел крутой смоляной запах. Сава сидел без кафтана, в одной миткалевой набойной подпояске, красный, хмельной, но гордый и важный. Ярыжки лебезили перед ним, подольщались. Сава делал вид, что не замечает их, но время от времени сурово приказывал Фетинье:
– Поднеси-кось злыдным!
– Савушка, царько наш радемый! – со слезами бормотали ярыжки и становились перед ним на колени.
Артельщик, которому подьячий читал митрополичий указ, войдя в кабак, затянул с порога, как дьякон в церкви:
– Померла Расея! Христиане, Расея наша померла. – Он захлебнулся слезами, уронил голову на грудь, замотал ею в отчаянье.
– Фетинья, – сказал лениво Сава. – Взвару[28] Фролке, пущай горю свою ублажит. Да не в корце… Горю корцом не ублажишь. Подай ему скопкарь. Садись, Фрола, поминай Расею!
Фетинья принесла скопкарь со взваром, ставя на стол, коснулась плечом Савы… Сава сопнул, захватил ее за пояс одной рукой, другой ловко подернул подол.
– Не лапь, – спокойно отвела его руку Фетинья. – Не по тебе лас.
– А уж не по мине?
– А не по тебе…
– Не пригож аль претен?
– Квол, – хохотнула Фетинья.
– Эх, дура баба! – оживился Сава. – Хилое дерево завсегда в сук растет! Кабыть допустила до себе, я б тебя быстро умаял!
– Кабы сам не умаялся!
– Эх, баба! – пуще заеборзился Сава. – Ни в укор, ни в перекор – реку пред честным народом: коли не умаешься, рублю тебе избу новую! А попросишься – мед и пиво нам даром будут.
– Экой бахвал! – засмеялась Фетинья. – На посуле, что на стуле: посидишь и встанешь.
– Пред честным народом реку! – ударил себя в грудь Сава. – Рублю избу! Пятистенку!
– И крест поцелуешь? – подхитрилась Фетинья.
Сава вытащил из-под рубахи нательный крестик.
– Пред Богом и пред честным народом – целую крест!
– Гляди ж, крест целовал, – потупившись, тихо сказала Фетинья.
Артельщики захохотали, загалдели, понесли похабщину. Ярыжки у порога скабрезно похихикивали, пялили глаза на Фетинью.
Сава цыкнул на артельщиков, ярыжкам пригрозил:
– Угомоньтесь, братя! Не мутите бабий стыд. Не по похоти она, но чтоб нашу мужью породу под позор подвести. Так на том ей не встоять! Не быть мине Савой!

