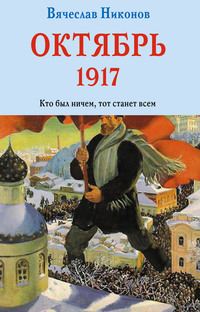
Октябрь 1917. Кто был ничем, тот станет всем
Как это нередко у нас бывало, главным аллергеном для прессы и общественности был министр народного просвещения – Александр Аполлонович Мануйлов. Выпускник юрфака одесского Новороссийского университета, он расширял горизонты познания в Германии, Англии и Ирландии. Затем преподавал политическую экономию в Московском университете, а в 1908 году стал его ректором. В 1911-м получил широчайшую известность, подав в отставку с этой должности в знак протеста против произвола полицейской власти в стенах университета и уведя с собой еще 30 ведущих профессоров. С начала войны возглавил экономический совет Всероссийского союза городов.
Набоков запомнил, что во Временном правительстве «Мануйлов все время оставался в тени… Он не импонировал никому. И вместе с тем его уравновешенной натуре духовного европейца глубоко претила атмосфера безудержного демагогического радикализма… Именно в области народного просвещения зловещие стороны нашего радикализма-якобинства выразились особенно рельефно. Среди других министров Мануйлов имел исключительно «дурную прессу». На него нападали и справа, и слева… Он приходил в уныние и отчаяние»[139].
Второй Львов в правительстве – 45-летний Владимир Николаевич (не родственник премьеру) был крупным самарским помещиком. Окончив юридический и историко-филологический факультеты Московского университета, готовил себя к монастырскому служению, поступил вольнослушателем в Духовную академию в Москве. Однако революция 1905 года резко изменила его планы: Львов стал одним из активных участников партии октябристов. Избрался от нее в III Думу, а в IV возглавил фракцию центра. Неизменно был председателем думской комиссии по делам Русской православной церкви. «Будучи глубоко набожным человеком, Львов был возмущен влиянием Распутина в высших церковных кругах. За пять лет нашего совместного пребывания в Думе мы с ним стали хорошими друзьями, и, несмотря на вспыльчивость, он нравился мне прямотою и искренностью»[140]. Столь лестная характеристика, которую дал Керенский, не помешает ему убрать позже Львова с этого поста и даже арестовать.
Милюков характеризовал Львова далеко не самым лестным образом: «Владимир Львов, долговязый детина с чертами дегенерата, легко вспыхивавший в энтузиазме и гневе и увеселявший собрание своими несуразными речами»[141]. Набокова обер-прокурор Святейшего Синода «поражал своей наивностью да еще каким-то невероятно легкомысленным отношением к делу… Он всегда выступал с большим жаром и одушевлением вызывал неизменно самое веселое настроение не только в среде правительства, но даже у чинов канцелярии». То есть, называя вещи своими именами, был посмешищем.
Наконец, государственный контролер – 61-летний Иван Васильевич Годнев, тоже крупный помещик и доктор медицины (окончил медфак Казанского университета и Медицинско-хирургическую академию). Один из лидеров октябристов, он был крупной величиной в Госдуме, специализируясь на вопросах бюджетной и образовательной политики. Но в правительстве ровно ничем себя не проявил. Набоков был разочарован: «На нем самом, на всей его повадке и, конечно, всего более на тех приемах, с какими он подходил к тому или другому политическому и юридическому вопросу, лежала печать самой простодушной обывательщины, глубочайшего провинциализма, что-то в высшей степени наивное и ограниченное»[142].
Именно этот кабинет, все члены которого впервые попали на собственно государственную службу, должен был прийти на смену выстроенной веками системе российской власти. Но революционной стране было предложено не только некомпетентное, но весьма нереволюционное правительство. Ломоносов узнал состав правительства в министерстве путей сообщения в компании опытнейшего царского министра Александра Васильевича Кривошеина. Ни к кому не обращаясь, он сказал:
– Это правительство имеет один серьезный… очень серьезный недостаток… Оно слишком правое… Да, правое. Месяца два тому назад оно удовлетворило бы всех. Оно спасло бы положение. Теперь же оно слишком умеренно. Это его слабость. А сейчас нужна сила… Да, все общественные деятели, трибуны, роли поменялись. Вы, господа, идете в министры, а мы теперь будем работать в общественных организациях и… критиковать вас[143].
Весьма критичен в отношении правительства был и один из наиболее вдумчивых инсайдеров – Бубликов: «Это был в существе не кабинет министров, имевший управлять великой страной в ответственный момент ее истории, а некий семинарий государственного управления. Всем приходилось прежде всего учиться, потому что знали они, в сущности, только одно дело – говорить речи и критиковать чужую работу. По политической окраске кабинет был определенно кабинетом «кадетского засилия» и не соответствовал политической обстановке, определившейся уже к моменту его образования»[144].
Не было и признанных лидеров или лидера. Не было и большого понимания, как в принципе организовать работу правительства. Первые заседания правительства проходили в переполненном людьми Таврическом дворце. Локкарт разыскал князя Львова «среди неописуемого хаоса. Он председательствовал на заседании кабинета министров. Секретари непрерывно врывались в его кабинет с бумагами для подписи или наложения резолюции. Он начинал говорить со мной, но в это время звонил телефон. В коридоре его ждали делегаты с фронта, из деревни, бог весть откуда еще. И в этой беспокойной, торопливой суматохе не было никого, кто мог бы защитить премьер-министра или снять часть забот с его плеч. Казалось, что все стараются заниматься неопределенным делом, чтобы избежать ответственности. Я пожалел, что здесь нет мисс Стивенсон (секретарши Локкарта. – В.Н.), которая послала бы всю кучу делегаций к черту и навела бы в этом содоме какой-то порядок»[145].
Поскольку князь Львов был не только министром-председателем, но и главой МВД, он предложил членам правительства уже 4 марта встречаться в здании министерства внутренних дел, в зале совета. Там же прошли заседания 5 и 6 марта. Керенский вспоминал собрания кабинета в МВД: «Именно там, в мирной тиши величественных залов, украшенных портретами прежних властителей, государственных деятелей и министров реакционной России, каждый из нас, возможно, впервые понял, какие преобразования происходят в стране. Нас было одиннадцать. К каждому царское Министерство внутренних дел относилось с враждебностью. Теперь мы держали в руках верховную власть над огромной империей, которая нам досталась в тяжелейший военный момент, после катаклизма, потрясшего до основания старый механизм управления»[146]. Мысль о том, что они что-то держали в руках, была преувеличением.
С вечера 7 марта – и до середины июля, когда Керенский решит его перебазировать в Зимний дворец? – Временное правительство заседало в Мариинском дворце, напротив Исаакиевского собора, как до этого правительство Российской империи. Но по сравнению с прежними временами Мариинский дворец разительно изменил свой облик. «В его роскошные залы хлынули толпы лохматых, небрежно одетых людей, в пиджаках и косоворотках самого пролетарского вида. Великолепные лакеи, сменив ливреи на серые тужурки, потеряли всю свою представительность. Прежнее торжественное священнодействие заменилось крикливой суетой»[147].
«В первые недели заседания назначались два раза в день – в четыре часа и в девять часов, – рассказывал Набоков. – Фактически дневное заседание начиналось (как и вечернее) с огромным запозданием и продолжалось до восьмого часа». Уже на дневные заседания министры приходили утомленные работой в своих министерствах, «в полусне выслушивали очередные доклады, не зная заранее их содержания», – добавлял Милюков. Нередко заседания начинались при минимальном кворуме, хорошей посещаемостью отличались только князь Львов, Мануйлов и Годнев. «Вечернее заседание заканчивалось всегда глубокой ночью… Не сразу удалось добиться установления определенной повестки и того, чтобы дела, подлежащие докладу, сообщались заранее управляющему делами». Первые заседания «велись очень хаотично»[148].
Организованность пытался придавать Набоков, который сам был человеком достаточно организованным и волевым. Сын министра юстиции при Александре II и отец будущего великого писателя – вырос в придворной среде, был образцом человека света и считался красивым удачником и баловнем судьбы. «По Таврическому дворцу он скользил танцующей походкой, как прежде по бальным залам, где не раз искусно дирижировал котильоном, – вспоминала Тыркова-Вильямс. – Но все эти мелькающие подробности своей блестящей жизни он рано перерос… Говорил он свободно и уверенно, как и выглядел. Человек очень умный, он умел смягчать свое умственное превосходство улыбкой, то приветливой, а то и насмешливой»[149]. Бенуа знал его как большого поклонника и виртуоза бокса; «недаром он ежедневно предается упражнениям в этом искусстве вместе с сыновьями. Поразительная выдержка, спокойствие, находчивость, планомерность и прямо красота»[150].
Стенограмм заседаний Временного правительства не велось. Журналы заседаний содержат лишь повестку дня и пунктирную канву событий, решения. Эту форму предложил Набоков 9 марта, и она оставалась неизменной. Журналы затем набирались в типографии и поступали на подпись, а также для ознакомления к следующему заседанию[151].
Главком Черноморского флота адмирал Александр Васильевич Колчак, бывая в Петрограде, вынес убеждение, что «это правительство состоит из людей искренних и честных, желающих принести возможную помощь родине. Никого из них я не мог заподозрить, чтобы они преследовали личные или корыстные цели. Они искренно хотели спасти положение, но опирались при этом на очень шаткую почву – на какое-то нравственное воздействие на массы, народ, войска. Для меня было также совершенно ясно, что это правительство совершенно бессильно»[152].
Слабый либеральный кабинет был связан необходимостью реализовывать социалистическую программу и мог пользоваться властью лишь с молчаливого согласия энергичных советских лидеров, дожидаясь Учредительного собрания, выборы в которое даже не были назначены. Это была идеальная мишень для радикальной оппозиции.
Французский посол Морис Палеолог – человек весьма проницательный – 4 марта написал в своем дневнике: «Ни один из людей, стоящих в настоящее время у власти, не обладает ни политическим кругозором, ни решительностью, ни бесстрашием и смелостью, которых требует столь ужасное положение… Именно в Совете надо искать людей инициативы, энергичных и смелых. Разнообразные фракции социалистов-революционеров и партии социал-демократии: народники, трудовики, террористы, большевики, меньшевики, пораженцы и пр. не испытывают недостатка в людях, доказавших свою решительность и смелость в заговорах, в ссылке, в изгнании… Вот настоящие герои начинающейся драмы!»[153]
Что же это были за герои?
Совет социалистической мечты
Петроградский Совет не был местом для дискуссии. Он был местом для митинга. Утонченный Бенуа, прорвавшийся в Таврический дворец 5 марта, был шокирован: «В перистиле перед ротондой снова караул и еще по караулу у дверей в боковые камеры. Густой смрад и туман от пыли и испарений стоит в ротонде, где биваком, прямо на полу, расположился значительный отряд солдат. Ротонда, видимо, служит антикамерой знаменитого Совета рабочих депутатов. В перистиле сутолока невообразимая, солдаты, чиновники, сестры милосердия, мужички в тулупах, горничные с подносами чая, телефонистки и переписчицы, офицеры, журналисты – все это снует в разных направлениях или топчется на месте. Впечатление вокзала на какой-либо узловой станции»[154]. Полагаю, собравшиеся в Совете не знали и половины слов, которые употреблял художник.
Сам формат Совета, по замыслу его руководителей, не предполагал обсуждения вопросов. Федор Степун стал депутатом Совета от Юго-Западного фронта и вспоминал: «Черно-серая, рабоче-солдатская масса шумит, волнуется и столпотворит в моей памяти не среди стен, не под крышей, а в каком-то бесстенном пространстве, непосредственно сливаясь с непрерывно митингующими толпами петроградских улиц. В этих туманных, призрачных просторах перед моими глазами плывет покрытый красным сукном стол президиума и неподалеку от него обитая чем-то красным кафедра. С этой кафедры, в клубящихся испарениях своих непомерных страстей и иступлений, сменяя один другого, ночи и дни напролет говорят, кричат и чрезмерно жестикулируют давно охрипшие ораторы. Жара, как в бане, духота, нагота: во всех речах оголенные лозунги, оголенные страсти»[155].
В Совете рабочих и солдатских депутатов собственно «рабочие и солдаты почти не появлялись на его трибуне, – замечал меньшевик Владимир Савельевич Войтинский. – На лучший конец, на его заседаниях от лица рабочих говорили политики-профессионалы, вышедшие из рабочей среды, а от лица солдат – помощники присяжных поверенных, призванные в армию по мобилизации и до революции служившие отечеству в писарских командах. Подлинные рабочие и солдаты были в Совете слушателями… Задачей лидеров было не выявить волю собрания, а подчинить собрание своей воле, «проведя» через Совет определенные, заранее выработанные решения»[156].
Советом руководил узкий круг лиц из числа лидеров меньшевиков и эсеров, представлявших команду мечты российского социализма, который в те дни обозначался понятием «демократия».
Керенский формально по-прежнему входил в президиум Исполкома Петросовета, но мало кто его там видел. Лидер меньшевиков Церетели утверждал: «Идейно он был близок не к социалистической среде, а к той демократической интеллигенции, которая держалась на грани между социалистической и чисто буржуазной демократией… Он хотел быть надпартийной, общенациональной фигурой… В исполнительном комитете его не считали вполне своим. Он любил эффектные жесты, показывающие его независимость от организации, к которой он номинально принадлежал»[157].
В повседневной деятельности Исполкома Петросовета в первые недели после Февраля ведущую роль играли почти исключительно меньшевики или полуменьшевики: Чхеидзе, Скобелев, Суханов, Стеклов, Гвоздев, Либер, Соколов.
Исполком возглавлял Чхеидзе, о котором восторженный отзыв оставил Чернов: «С ним росло ощущение прочности и политической ясности. И еще оставалось впечатление – благородной простоты, бывшей отсветом большого и подлинного внутреннего благородства. Стоя во главе Совета, Чхеидзе мог, если бы хотел, стать в центре Временного правительства революции: реальная власть была в руках Совета… Быть может, властебоязнь была тогда недостатком… Николай Семенович с виду был порой хмур и суров. Но из-под его густо насупленных бровей часто сверкала вспышечка-молния добродушной – нет это не то слово, не «добродушной», а доброй и душевной улыбки. А иногда оттуда выглядывал и лукавый бесенок иронии»[158]. Станкевич, давший характеристики всему ареопагу советских лидеров, тоже отмечал, что Чхеидзе не был лидером революционного типа: «Незаменимый, энергичный, находчивый и остроумный председатель, но именно только председатель, а не руководитель Совета и Комитета: он лишь оформлял случайный материал, но не давал содержания. Впрочем, он был нездоров и потрясен горем – смертью сына. Я часто улавливал, как он сидел на заседании, устремив с застывшим напряжением глаза вперед, ничего не видя, не слыша».
Заместителем Чхеидзе был Скобелев, «всегда оживленный, бодрый, словно притворявшийся серьезным. Но Скобелева редко можно было видеть в Комитете, так как ему приходилось очень часто разъезжать для тушения слишком разгоревшейся революции в Кронштадте, Свеаборге, Выборге, Ревеле»[159].
Суханов (Гиммер) был сыном обедневшего дворянина и акушерки, его семейная драма вдохновила Льва Толстого написать «Живой труп». Покинутый родителями, Суханов воспитывался у дальних родственников. Окончив гимназию, отправился в Париж – учиться в Русской высшей школе общественных наук, а затем стал студентом историко-филологического факультета Московского университета. За принадлежность в эсеровской организации провел полтора года в Таганке, вышел в разгар революционных боев 1905 года, после которых скрывался в Швейцарии. В 1909 вернулся в Московский университет, но вскоре загремел на три года в ссылку в Архангельскую губернию. Его политические взгляды были нелегко определить. В годы войны Суханов принадлежал к внефракционным социал-демократам, но, по его собственным словам, «был связан в силу личных знакомств и деловых сношений, со многими, можно сказать со всеми социалистическими партиями и организациями Петербурга»[160]. Видный меньшевик Борис Иванович Николаевский считал, что Суханов «с меньшевизмом имел мало общего. До революции он вообще был социал-революционером, правда, занимая в их рядах весьма своеобразную позицию (его тогда называли «марксистообразным народником»)»[161]. Исключительно плодовитый публицист, он редактировал горьковский журнал «Современник» (ставший «Летописью») входил в литературную ложу Великого Востока народов России[162].
Ленин достаточно высоко оценивал Суханова, считая, что «это не худший, а один из лучших представителей мелкобуржуазной демократии»[163]. Но в Совете Суханов, «старавшийся руководить идейной стороной работ Комитета, но не умевший проводить свои стремления через суетливую и неряшливую технику собраний и заседаний», как-то терялся[164].
Одессит Борис Осипович Богданов, сын лесоторговца и выпускник Коммерческого училища, впервые был арестован за революционную деятельность в 1907 году. Он участвовал в создании легальных рабочих организаций, призывая пролетариат порвать «с бездельем подполья» и входить «в полосу действительно открытой общественной и политической деятельности»[165]. В годы войны был секретарем Рабочей группы при возглавлявшемся Гучковым ЦВПК. «Богданов, полная противоположность Суханову, сравнительно легкомысленно относившийся к большим принципиальным вопросам, но зато бодро барахтавшийся в груде деловой работы и организационных вопросов и терпеливее всех высиживавший на всех заседаниях солдатской секции Совета»[166]. Чхеидзе называл Богданова «рабочим волом Совета»[167].
Еще один выходец из зажиточной одесской семьи Стеклов (Овший Моисеевич Нахамкис) стал социал-демократом, едва его выгнали из гимназии, еще в 1893 году. Вскоре был сослан на десять лет в Якутскую область, откуда он сбежал за границу. Примкнул к большевикам, в 1905 году вернулся, был арестован на последнем – разогнанном – заседании Петербургского Совета рабочих депутатов. Затем опять за границей, где активно публиковался во всех большевистских печатных изданиях. Потом опять в России, где работал в секретариате социал-демократической фракции Госдумы. Потом опять за границей, преподавал в ленинской партийной школе в Лонжюмо. В годы войны Стеклов опять в России, где наконец получил высшее образование, в Киевском и Петербургском университетах. Формально он числился в рядах меньшевиков, но те его своим не считали, скорее, большевиком. Станкевичу в Совете Стеклов запомнился как человек, «изумлявший работоспособностью, умением пересиживать всех на заседаниях и, кроме того, редактировать советские «Известия» и упорно гнувший крайне левую, непримиримую или, вернее сказать, трусливо-революционную линию»[168]. Начальник контрразведки Петроградского военного округа Борис Владимирович Никитин задерживал Стеклова в июле 1917 года: «Нахамкес брюнет, громадного роста, выше меня, широкоплечий, грузный, с большими бакенбардами. Делаю несколько шагов в его сторону и сразу же начинаю жалеть, что двинулся с места: по мере того как я приближаюсь к нему, у меня все больше и больше начинает слагаться убеждение, что он никогда в жизни не брал ванны, а при дальнейшем приближении это убеждение переходит в полную уверенность»[169].
Гвоздев был выходцем из крестьянской семьи, работал в Тихорецких железнодорожных мастерских. Сначала примыкал к эсерам, его неоднократно арестовывали и ссылали. Затем стал одним из лидеров легального пролетарского движения, возглавил Союз металлистов, а в 1915 году возглавил рабочую группу гучковского ЦВПК. «Самородок-пролетарий, он возглавлял правое оборончество, социал-реформизм и оппортунизм в практике рабочего движения военно-революционной эпохи, – писал Суханов. – Это течение не имело никакого кредита»[170]. Движение оборончески настроенных рабочих клеймилось настоящими революционерами-интернационалистами как «гвоздёвщина». В Петросовете Гвоздев выделялся «рассудительной практичностью и государственной хозяйственностью своих выводов» и потому негодовал, что жизнь идет так «нерасчетливо-сумбурно», а «его товарищи рабочие стали так недальновидно проматывать богатства страны».
Яркой фигурой Совета был Михаил Исаакович Либер (Гольдман). Сын еврейского поэта, он закончил в Вильне 7 классов гимназии, после чего зарабатывал репетиторством. В юные годы влился в ряды литовской социал-демократии, выступил одним из основателей Бунда, был членом его ЦК. Он стал и видной фигурой в РСДРП, был непременным участником ее съездов. Жизнь Либера проходила между ссылками, откуда он регулярно бежал, заграничными вояжами, откуда он нелегально возвращался в Россию. Либер проявил себя как последовательный оборонец и в партии меньшевиков занял место на ее самом правом фланге. В Совете он – «яркий, неотразимый аргументатор, направлявший острие своей речи неизменно налево»[171]. У Степуна он «гномообразный, желтолицый Либер с ассирийской бородой»[172].
Секретарем Исполкома Петросовета был известный журналист и адвокат Николай Дмитриевич Соколов. Отец Соколова был не просто протоиереем, он был придворным священнослужителем и духовником царской семьи. Но еще в 1896 году Соколов был арестован и выслан по делу «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Он стал известен как адвокат на громких процессах революционеров. Соколов был членом Верховного совета Великого востока народов России. По политическим взглядам, считал Николаевский, он был ближе к большевикам: «До революции числился «нефракционным большевиком» и действительно оказывал им посильную поддержку. В месяцы Февральской революции, правда, он шел вместе с тогдашним «советским большинством», но и в то же время он никогда не входил в меньшевистскую партию»[173]. Гиппиус писала о Соколове, что это «вечно здоровый, никаких звезд не хватающий, твердокаменный попович, присяжный поверенный»[174]. Состав Совета и его руководящих органов постоянно пополнялся за счет съезжавшихся в Петроград революционеров. Ряды меньшевиков вскоре пополнили Церетели, Дан, Войтинский и, наконец, Мартов.
Федор Ильич Дан (Гурвич), которому суждено было сыграть большую роль в руководстве Совета, особенно в октябрьские дни, происходил из семьи аптекаря, да и сам был врачом, получив образование на медфаке Юрьевского (Дерптского) университета. Был одним из руководителей «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», возил в Россию «Искру». После ареста и ссылки бежал за границу, где примкнул к меньшевикам, стал членом ЦК РСДРП. В I и II Думах был одним из лидеров социал-демократической фракции. В IV Думе Дан руководил меньшевистской фракцией, но в начале войны был арестован и выслан в Сибирь. Вернулся он в конце марта и занял позицию «революционного оборончества».
«Дан, воплощенная догма меньшевизма, всегда принципиальный и поэтому никогда не сомневавшийся, не колебавшийся, не восторгавшийся и не ужасавшийся – ведь все идет по закону, – всегда с запасом бесконечного количества гладких законченных фраз, которые одинаково укладывались и в устной речи, и в резолюциях, и в статьях, в которых есть все, что угодно, кроме действия и воли. Все делает история – для человека нет места»[175], – писал Станкевич. Троцкий считал, что Дан – «наиболее опытный, но и наиболее бесплодный из вождей болота»[176].
По всеобщим отзывам, самой яркой фигурой Совета был 35-летний Церетели. «Из правоверного марксиста и прирожденного миротворца вышел замечательный специалист по межпартийной технике, неистощимый изобретатель словесных формул, выводивших его героя и его партию из самых невозможных положений»[177], – писал Милюков. Сын писателя из оскудевшего дворянского рода Церетели учился на юрфаке Московского университета, где руководил студенческими землячествами, отбыл ссылку в Иркутске, доучивался в Берлине. В 25 лет он был избран во II Думу, где стал лидером фракции РСДРП. Церетели был одним из тех депутатов, с которых их коллеги не захотели снять депутатскую неприкосновенность за их подрывную деятельность, за что II Дума и была распущена. Он отправился в 10-летнюю сибирскую ссылку в ореоле мученика, откуда вернулся в хорошей политической форме. Станкевич писал: «И. Г. Церетели, полный страстного горения, но всегда ровный, изящно-сдержанный и спокойный идеолог, руководитель и организатор Комитета, отдававший напряженной работе остатки надорванного здоровья»[178].
Церетели был наиболее ненавидимым Лениным советским персонажем. «Типичнейший представитель тупого, запуганного филистерства, Церетели всех «добросовестнее» попался на удочку буржуазной травли, всех усерднее «громил и усмирял» Кронштадт, не понимая своей роли лакея контрреволюционной буржуазии. Именно он как один из виднейших вождей Совета способствовал проституированию этого учреждения, низведению его до жалкой роли какого-то либерального собрания, оставляющего в наследство миру архив образцово бессильных добреньких пожеланий»[179].