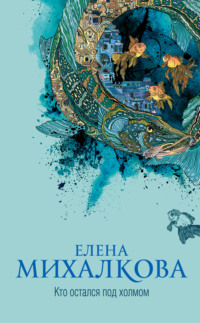
Кто остался под холмом
С чумазого личика на Бабкина уставились раскосые глаза.
– Отцепи свою дурацкую руку!
– Ты кто такая и зачем подслушивала? – Сергей тепло относился к детям, но для тех, которые пытались, пусть даже невольно, искалечить его напарника, делал исключение.
– Я! Кому! Сказала! Убери!
В воздухе замолотили расцарапанные грязные ноги.
– Бесполезно, – подал голос Макар. – Он в прошлой жизни был капканом на мамонтов.
Несколько секунд пленница переваривала новую информацию.
– Ну! – потребовал Сергей. – Как тебя зовут?
Девчонка, похоже, смирилась.
– Лиза, – недовольно сказала она.
– Не ври, – фыркнул Макар.
– Даша!
– Еще смешнее.
– Настя!
– Кто-то на досуге читал перечень самых популярных имен. Или просто вспоминает своих одноклассниц, начиная с первой парты.
Она притихла.
– Ладно. Извините. На самом деле меня Кирой зовут.
– Кирой, – скучающим голосом сообщил Макар, – зовут твою директрису, которая сейчас наблюдает за нами из окна – без малейшей, заметь, попытки вмешаться, что многое сообщает нам о твоем характере.
Судя по изумлению, отразившемуся во взгляде девчонки, ей раньше не приходилось встречаться с подобным противником.
– Аня, – осторожно проговорила она.
Илюшин немного подумал и сморщил нос.
– Вряд ли. Сестру твою так зовут или тетку… Может, мать. Но не тебя.
– Сдалось вам мое имя!
– Естественно, сдалось, – удивился Макар. – Иначе тратили бы мы на тебя столько времени!
– Марта я! – рассерженно выкрикнула она.
– Да, – сказал Илюшин, помолчав. – Пожалуй, что так. Я – Макар, это – Сергей.
Бабкин разжал пальцы. Девчонка одернула куртку и торопливо расстегнула пуговицы.
– А теперь, Марта, объясни… – начал он.
С быстротой кузнечика девчонка отскочила к дороге, схватила ком земли и швырнула в Сергея. Тот уклонился, и двести граммов мокрой дорожной пыли достались Илюшину.
– Ты! – крикнула Марта, на ходу изобретая ужасное оскорбление. – Ты! Глыба с жопой!
Бабкин сделал шаг, и девчонку как ветром сдуло.
– Вот бесявка!
Он обернулся к Илюшину, удивленно покачивая головой, и обнаружил, что тот смотрит на него зачарованно.
– Ты чего, Макар?
– Глыба с жопой, – прошептал Илюшин с восторгом человека, только что откинувшего крышку сундука с драгоценностями.
– Даже не думай, – предупредил Бабкин.
– До чего образное сравнение…
– Макар!
– А ведь если посмотреть правде в глаза… особенно если зайти, так сказать, с тыла…
В следующую секунду он увернулся, и еще пять минут ему пришлось уворачиваться, пока он не рухнул в изнеможении на траву.
– Ну, Серега, ты и лось…
– Лосем можешь звать, – разрешил Бабкин. – А теперь слушай сюда: есть рабочая версия. Я почти убежден, что она верна.
7Они опросили еще двенадцать человек. Илюшин беззастенчиво сослался на Гурьянову, пока слава не успела его опередить, и к ним отнеслись с доверием.
– Чувствую себя как сын лейтенанта Шмидта, – ворчал Бабкин, пока они шли по дороге.
– Его не побили – и нас не побьют, – успокоил Макар.
– А если перед нами закроются двери лучших домов Парижа?
– Войдем с черного хода.
Каждый новый свидетель, сам того не зная, выдергивал из канвы рассказа Германа ниточку за ниточкой, пока она не рассыпалась окончательно.
Фотограф солгал. Здесь, где почти вся жизнь протекала на виду, невозможно было утаить ни ссор, ни размолвок. Герман даже голоса на Володьку не повышал, говорили люди. То же самое Бабкин с Илюшиным услышали от тех, кто фотографа недолюбливал. В их глазах шлейф грехов тянулся за Германом, и главный из них был – непомерные цены. «Нынче каждый щелкнул на телефон свою рожу – и купидон, а с меня пятьсот рублей содрал!» – ярился низкорослый мужчина, имевший с купидоном ту же степень сходства, что оперенная стрела с туалетным ершиком. Однако и он не смог упрекнуть фотографа в плохом отношении к Карнаухову. «Кто лаялся? Они лаялись? Брехня! Черных – тряпка. Не слыхал, чтобы он на кого огрызнулся».
Все в один голос твердили, что Карнаухов любил Беловодье и хотел остаться.
– Я вижу так, – сказал Бабкин, когда они остались одни. – Пацан собирался свалить от Германа. Тот узнал об этом и слетел с катушек. Пятнадцатого или шестнадцатого июля Карнаухов пропадает, в это время Герман, по его словам, находился в Кургане у больного друга. Уехал он туда… – Бабкин сверился с записями. – Десятого числа. Значит – что? Все спланировал, купил билеты, спрятался, выждал. Убил племянника. Тело спрятал, деньги забрал. Шанс найти останки, если оценивать ситуацию трезво… не ничтожный, но небольшой, разве что Герман сам укажет точное место. Помнишь, он замялся, когда мы спросили его о причине исчезновения?
Илюшин молча кивнул.
– Ничего не подтверждает версию об отъезде, – продолжал Сергей. – Одни ползают по лесам в поисках тела, другие убеждены, что бедняга утонул, и только Герман заявляет, что парень решил покорять Москву. Странно, что директриса ему подпевает… У них связь?
– Скорее всего.
– Какие еще могут быть варианты?
– Допустим, помогала убивать. Или подсмотрела, как все произошло, и с тех пор вытягивает из Германа деньги. Хотя мне трудно представить эту женщину в роли мелкой шантажистки, знавшей об убийстве.
– Ну, я-то ее не видел, – пожал плечами Сергей.
– Что скажешь о мотиве?
– Или деньги, или они были любовниками.
Бабкин видел, как в парах такого рода, вынужденных скрываться годами, раздражение накапливается исподволь, пока нарыв не прорвется; нет ничего удивительного, если, узнав о разрыве, Герман решил убить юношу.
Он пролистал блокнот.
– Друга зовут Наум Рудинский. Спасибо Герману, мог выбрать в приятели и Сашу Попова.
– Отправляйся в Курган, – сказал Илюшин. – Попробуй проверить алиби. Двенадцать лет… Мало кто обладает достаточно цепкой памятью, чтобы хранить в голове даты настолько давних событий. Если Рудинский не сможет рассказать ничего внятного, боюсь, придется сворачивать расследование.
– А ты чем займешься? – Бабкин открыл сайт железных дорог.
– Пока не решил.
Что-то в голосе напарника заставило Сергея отвлечься от расписания поездов.
– Макар?
Илюшин молчал.
– Макар!
– Меня не оставляет ощущение, будто мы сидим перед расшитым занавесом в полной уверенности, что это и есть представление, – неохотно сказал Илюшин.
– Во всех небольших городах существует тщательно скрываемая жизнь…
– Здесь что-то другое.
Он не стал говорить, что у него плохое предчувствие. Вопреки видимым порядкам, багаж всегда остается тому, кто стоит на перроне, а уезжающий должен путешествовать налегке.
Глава 4
1Семьдесят пять лет.
Допустим, так: кримпленовый костюм на бракосочетание внучки, варенье из крыжовника, толстая бывше-бездомная кошка Марыся, конфетная вазочка, в которой не переводятся мармеладные дольки.
Или так: привычная вонь фенола, бахилы, забытые медсестрой, незастеленная кровать. «Катя, подай воды…» – «Бабушка, я Дина».
Или так: сердечный приступ. Коротко и ясно. Не имеет значения, что было до него – кримплен или бахилы.
Шестеренки в голове Никиты Мусина, обильно смазанные ненавистью и страхом, проворачивались все быстрее.
Где и как?
С первым ясно: в ее доме. Двухэтажная деревянная развалина, шишигинский ковчег, в который старуха пустила единственную тварь, далеко не божью: громадного черного кота, хтоническое чудовище, выгнанное из ада. Левый бок у кота был располосован, словно по нему провезли граблями, правая сторона – для симметрии – пугала слепым провалом на месте глаза; оставшийся был прищурен, как у Шишигиной. Старуха и кот были похожи, как счастливые супруги, долго прожившие вместе. По ночам зверь гнусаво орал, вызывая дьявола, и, кажется, чертил хвостом пентаграмму в лотке. Вера Павловна звала его Дусей.
Далее: способ. Огонь не годится. Значит, смерть от естественных причин.
Никита бывал в старухином доме вместе с отцом, который то ли что-то одалживал у Шишиги, то ли спрашивал совета: на удивление многих из бывших учеников не отпугнул ее скверный характер. Ему запомнилась крутая лестница, ведущая на второй этаж, а под ней – неосвещенный угол, забитый барахлом.
Спрятаться.
Дождаться.
Ухватить ее лодыжку и дернуть.
Смотрите, уважаемые зрители, и не говорите, что вы не видели!
Вот она ковыляет вниз со второго этажа. Китайские тапочки скользят по ступенькам, отполированным бесчисленными спусками и подъемами, и тяжеловесная Шишига обрушивается, как низвергнутый идол.
Старухи такие хрупкие!
Тот, кто решил бы, что Никита Мусин задумал убийство, был бы не прав. Никита лишь хотел, чтобы из механизма реальности, который неожиданно оказался ему подвластен, изъяли сорванную гайку, потенциальную виновницу неисправимой поломки. Поступки с последствиями переплетались замысловатым образом: Шишигина оскорбила его – и потому упала с лестницы. Он дернул ее за ногу – и потому его звезда взошла над Беловодьем.
Он был ремонтником, если хотите. Наладчиком реальности.
Никакого убийства.
…Ему не пришлось карабкаться через боковое окно, довольно высоко расположенное для первого этажа и к тому же защищенное колючим боярышником. Задняя дверь оказалась приоткрыта и заложена бруском – неожиданный подарок, дружеское подмигивание фортуны.
Никита беззвучно вошел, прокрался через длинную комнату. Сквозь задернутые шторы солнечный свет просачивался тонкими струйками. Угол под лестницей напоминал свалку, утрамбованную в пространство объемом два кубометра. Он втиснулся между двумя коробками, постоял, дыша пылью…
Страха не было. Было волнение, как перед контрольной. Сдаст – не сдаст? Мысль о том, что старуха после падения останется жива, отчего-то совершенно не беспокоила, как будто и на этот случай существовал план, до некоторого момента скрытый даже от него.
Шишига ходила наверху. Слышимость была отменная, и когда старуха села на кровать, тягуче заскрипело над ухом, словно дерево качнулось в лесу.
Никита высунулся из своего угла, потянулся вверх, схватил воображаемую лодыжку и рванул на себя – точно пловец, выныривающий из воды за мячом.
Он настроился на долгое ожидание, но вскоре на втором этаже закряхтели – не понять было, человек или вещь издает такие звуки, и от этого Мусин вдруг ужасно обрадовался: да ведь она сама уже почти предмет, ветхий гардеробный шкаф, в котором обитают лишь моль и короеды. Он уронит шкаф! Никита зажал себе рот ладонью, чтобы не хихикнуть.
Идет! Он подобрался, считая ее шаги. Ступенек всего двадцать, на середине он ее сдернет.
Шесть.
Пять.
Четыре.
Три.
Никита приготовился.
Два.
Один.
– Вера, ты здесь?
Мусин присел так резко, что прикусил язык.
– Вера!
– Не дери глотку, Илья, я тебя слышу…
Одна, две, три, четыре, пять ступенек, чьи голоса звучали теперь не прелюдией к ее смерти, а издевкой над Мусиным, скрючившимся в углу: Шишигина шла навстречу гостю. Никита не видел его, только чувствовал новый запах – животный, грубый.
– Ну, что стряслось?
– Он ногу распорол, – хмуро сказал гость. – Наступил на что-то, не знаю… Перловица вроде.
– Перловица?
– Ракушка такая. – Гость поставил ударение на первую «а».
– Он появлялся на берегу? – В голосе старухи прозвучало изумление, смешанное с ужасом.
– Я в Ткачиху ушел за продуктами, ему скучно стало. Пошел к воде. Он лес хорошо знает, не боится.
– Так привязывай его, черт побери! – повысила голос Шишигина. – Ты соображаешь, что будет, если он попадется кому-нибудь на глаза?
Молчание.
– Сыворотка от столбняка нужна, – хмуро сказал гость.
– Дьявол вас всех раздери… – Старуха опустилась на стул. – Где я тебе возьму сыворотку?
– Не к медсестре же мне его везти.
– Да уж… Ладно, возвращайся. Я что-нибудь придумаю.
– Когда?
Гость спрашивал настойчиво, даже грубо. Мусин ожидал, что старуха его выгонит, но та и сама была встревожена.
– Завтра, в крайнем случае. Постараюсь сегодня.
– Постарайся, Вера Павловна…
Они помолчали.
– У нее все хорошо? – Никите показалось, что мужчина выдавил это через силу.
– Иди уж, Илюша, – мягко попросила старуха. – Все в порядке. Случись что, я бы тебе рассказала.
Прозвучали тяжелые шаги, и все стихло.
Шишигина ушла в другую комнату, кому-то звонила и договаривалась о встрече. Никита мог бы уйти незамеченным, но теперь, когда он уловил самый манящий аромат на свете – аромат чужой тайны, – он не выбрался бы из своего угла даже под угрозой разоблачения. Где тайна, там власть. Держать Шишигину на ниточке, заставить ее покаяться на глазах всего города… Он вообразил эту картину и зажмурился. В миллион раз лучше ее смерти!
Уверенные шаги на дорожке, негромкий стук в дверь – тот, кто явился следом за первым гостем, предпочитал парадный вход и не боялся быть замеченным.
– Входите!
– Добрый день, Вера Павловна.
Этот голос Мусин не спутал бы ни с каким другим.
Собственно, не было ничего удивительного в том, что бывшая директриса и нынешняя общаются и ходят друг к другу в гости. Дружат – дерзкое слово. Вряд ли вообще кто-то в целом городе способен – читай, достоин – дружить с Шишигиной. Но если старая ведьма и выделяла кого-то из всех горожан, то Гурьянову.
– Кира, идите сюда, – позвала Шишигина из кухни.
Это Никиту совсем не устраивало. Голос у Киры Михайловны четкий, но негромкий; он не услышит и половины разговора. Бранясь про себя, он выбрался из-за коробок, чувствуя себя бабочкой, расправляющей смятые крылья после тесного кокона и резонно опасающейся стать обедом для зоркой птицы.
– Поранил ногу? – переспросила Гурьянова.
– Ступню порезал ракушкой. Илья залил рану йодом, но этого недостаточно. По телефону я побоялась сказать…
Обе женщины вдруг заговорили шепотом.
– …эти убийства… – донеслось до Никиты.
Он дернул ногой и едва не уронил прислоненную к стене картину.
– Я возьму сыворотку у медсестры, укол сделаю сама. – Гурьянова вернулась к теме разговора. – Попрошу Воркушу сегодня же перевезти меня…
– А как объясните?
– М-м-м… Кто-нибудь заболел в деревне, хочу встретиться…
– Кира, не годится.
– Да, вы правы. Собственно, Воркуша мне не нужен, я и сама переправлюсь. Придумать бы только какую-то версию, если заметят и спросят… Ничего в голову не приходит, как назло. Но с этим не должно возникнуть проблем.
Мусин понял, что имеет в виду Гурьянова.
Первое, что сделала нынешняя директриса, приехав в Беловодье, – купила небольшую лодку с мотором. Тогда она была еще никакой не директрисой, а никому не известной учительницей, о которой если и судачили, то в единственном аспекте: какого черта столичная дамочка забыла в их захолустье. Однако Гурьянова была из той редкой породы людей, которые ухитряются сочетать в себе доброжелательность с замкнутостью. Тех, кто наседал на нее слишком напористо, она не осаживала, но в какой-то момент переставала отвечать на вопросы. Стояла, улыбалась, молчала. Неприязни и демонстративности в этом было не больше, чем в цветении пиона. Казалось, Гурьянова ненадолго вынырнула из своего естественного безмолвия, а теперь вернулась обратно.
Все это вместе производило неожиданно сильное впечатление.
– Хорошо, предположим, все получится. А с медсестрой? Кира Михайловна!
– Что? Да, медсестра… Я договорюсь. Придумаю про кого-нибудь из наших мальчиков – упал, поранился, боится показаться врачу…
– Только не про Гнусина, – хмыкнула старуха.
– Начинается!
– Слышали, что придумал этот сопляк?
– Мне говорили, что у вас с ним вышло недоразумение.
– Если макание мордой в его собственное дерьмо можно назвать недоразумением, – весело отозвалась Шишига.
Никита мысленно сжал тощую чешуйчатую шею старухи, подставил блюдечко под разинутую пасть и наблюдал, как с ее клыков сочится яд.
– Вы, Вера Павловна, как ребенок, – с досадой сказала Гурьянова. – Зачем понадобилось травить мальчика?
– Ненавижу детей!
– Не выдумывайте.
– Святая правда! Наконец-то могу себе это позволить.
– Вы не можете себе позволить этого не скрывать.
– Бросьте! Что они, негры? Это черномазых законом не любить запрещено. Хотя, будь моя воля, я бы тут организовала хлопковые плантации…
– Вера Павловна!
– Вы полагаете, он скромник с прибабахом. – Шишигина наклонилась к Гурьяновой. – А он умненький мерзавец! Червяк, но червяк острозубый, к тому же с присоской. Прозвище характеризует его удивительно точно. Поверьте мне, Кира Михайловна! Я видела множество детей. Дрянные попадаются среди них чаще, чем принято думать, но знаете что? – они исправляются с возрастом. Посмотрите на Бялик…
– Вы сначала поймайте Бялик, чтобы на нее посмотреть, – перебила Гурьянова. Сказано было с недовольством, но обе почему-то рассмеялись.
– Мне другое любопытно. Отчего все ухватились за этого Мусина, как за волшебную палочку?
– Кажется, я понимаю, – задумчиво сказала Гурьянова. – Все наши авторитеты – земные, обычные. И священник – простой человек. Из него лепили идола, но не срослось. Людям ведь нужно, в сущности, одно: чтобы Бог на них посмотрел. Вот они и цепляются за крыло ангела, хотят на нем подняться в небеса, как на лифте. А назначают ангелами всяких проходимцев, потому что нормальный человек, если обозвать его ангелом, шарахнется и убежит.
Старуха хмыкнула.
– Усложняете! Дуры они, и нечего тут разводить психологию. Если в голове не живут свои мысли, там будут жить чужие.
– Может, и так…
– Все талдычат: голубоглазый, голубоглазый! А у него глазки узкие, припухшие и цвета дорожной пыли. Восторженные идиотки заразны, милая моя. Помяните мое слово: месяц-полтора – и его назначат новым чудотворцем. Я не против, только сперва пусть пройдет через мытарства…
– Вера Павловна, я вас прошу, ну не ссорьтесь вы с тринадцатилетним мальчишкой.
– Хе-хе! Не самое плохое развлечение, доложу я вам! И смешно, и стыдно, но, знаете, успокаивает.
– Телевизор посмотрите, – посоветовала Гурьянова.
– Тьфу! Там одни симулякры. А тут – ух! Упырь своего разлива. Вызрел, миленький, как огурчик в теплице. Удивительные личности у нас рождаются раз в десять лет…
Старуха осеклась, будто внезапно лишилась языка. Молчание длилось и длилось, и Мусин, не удержавшись, выглянул из-за двери.
Две женщины смотрели друг на друга, и на лицах у них был страх.
2Ошибкой было возвращаться домой раньше десяти, но Марта ужасно проголодалась, а из кухни соблазнительно тянуло вареной картошкой. Задним умом она сообразила, что бабка, должно быть, нарочно поставила кастрюлю поближе к окну: приманила ее, как бродячую кошку. А потом цап – и Марта уже болтается в могучей ручище.
– Где тебя носило?
– Я скажу! Честное слово, скажу!
– Не вздумай мне соврать!
– Я шла через лес, – дрожащим голосом начала Марта, – а потом что-то загудело и сосны зашатались. Помнишь, у меня зуб шатался?
– Чего?
– Деревья начали падать! Словно колосья. И серебряный круг в небе! Похож на дно от ведра, только огромный, как стадион! В нем открылось окошечко, а оттуда – луч! Ударил в меня, я упала, и стало темно… А потом, когда проснулась, все белое, как у стоматолога… Помнишь, мы с тобой ездили драть зуб? Вокруг сидят трое и спрашивают: полетишь с нами на Марс? Нам нужны красивые умные девочки. И щупальцами шевелят. А я им такая: да вы что, с бабушкой лучше!
Лицо бабки, и без того не отличавшееся богатством мимики, окаменело.
– Брехло поганое! – Она встряхнула Марту так, что та едва не вывалилась из футболки. – Почему старшим врешь?
Марта мысленно пожала плечами. А что еще с вами делать?
– Что стащила на этот раз? – Бабка с ловкостью надзирателя обшарила ее карманы и вытащила флакон. – Ах ты дрянь!
Свободную руку она занесла для оплеухи, но для этого пришлось швырнуть духи на стол. У Марты было две секунды – целых две.
Учительница всегда говорит: распоряжайтесь своим временем с умом. Глупо не слушать дельные советы.
Раз! – крутануться вокруг своей оси.
Два! – дернуться что есть силы.
Три! – взлететь по лесенке, не слушая бабкиных воплей, захлопнуть чердачную дверцу и припереть шваброй.
– Дрянь! Мерзавка!
Бабка внизу рвала и метала. Пока она трезва, ей ничего не стоит забраться на чердак, но дверь не вышибить даже ее тушей.
– Жидовское отродье!
Ах вот как! Что ж, пропадать – так с музыкой! Спасибо Герману, который согласился ее обучить, хоть и был удивлен просьбой. Сам он постоянно насвистывал разные песенки, когда обрабатывал фотографии.
Марта вытянула губы трубочкой и уверенно насвистела первые два такта «Хава Нагилы».
Снизу раздался вопль, какой мог бы издать носорог, если бы его чувствительно ткнули иглой. Бабка принялась сыпать ругательствами, в которых время от времени проскальзывало имя Якова Бялика.
Вскоре ругань утихла. Звякнула бутылка, а чуть погодя сердито забубнили, как ворчит загнанный в конуру старый пес.
Марта вытянулась на полу. Можно подвести итоги: переплыла реку (дважды!), познакомилась с Малым, избежала трепки и довела бабку до белого каления. Да, и лошадка!
Отличный день!
Жалела она лишь об одном: что не может добраться до картошки.
* * *Зачем Яков Бялик приехал в Беловодье, никто потом не мог вспомнить. Что-то по библиотечной линии, кажется… Во всяком случае, выйдя из автобуса, зеленый от слабости и тошноты Бялик выпил бутылку «Фанты», купленную в киоске, и направился к центральной площади, хотя любой знает, что в чужом городе сначала нужно отыскать место для ночлега.
Возле библиотеки его увидела Анна Терещенко.
Она не удержалась от смеха. Яков был толст, нелеп и вызывающе некрасив. Над одутловатым бледным лицом развевались рыжие волосы того безобразного оттенка, в который по традиции красят клоунские парики. Вся его низенькая фигура с кожаным портфельчиком в одной руке и бабушкиным баулом в другой была комична, но главное – шевелюра! Будь Яков лыс или плешив, он худо-бедно втиснулся бы в образ человека непривлекательного, однако созданного по шаблонному трафарету. Морковное безумие выделяло его, как пятнистую зебру среди полосатых. Оно заставляло вглядываться в него и находить все новые недостатки.
Анна вгляделась и нашла.
«Господи, ну и чучело».
– Не подскажете, когда откроется библиотека? – спросило чучело, загрустив перед табличкой «Обеденный перерыв».
Анна хотела съязвить, но удержалась.
– Через час, не раньше. Библиотекарша уходит козу доить. У нее коза окотилась.
– По случаю убийства сия мастерская закрыта, – непонятно сказал приезжий.
Сел на выщербленные ступеньки, достал из баула пакет, в котором, как одинокая уклейка, плавал огурец.
– Угощайтесь…
– Вы откуда? – спросила Анна.
– Из Петербурга.
При мысли о том, что в Беловодье, где при каждом доме в парниках радостно вызревали сотни Нежинских, апрельских и зозуль, кто-то додумался привезти снулые магазинные огурцы, Анна расхохоталась. Толстяк посмотрел на нее и тоже засмеялся.
– Вы здесь в первый раз, да? – спросила Анна, непринужденно устраиваясь рядом с ним на ступеньке.
– Верно. Никогда раньше так далеко не забирался, по правде сказать. Всю жизнь в Петербурге. А вы?
– А я всю жизнь здесь, – с удовольствием сказала Анна. Она покосилась на раскрытый баул, убедилась, что другой еды там нет, разломила подаренный огурец и протянула половину толстяку. Тот взглянул на нее пристально и как-то странно.
– У меня в поезде вареную курицу украли, – пожаловался он.
Анна снова фыркнула.
– Как же вы обошлись, бедный?
– Я украл себе новую у попутчика, – с достоинством сказал он.
Она снова засмеялась, не понимая почему. Ничего остроумного он не говорил, но в интонациях, в негромком голосе было что-то, заставлявшее улыбаться.
– Когда вы уезжаете? – Анна подумала, что нужно помочь ему подыскать жилье.
Он потер переносицу.
– Не думаю, что я отсюда уеду…
– В смысле?
– Видите ли, я женюсь.
– На ком?!
– На вас, – очень просто сказал он.
Анна выронила огурец и посмотрела на него. Идиот какой-то! И шутки у него идиотские.
Идиот тоже посмотрел на нее. Он больше не улыбался.
– Вы даже не знаете, как меня зовут, – растерянно сказала она.
Рыжий прищурился, будто что-то прикидывая.
– Я люблю имя Анна, – сказал он наконец. – Можно вас будут звать Анной?
Они расписались неделю спустя.
Когда Галина Терещенко узнала о случившемся, ее чуть не хватил удар. Красота дочери принадлежала ей, это был капитал, ожидавший выгодного вложения. Но ее сокровище похитил страхолюдный еврей и пустил все планы под откос.

