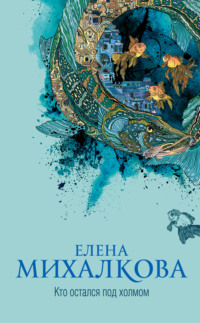
Кто остался под холмом
Весной родилась девочка. Пугало, страшилище, козья морда.
«От урода уродку родили!» – кричала Галина, встречая семейство Бялик на улице.
Заряда ненависти хватило на пять лет. На шестой год Галина неохотно даровала предательнице свое прощение.
Однажды после Нового года Яков Бялик, вот уже несколько месяцев хворавший без видимой причины, почувствовал себя совсем нехорошо. По настоянию жены он доехал до больницы. Ему пришлось задержаться почти на неделю. Вернувшись домой, Яков обнял своих и закрылся в комнате, сказав, что устал от поездки.
– Сколько осталось? – спросила Анна, когда он вышел к ужину.
Лицо ее было почти спокойно.
Яков хотел было сделать вид, что не понял вопроса, но посмотрел на жену, с которой не расставался ни на день с тех пор, как они встретились, и сказал правду:
– Два месяца.
Ангел, который привел на ступеньки библиотеки маленького толстяка и самую красивую женщину из всех, когда-либо встреченных Яковом, и теперь оказался к нему милосерден. Яков Бялик скончался не через два месяца, а две недели спустя, во сне, без боли.
На оплату транспортировки гроба до Санкт-Петербурга ушли почти все деньги. С представителями ритуальной компании Анне пришлось общаться письменно: она не могла исторгнуть ни звука из наглухо зацементированной гортани.
Накануне отъезда она взяла за руку дочь и довела до дома Веры Шишигиной.
Старуха вышла на крыльцо.
Вдова молча посмотрела на нее, развернулась и пошла прочь.
Возле дома Гурьяновой сцена повторилась. Одна женщина вышла из дома, другая постояла перед калиткой, сжав детскую ладошку. Кира Михайловна едва заметно кивнула.
Анна уехала, и Марта Бялик осталась с бабушкой.
О семье покойного мужа Анне было известно немногое. Родители умерли, единственная сестра не поняла и не приняла его решения остаться в Беловодье. Анна никогда с ней не говорила, но кровная связь была для нее священна, и вдова Бялика везла его тело домой, чтобы похоронить рядом с отцом и матерью.
Она думала о просторной квартире Якова, обжитой тремя поколениями его семьи. О надменной женщине, с которой ей предстояло хоронить мужа. Не было ни страшно, ни тревожно, ни больно – было никак, и она понимала, что отныне так будет всегда. В устройство мира вкрался изъян: жизнь Анны закончилась, а сама Анна почему-то осталась. Лист без дерева, дерево без земли.
К Марте ее мысли не обращались. Для дочери она сделала все, что могла. И потом – что могут неживые матери дать живым детям?
В фамильной квартире никакой Сони Бялик не оказалось. Собственно, не оказалось и квартиры, которую описывал муж: ломали стены, снимали паркет, таскали мешки и ведра, оставляя дорожки алебастровой пыли, – меняли старое чужое на новое свое. Выйдя из подъезда, Анна рассмотрела небрежно нацарапанный соседкой адрес.
Посетителей еще пускали. Путаные коридоры, пациенты в пижамах, медсестры с лицами стюардесс, опаздывающих на свой рейс… Анна вошла в палату и окаменела.
Белая кожа. Рыжие волосы.
Кто-то сжал ее сердце в кулак, так что оно едва не остановилось, а затем выхватил лист из космической пустоты без голосов и света, швырнул навстречу гигантскому синему шару, навстречу реву земли, мириадам деревьев и одному, протянувшему к ней ветви. Река замкнулась в кольцо и понесла Анну вдоль зеленых берегов, где бегала девочка, похожая на отца; вдоль белых стен, где сидела на больничной койке измученная женщина, похожая на брата, – и мимо Якова Бялика, улыбающегося ей со ступенек библиотеки своей неизменной доброй улыбкой.
Потому что жизнь, некоторым образом, никогда не кончается.
Анна опустилась на пол, ощущая, как крошится и осыпается цемент, и горло стискивает уже от иной, уже от переносимой муки.
Врачи говорили с ней быстро, на бегу, и не смотрели ей в глаза, а если смотрели, то как-то досадливо, и роняли много непонятных слов – Анну не оставляло чувство, что они делают это нарочно. Она уяснила одно: та же болезнь, что унесла Якова Бялика, теперь убивала его сестру.
Нет, сказала Анна. Достаточно!
Она не могла после всего пережитого отдать еще и эту Бялик. Анна знала, как та сворачивается во сне, как нарезает яблоки дольками поперек сердцевины, как поднимает руку, чтобы заправить за ухо прядь волос, и замирает на миг. Это знание делало ее в определенном роде собственницей.
Мое, – сказала Анна.
Нет, не твое, – сказала смерть.
Может, и не мое, – легко согласилась Анна. – Но тебе не отдам.
Анна принялась выдирать Соню Бялик у смерти, как хозяйка ценной сумки выдирает ее у бессовестного вора. Они с болезнью вцепились в Соню с двух сторон. В отличие от Якова, у его сестры оставался шанс на спасение, но Соня была изъедена одиночеством и страхом. Горе вымывает в человеке карстовые пустоты. Она могла часами сидеть неподвижно, глядя перед собой потухшим взглядом. Ей не спастись. Никому не спастись. Чужая деятельная женщина, неотлучно находившаяся рядом, только обременяла ее: досадная помеха, камешек в ботинке на пути к сияющей вечности.
Три месяца спустя после того дня, когда Анна впервые вошла в палату, Соня Бялик проснулась среди ночи. Она всегда пугалась темноты. Во тьме комната сдавливала ее, точно стенки гроба, куда ее уложили прежде, чем она умерла. Но в этот раз горел светильник, молодая женщина сидела в кресле, подогнув под себя ноги, и читала дамский роман в глянцевой обложке.
– Слушай, – устало сказала Соня, прикрывая глаза от света, – ты когда-нибудь оставишь меня в покое или нет?
Женщина подняла на нее безмятежный взгляд:
– Никогда.
– Вообще никогда? – ужаснулась Соня.
– Абсолютно, – заверила женщина.
– Слава Богу, – тихо сказала Соня. И когда чужая женщина подошла к ней, чтобы поправить одеяло, на секунду дотронулась до ее живой, теплой, мягкой руки.
В этот миг с камешком случилась удивительная метаморфоза. Из мизерной закорючки размером не больше голубиного коготка он вдруг увеличился, превратившись в полновесный шершавый камень, и сияющая вечность брезгливо отодвинулась на неопределенное расстояние. Поскольку каждому, включая даже сияющую вечность, известно, что топать с камнем в ботинке совершенно немыслимо.
3Марта, переехав в новый дом, вскоре обнаружила, что существуют разногласия во взглядах на ее новое положение.
Бабка полагала, что Марта в ее власти.
Марта была убеждена, что власти над ней не имеет никто, кроме Господа, у которого много иных забот, и Киры Михайловны Гурьяновой, ограниченной в своих действиях законом о гарантиях прав ребенка. За эту поразительную осведомленность отвечала поисковая система «Яндекс». Именно она в ответ на запрос Марты «учитель может побить своево школьника дать подзатыльник потаскать за ухо или нет» сухо сказала, что это запрещено. Марта вздохнула свободнее.
Против бабки закон был бессилен.
Даже тот, кто вздумал бы оскорбить Галину Терещенко, не нашел бы в ней сходства с вурдалаком, но, безусловно, людей она рассматривала в первую очередь с точки зрения питательности. Долгие годы ее кормовую базу составляла дочь. Когда Анну похитил рыжий клоун, Галина исхудала, щеки ввалились, одежда повисла на ней, как на вешалке. Не очень проницательные люди приписывали эту перемену тоске по дочери.
После примирения она надеялась вернуться к прежнему режиму потребления. Но с Анной что-то случилось. Она, прежде терявшая от грубостей волю, приобрела избирательную глухоту, и часть речей Галины таяла в воздухе, не дойдя до адресата. На губах Анны теперь почти всегда играла улыбка, тихая, не предназначенная для других – так свет пробивается сквозь плотно зашторенное окно.
Заполучив Марту, Галина возрадовалась. Не то чтобы она не жалела ребенка. Будь Марта белокурым голубоглазым ангелом, безутешно плачущим от потери отца и матери, Галине было бы легче. Она вцепилась бы в нежное тельце, понесла бы прочь, сжимая в когтях и облизываясь в предвкушении обильной трапезы, но на бегу не забывала бы утирать малютке слезы. Разве не это люди называют добротой?
Однако Марта осложняла ей задачу. Галина, кроткая душою и терпимая к недостаткам, готова была мириться с уродством девочки. Но кроме вызывающей внешности, та обладала дрянным характером. Недели хватило, чтобы Галина поняла: кротостью и любовью с этим ребенком не сладить.
Что оставалось? Это для ее же пользы, сказала себе Галина. Если девчонка продолжит в том же духе, сама жизнь накажет ее и сделает это безжалостнее, чем бабушка, желающая сироте только добра.
С поркой не вышло. В ярости от неудачи, а в особенности от того, что левая рука несвоевременно вышла из строя, Галина пошла на крайние меры. Мерзавка! Испорченная, бессовестная. Не приструнить ее сейчас – в другой раз она выкинет что-нибудь ужасное. Поджог! Убийство!
Идея о превентивном наказании потенциальных преступников часто находит себе приверженцев в лице тиранов и пожилых женщин.
Галина затаилась, дождалась, когда враг утратит бдительность, и на этот раз все получилось.
– Будешь еще кусаться? – спросила Галина, потрясая над Мартой забинтованной рукой. – Будешь, паршивка?
Можно было совершить месть сразу, но хотелось отметить победу, и экзекуция над поверженным врагом была отложена.
Рано утром в дверь постучали.
– Здравствуйте, – сказала Гурьянова. – Я хотела бы увидеть Марту.
Галина приторно улыбнулась и подвинулась так, чтобы кровать оказалась за спиной.
– Приболела она, Кира Михайловна… Простыла внученька моя. Сиротка!
Директриса поджала губы и прошла сквозь Галину – во всяком случае, ничем иным та не смогла объяснить вторжение. Взгляд ее остановился на маленькой фигурке.
– Вы ее связали, – бесстрастно сказала директриса.
– Ворочалась она во сне… С кроватки падала, – пробормотала Галина. – Видите, только уснула… По папочке все плачет…
Гурьянова обернулась к ней. В доме внезапно посветлело, как в операционной, и повеяло холодом.
– Ножницы, – прошелестела Гурьянова.
Галина кинулась за ножницами, точно вышколенная медсестра за ланцетом.
– Марта! – позвала Кира, перерезав веревку.
Девочка сонно потянулась и повернулась на другой бок.
– Я ж вам талдычу, спит… – начала было Галина, но директриса выпрямилась в полный рост, и слова застряли в горле.
– Завтра Марта должна быть в школе.
Хозяйка вжалась в стену, торопливо закивала: будет, Кира Михайловна, все будет как вы скажете.
Страха, который навела на нее Гурьянова, хватило надолго, но когда директриса уехала по делам, а Марту опять поймали на краже, Галина сорвалась.
Никаких веревок! Но оплеух-то поганой девке она могла надавать? Кое-где за воровство руки рубят.
Марта, поняв, что ее ждет, юркнула хорьком и забилась под кровать.
– Сама вылезешь? – сладко пропела Галина. – Или достать тебя?
Жарким сквозняком обдало затылок, и она обернулась. В дверном проеме застыла черная фигура, кривоносое страшилище.
– Здрасьте, Вера Павловна, – сказала Галина, тщетно стараясь придать голосу дружелюбие. Внутри все съежилось, как брошенный в неостывшую золу паук.
– Марта, иди сюда… – позвала Шишигина, словно не замечая ее.
Галина прищурилась:
– С хозяйкой здороваться не обязательно?
Девчонка выбралась из-под кровати, вся в паутине и пыли, бесстрашно подошла к старухе.
– Ступай, поиграй в огороде…
Марта не заартачилась, вопреки своему обыкновению, а пожала плечами и выскочила из дома.
– Не обижай ее больше, – сказала старуха.
– Вас не спросила! – огрызнулась Галина.
Как всякий человек, лишенный долгожданного праздника, она разозлилась и чувствовала себя несправедливо обделенной.
– Зря ты так, Галя…
– Вы мне тут не зрякайте! Повадились шастать, как к себе домой! Меня учить не надо, я ученая! Слышь-те чего говорю? Шагайте, шагайте… – И ладонью сделала жест, будто смахивала со стола крошку.
– Не обижай… – шепнула ведьма.
В глазах внезапно потемнело. На изнанке век огненными росчерками заплясали дикие мушки. Галина схватилась за стену и взвизгнула: показалось, что обожгла ладонь.
– Береги себя, Галя…
Свистнуло, ухнуло, обдало печной золой – и пропала Шишига.
В доме Терещенко установилось шаткое равновесие. За Галиной сохранилось право отвесить Марте подзатыльник. Не возбранялось и оттаскать за ухо, особенно в случае кражи или хулиганства. Марта молчаливо обязалась вести себя прилично: бабке не дерзить, в доме не пакостить.
Искушение дать жестокую взбучку отродью Бялика посещало Галину через день. Но каждый раз, занося руку, она видела, как за девчонкой вырастают тени двух хранителей.
Марта не догадывалась, и никто не догадывался, как сильно поддерживает ее бабушку мысль о том, что однажды она возьмет свое.
Глава 5
Май 2001 года
1Двухэтажный синий дом стоял наособицу, и с первого взгляда становилось ясно, что его хозяева – люди с хорошим вкусом. Вкус читался и в архитектурном решении фасада с двумя далеко разнесенными полукруглыми белыми балконами, и в декоративном обрамлении, начиная от вымощенной дорожки, которая приводила к решетчатой калитке, и заканчивая шарообразными кустами голубой гортензии у дверей. Кира слышала, что именно голубую гортензию почти невозможно вырастить в местном климате. Лидии Буслаевой часто удавалось то, что не получалось у остальных.
Кира поднялась по дорожке, впервые за долгое время ощущая, как непритязательно ее учительское платье.
На балконе курила женщина.
– Входите, открыто! – крикнула она и скрылась внутри.
По лестнице к Кире уже спускался хозяин. Он был высок, суховатого телосложения, с красивым запоминающимся лицом, обрамленным короткой светлой бородкой; его темно-синий бархатный халат-шлафрок на любом другом человеке смотрелся бы как сценический костюм, но Буслаев был в нем естественен. Кира бросила взгляд на его руку, небрежно лежавшую на перилах: овальная ладонь, длинные аристократические пальцы, голубоватые лунки ногтей – на редкость красивая кисть, подумала она, должно быть, он еще и музыкант, помимо прочего.
– Кира Михайловна, дорогая! – Звучный голос разнесся по холлу. – Как я рад! Лидочка, иди сюда, полюбуйся на нее! Наш ангел-спаситель!
– Здравствуйте, Алексей Викентьевич. А где Федя?
– Для вас – просто Алексей.
– Я – Лида, – улыбнулась женщина с сигаретой, незаметно возникшая рядом. – Прошу вас, не надо отчества. У нас здесь принято без церемоний.
Приветливые люди. Настолько приветливые, что это несколько подавляло любителей церемоний вроде Киры.
– Федя ждет вас в своей комнате, – сказал Буслаев. – Он иногда бывает не в духе…
– Ему свойственны частые перепады настроения, – подтвердила Лидия.
– Пожалуйста, учтите это, когда начнете с ним заниматься. И еще, Кира Михайловна… – Буслаев доверительно наклонился к ней. – Мы лучше, чем кто-либо другой, знаем, как трудно с ним справиться. По совести говоря, Федя бывает совершенно невыносим.
– Как все подростки, – осторожно согласилась Кира.
– Если вы не найдете в себе сил терпеть его выходки, мы вас поймем. Вера Павловна проявила большую настойчивость, убеждая нас продолжить обучение вне школы, а вы знаете, как сложно ей отказать, когда она о чем-то просит… Но мы с Лидой опасаемся…
Кира вежливо кивала, недоумевая про себя. Никто из родителей подростков не подготавливал ее так основательно к встрече с собственным отпрыском.
– …Вера Павловна уже присылала учителя, однако у них не сложились отношения…
– …по Фединой вине, разумеется, – вставила Лидия Буслаева. – Мы с мужем бесконечно далеки от мысли обвинять в чем-либо педагогов. Нам исключительно повезло со школой.
Кира постучалась и, не дождавшись ответа, толкнула дверь. В комнате на подоконнике скорчилась маленькая фигурка.
– Здравствуй, Федя, – сказала Кира. – Мы с тобой будем заниматься русским языком и литературой.
Мальчик обернулся.
Он выглядел бы почти нормальным, если б не безвольно отвисшая челюсть и некая вялость тела, придававшая ему сходство с тряпичной куклой, которая вот-вот завалится вперед. Длинные руки, чернота под ногтями. Кожа бледная, неприятного синеватого оттенка. Глаза навыкате.
– Меня зовут Кира. – При первом же взгляде на мальчика она приняла решение отказаться от отчества.
– Ки-рааа… Приве-е-ет!
– Вы сказали, он часто болеет! – Гурьянова едва сдерживалась, чтобы не повысить голос.
Шишигина удовлетворенно кивнула:
– Именно, именно так. Мальчику тяжело ходить в школу, из-за болезни он пропускает много уроков. Перейти в седьмой класс для него – фантастика. Родители попросили меня перевести его на домашнее обучение, однако они вкладывают в это понятие что-то свое, а моя задача – дать ему возможность нагнать за лето свой класс.
– Ему нужен врач, а не учитель!
– Ну-ну-ну! – Голос Шишигиной был преисполнен снисходительности. – Не преувеличивайте. Как-то же он проучился в школе, и не один год, между прочим. Можете считать, это ваш испытательный срок, раз вам не досталось полноценной учебной четверти. Вы лучше других найдете подход к Феде, я уверена.
Кира стиснула зубы.
Все дело в физруке, подумала она, другого объяснения нет. Старая мымра выждала – и куснула исподтишка.
Физрука звали Ирина. Ирочка Литвинова: длинная, гладкая, неутомимая; Ирочка, похожая на гончую, не дающую покоя своим многочисленным щенкам. «Девчата, а теперь в волейбол!» «Мальчишки, кто со мной на канат!» Из нее бил комсомольский задор, хотя в силу возраста она не застала даже пионеров. Десятки раз на дню с ее губ срывалось «Айда». До встречи с Литвиновой Кира думала, что это слово отмерло. Айда! Когда Ирочка входила в учительскую, Кира ждала, что она вот-вот скажет что-нибудь вроде: «Управы нет на огольцов». И погрозит пальцем. Непременно с хитринкой в глазах. Возможно, даже с лукавым прищуром.
Должно быть, именно «айда» заставило ее внимательнее присмотреться к детям после физкультуры.
В первый раз Кира решила, что ей почудилось.
Во второй объяснила все случайностью.
После третьего пришла к Литвиновой на урок.
Все было нормально: веселый тренер, подвижные школьники, крики, гулкое эхо мяча, кувырки на пыльном мате.
Тогда отчего они возвращаются в ее класс бестелесные и поблекшие, точно бабочки, с чьих крылышек сбита пыльца? Кира готова была поклясться, что дело не в усталости.
Следующие три недели она наблюдала, затем начала действовать – быстро, без колебаний.
– Вера Павловна, Литвинову нужно уволить.
Шишигина откинулась на спинку кресла. Кира в очередной раз подумала, что для завершения образа директору не хватает лупы. В душе она, конечно, была энтомологом, раз за разом убеждавшимся, что ниспосланные ей экземпляры членистоногих не заслуживают даже формалина.
– Смело, – оценила Шишигина. – Мне встречались люди, начинавшие карьеру с доносов, но они сперва обживались на новом месте и только потом… Сколько вы у нас работаете?
– Два месяца, – спокойно ответила Кира.
– Два месяца. Я в растерянности, Кира Михайловна. Неужели вы надеетесь занять место учительницы физкультуры? Говорите прямо. Я в любом случае вас уволю.
– Она завуалированно издевается над школьниками. Было бы преувеличением сказать, что она калечит детей, но их жизнь без Литвиновой будет гораздо лучше, чем с ней.
– Доказательства?
– Никаких.
Несколько секунд директриса смотрела на нее изумленно.
– Вы, Кира Михайловна, с ума сошли?
– У меня нет доказательств, – повторила Кира. – К ней невозможно придраться. Потому что это всегда шутки, дружеские подначки. Литвинова среди детей своя, она называет себя их старшим другом и товарищем. С кем-то посмеется над кривыми ногами, кому-то скажет про съеденный бабушкин пирожок, который отложился на щечках. «Что за сочные ляжки у нашей Вики!» А потом Вику до выпускного будут дразнить сочными ляжками. У нее нет фразы, которая не была бы начинена ядом.
– Только не надо красивых метафор, – поморщилась Шишигина.
– Дети не умеют ей противостоять, потому что не понимают, что происходит. Способность распознавать агрессию за шутливостью приходит много позже, и то не ко всем. А они маленькие. Я уверена, поэтому она не берет старшеклассников: с ними эти фокусы не пройдут.
– Вы, конечно, побывали на ее уроке…
– На всех. На всех, совпадавших с моими окнами.
– И такое случалось каждый раз?
– Да. Дети… они сами не свои, когда заканчиваются ее занятия. После физкультуры школьники всегда бесятся, несмотря на усталость. А эти – нет. Они просто сидят. Я пару раз пересаживала их за другие парты – никто не пикнул. Такого вообще не бывает, не должно быть.
Шишигина очень долго молчала. Кира успела вспомнить, что именно она взяла на работу Литвинову.
– Вера Павловна? – не выдержала она.
– А, Кира Михайловна, вы еще здесь… Я вас больше не задерживаю.
Кира пыталась поймать ее взгляд, но директор отвернулась.
Новость о том, что Литвинову вышибли, облетела школу в мгновение ока. Передавали из уст в уста, что сначала та отказалась писать заявление, но Шишигина плотнее закрыла дверь и что-то такое наговорила бедной девушке…
Кира знала, что директор опросила нескольких школьников, у которых Ирочка вела физкультуру: и умных, и спокойных, и плаксивых, и даже тех, которым трудно было дать какую-то характеристику, кроме «обычный ребенок».
Литвиновой не позволили доработать и двух дней. Родителям, явившимся выяснить, отчего их дети лишились спортивных занятий, Шишигина дала такой отлуп, что они в ужасе вылетели из школы.
Свои пожитки Литвинова собирала в слезах. Многие учительницы тоже плакали, обнимали несправедливо обиженную Ирочку и клялись созваниваться с ней каждый день. Ни к чему не обязывающее сострадание приподнимает над бесчувственными сухарями и позволяет без всяких затрат ощутить себя хорошим человеком.
Вечером Кира столкнулась в коридоре с директором.
– Вы довольны? – резко осведомилась Шишигина.
– А что, уже нашли нового физрука? – удивилась Кира.
Вера Павловна только кхекнула.
– Ну вы, Кира Михайловна, и фрукт…
– Простите за прямоту, Вера Павловна, но после восьми уроков я совершенный овощ. Если я вам не нужна…
– Над этим я еще поразмыслю.
2Трижды в неделю: дорожка, выложенная брусчаткой, чириканье звонка, слабый запах лилий. В тяжелой стеклянной подставке благоухали ароматические свечи.
«Я, конечно, в большей степени управленец, – говорил Алексей Викентьевич с извиняющейся улыбкой, – а вот Лидочка – натура бесконечно одаренная». Это не было преувеличением. Лидия Борисовна обладала великолепным вкусом; во все, к чему прикасалась, она вдыхала красоту. Двадцать лет назад музей Беловодья мог похвастаться прялкой, дюжиной уродливых салфеток и картинами местного художника, заслуженно прозябавшего в безвестности. При Буслаевых музей расцвел. Вся культурная жизнь города сосредоточилась вокруг него.
– Добрый день, Федя!
– Зд'аствуйте!
Они раскладывали учебники, и Кира определяла, в каком он настроении, чувствуя себя водителем, который не знает, какая секция загорится на светофоре в следующий момент.
Зеленый свет – все замечательно, мальчик будет сообразителен, послушен и любопытен. Артикуляция четкая. Координация в норме. Хорошо усваивает новую информацию.
Красный. Речь бессвязная, внимание рассеянно, эмоционально колеблется между плаксивостью и раздражительностью. Когнитивные функции нарушены. Теряет равновесие, роняет предметы.
Желтый. Чаша весов может склониться в любую сторону, но чаще к красному.
Вначале Кира терялась, когда мальчик принимался рыдать, однако со временем научилась выводить его из этого состояния простыми дыхательными упражнениями.
Конечно, он мало что знал. Кира самовольно утвердила себя в должности преподавателя всего и назначила Беловодье своим учебником. Биологию они изучали на примере одуванчиков и головастиков, математику – покупая спички в продуктовом. Кира принесла ему компас; подарок оказался бессмысленным, но они изобрели причину, чтобы гулять в окрестностях.
Она обнаружила, что если цифрам присвоить цвет, он будет считать в два раза быстрее. Что его ненависть к русскому языку объясняется дислексией. Что для него все города на земле – Беловодья, и он не представляет, что бывают другие. Что он панически боится собак, и не беспричинно, поскольку те его недолюбливают, зато птицы питают к нему необъяснимое доверие. Что он в два раза младше своего биологического возраста.
– Покажи тетрадь, Федя.
– Я-а не доделал…
Большую часть дня он был предоставлен самому себе. Нескладный, сопливый, с прической «под горшок», которая превращала его в совершеннейшего дебила. Удивительно, но Лидию Борисовну, такую чуткую к красоте во всех ее проявлениях, не коробил облик сына.

