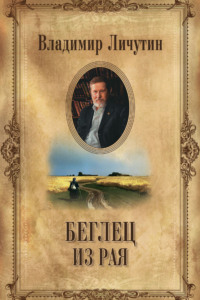
Беглец из рая
Зулус, может быть, впервые подумал, как спокойно ему жилось прежде, как ровно дышалось, и весь грядущий путь был спланирован, разоставлен указующими вешками от рождения до погоста. И вот подул внезапный снеговей, все метки захоронил в сугробы, и сейчас, когда годы так стремительно покатились с горки, надо думать, как выжить на потощавшую в четыре раза пенсию, да еще и помогать дочери. А бесы все пляшут без угомона по стране, вьют хороводы на чужих костях, и нет им острастки.
– Бывало, каждый год – в Крым. Получку – в карман, семью – под локоть, и в – Крым. В Воркуте метель по улице, а в Крыму шелковое море, генацвали усатые, шашлыки, вина – залейся, не хочу. Девочки… Бывало, и причастишься…
– Хорошо, мама не слышит, – засмеялась дочь. – Кот усатый. Вот вы все какие, мужики…
– Павел Петрович, какую жизнь мы профукали! – Зулус словно только что осмыслил случившееся, трясущейся рукою наполнил рюмки. – Выпьем за упокой, не чокаясь. Ведь мы сами себя похоронили и закопали своими руками. Мы сейчас сквозь щелку гроба смотрим и видим лишь волосатый кукиш русского жида. Надо было всех вместе с царскими останками – в одну яму. Дураки мы, дураки, какого кнура себе на шею завалили…
Я хотел было упрекнуть мужика, де, вы сами шахтеры подкузьмили нам, такого злобного быка выпустили без вязки из хлева. Дивились да радовались, ослепши под землею: экая, мол, русская сила, не чета станет бесенку Горбачеву. Ну прямо богатырь в дозоре на границе, а рядом с ним – Чёрная Морда – гармонист, гулевая душа, а третьим – вровню им – внук писателя и сын адмирала. Ну рылом не вышел, правда, свинья свиньею, только не хрюкает, да не с лица же воду пить, но зато ума палата, на всех достанет. Но вовремя я прикусил язычок, спохватился, вспомнив мудрый наказ бабки Анны: «Смотри, не задирай мужика, за ним горя ходят».
– И плохо, что каждый год – в Крым. Коммунальная квартира… Грязь, свалка. Все на шарманка, нищета, поделенная на всех. Было бы что вспоминать, – язвительно возразил Илья глухим надтреснутым голосом. – А я молодую жену на Канары повезу, потом – на Багамы. Верно, Тань?.. В Египет – пирамиды смотреть, в Китай – суп хлебать из змеиных сердец и ласточкиных гнезд… Вам, старикам, обидно, мы вас понимаем.
– Какой я старик. Мне едва за сорок. Я тебя в калачик одной рукою заверну…
– Ну, не старик, – поправился Илья перед тестем. – Это я так, к слову.
– Вот и выбирай слова. У меня рука тяжелая, – гнул свое Зулус.
– Обожди, дай сказать, отец… Нельзя же плодить нищету.
– Так это же вы наплодили нищету, долбаные демократы… В самом соку мужика на пенсию выкинули. Я бы сколько еще мог ишачить. Шахты позакрывали, людей пинком под зад. Сволочи – одно слово для вас.
Но Илью, оказывается, было трудно сбить с мысли:
– Сколько можно один рубль делить на всех… Поехали по стране, все побросали, как блуждающие триффиды. На вокзалах – ни пожрать, ни поспать. Я-то, Павел Петрович, все на себе испытал: вонь эту, грязь. Какая копейка и заведется в кармане, так некуда потратить. – Илья почему-то обращался ко мне, видимо, тоже побаивался дразнить тестя. Обидится, полезет с кулаками, а тогда и не оборониться.
– Но ведь весь народ поделили на улусы, нищетою загнали в резервации. Мать к сыну не может поехать, дочь к отцу. Это же садизм, утонченный садизм деспотической безнравственной власти, де, я вас не трогаю, как прежде, не посылаю в тюрьмы и на казнь, но вы умрете в безвестности на помойке, а ваши дети станут бродяжничать и где-то подохнут в столице, как тараканы. И так умирают миллион за миллионом. Ведь великая страна кончается…
– Если бы она была великою, то не подпала бы под власть кучки жидомасонов, – язвительно, со скрытым умыслом поддел Илья: де, я-то знаю, кто действительно во всем виноват. – Дорогой профессор! Ваша Россия давно треснула, как плохой глиняный кувшин, все стало вытекать из посуды и иссыхать. Вы живете воспоминаниями, тем, чего уже давно нет, пропало. Да и было ли оно? Это «бальшой» вопрос. Именно вы и живете брюхом, а не мы, молодые. И прежде жили с мечтою о брюхе, чтоб всем сыто. И все. А всех тремя хлебами не накормить.
– Вот у тебя, зятек, наверное, пойдут дети, – вмешался Зулус, не утерпел. – И когда дочь твоя пойдет на панель, а сын в тюрьму, тогда вспомнишь меня. Может, тремя хлебами и трудно накормить такую прорву дармоедов, что сидят на нашей шее, но все-таки были на столе эти три хлеба. А сейчас и одного нет. Лишь сухие заплесневелые корки вы кинули нам, беззубым… А мы-то вас кормили мякишем, сдобным и сладким. Мы вас из последнего вытягивали за уши, ничего не жалели. Все вам, все вам. Жрите, галчата, учитесь… А вы так ничему и не научились. Только и научились чужую кость из миски воровать. Горл охваты…
Татьяна тоже порывалась встрять в перепалку, глаза ее загорелись. Она переводила взгляд с лица на лицо, то хмурилась, то сердечно улыбалась, и тогда на круглых твердых щеках проступали ямочки, а углы пухлых губ, как-то странно задираясь вверх, будто завязывались в узелки. А мне подумалось вдруг: велика, пространна Россия, даже властным взглядом орла не охватить и крохотной толики ее, и вот по всей земле, опятнанной чересполосицей, идут вот такие же словесные схватки; мучается народ, перемалывает внезапную встряску, примеряет новины к себе, ищет путей, чтобы не загрязнуть в тоске, не утонуть в печали. И то, что русак, вроде бы окончательно загнанный в ограды неудобей, по колена утонувший в пошлости и безделице новой жизни, не отвык думать, а пестует душу, – вот в этом и виден здравый спасительный знак для будущей России. Она сбрасывает с плеч опостылевшие, в чем-то уже короткие обветшавшие одежды и, не имея пока портищ нового сукна и полотен, не только выгадывает и кроит из старья новое платье, но и замышляет новые, приличные для своего великаньего роста наряды. В который уже раз огромная Россия становится портняжкою, кутюрье, зашивает и ладит, отглаживает то, что успели напортачить скорые на руку неумехи и злыдни, надсмотрщики и поденщики. Бог ты мой, и какой тяжкий труд снова предстоит нашему народу, чтобы хоть бы дыры залатать в этом протертом рядне, чтобы не выглядеть уж слишком бедным и несчастным. Одни с тоскою глядят назад через века в златоблистающий царский мир, безусловно, видя себя только дворянами, но никак не дворнею; другие уставились на Запад, представляя себя богатыми и сытыми, но не бомжами на свалке или неграми на вокзале, третьи же с угрюмой печалью вспоминают недавнее прошлое, когда за четвертак можно было смотаться в санаторий на юга. Нет, не три богатыря нынче стоят в русском дозоре перед новыми безжалостными гуннами, а сам русак снова задумался на вечном распутье перед вещим камнем, угадывая себе верную дорогу, чтобы вовсе не пропасть.
– Отец, сплюнь трижды, хоть и не веришь ни в Бога, ни в черта. У нас будет сын, и он поедет учиться в Кембридж. И ты будешь любить моего парня больше, чем свою дочь.
– Деды живут внуками, а внуки мстят за дедов, – раскатисто засмеялся Илья, и высокий лоб внезапно покрылся частыми морщинами, собрался в гармошку. – Если бы переворот задержался, допустим, еще лет на десять-пятнадцать, то страна жила бы в бардаке еще лет сто. Внуки отомстили за дедов, таков закон всех переворотов. Много оказалось злопамятных внуков, и мало осталось упертых за идею дедов, кто бы мог взяться за автомат. Вот ты, отец, правильно подметил: никто не захотел умирать… Никто. И теперь не стоните, коли не захотели умирать. А мы за дедов тридцать седьмого отомстили. Такова селяви… Ведь твоего деда тоже кулачили?
– Ну, кулачили, – с досадой и некоторой оторопью согласился Зулус.
Разговор сместился в туманное и непонятное прошлое, о коем почти не вспоминали в семье. Да и что о нем рядить, если Грунюшка говорила о том времени беззлобно, с каким-то беспечальным удивлением: де, надо же, такого горя хватили, перетерли его и не озлобились, и семью не растрясли…
Вот этого чувства смирения и не хватало в нынешнем подросте. Я с придиркою вгляделся в Илью: вроде бы русский, а точит ножик, словно чеченец иль афганец… Ну, бились, будто камень о камень, высекая искры, ну, голодовали, нищебродили, но ведь пели и смеялись, как говорит Зулус, кажинный день. И это чувство веселья пересиливало все пережитые тяготы… А тут сытый, удачливый мужик сидел напротив и хохотал, как неживая целлулоидная кукла, которой малыш надавливает на электрический органчик в животе.
– Значит, и ты мстил за деда…
– И ничего я не мстил, – противился Зулус. – У него была своя жизнь, а у меня – своя.
– А я говорю – мстил, – решительно настаивал Илья и обводил застолье победным взглядом. – Если бы не мстил, не было бы революции. Ты же Ельцина вытаскивал из реанимации, а сейчас клянешь. Ельцин – твоя месть за деда… И, вообще, хорошо, что народ заперли, не дают гужеваться, шляться по стране. Пусть сидят по своим избам, накапливают чувство мести, а не растрясают его по вокзалам. Это как железные опилки притягиваются на магните ворохом друг к дружке. И в старые времена разве крестьяне болтались зря по городам? А бабы… И жили ведь, растили детей. Весь свет – в окне. Только купцы, разбойники да монахи бродили. Да мужики с обозами… Дорогой профессор, разве я не прав?
Странно, но в словах Ильи я увидел искус, похожий на правду; вот так и изворотлива частная земная истина, если она излетает из уст блудодея. Нищета, оказывается, благо, утрата родства – благо, казарма – благо, смертоубийство и пошлость – тоже благо. Обездоленный народ сидит в своем кугу, жалкий и бессловесный, обрастает, видите ли, национальными чувствами, прижимается друг другу, как железные опилки к магниту, и тем самым не только сохраняется, но и копит месть для грядущей революции.
Но все перевороты сочинялись сытым человеком, а голодный сытому – не товарищ и будет спихнут с воза при случае где-нибудь в заснеженной степи.
– Мы же не блохи. Попил кровцы, нажрался мясца и в другой воротник прыг-скок, – вяло ответил я. – Национальное чувство хранится в ладной семье, где мир и покой. А в нищей семье копится зависть. Месть и зависть – отвратительные для русского человека повадки, совсем для нас чужие.
– Ваш навоз и пахнет слаже, а? Это, Павел Петрович, мазохизм, – засмеялся Илья. – Это ублюдочный мазохизм вымирающей расы…
– Не надоело трепаться? – отмахнулся от зятя Зулус. – Я тебе скажу: на всякого мудреца найдется ерш с протиркою, а что-то с горбинкою.
Лицо у Татьяны страдальчески сморщилось, она виновато посмотрела на меня и покачала укоризненно головой: де, простите, пожалуйста, в деревне все по-простому, без изысков. Я развел руками: мол, понятное дело, не мучайся, девонька, а сам меж тем старался запомнить присловье Зулуса в новом для себя варианте.
Хозяин выбил из пачки сигарету, пошел на улицу прохладиться. Выйдя следом, глядя снизу вверх на Зулуса, еще разгоряченный от словесной трепотни, я вдруг сказал в курчавящийся тугой затылок, будто выстрелил:
– Фёдор Иванович, а я недавно во сне тебя убил…
Кто дернул меня за язык? – не знаю. Видно, внезапный переход из света во тьму, из душной говорильни во вселенский покой, объявший деревню, повернул мою душу на это странное признание, коему не было верного толкования. Я ведь и шел-то к Зулусу вовсе по другому поводу, но, зряшно исполнив дипломатию, поставил себя в дурацкое положение. Но слово выпорхнуло и поймать его невозможно. Оно превратилось в энергетическое светящееся облачко и зависло на время где-то под фонарным столбом, слившись с голубоватым озерцом электрического света. Комары толклись там, мохнатые жирные бабочки, с гудением пролетали кургузые рогатые жуки, проносились, обдувая ветром лицо, летучие мыши, похожие на нетопырей. И в этом семействе живых существ, источающих тепло, поселилось в невидимом коконе мое жуткое сновидение.
Зулус пыхнул дымом, взглядом проводил белесый пахучий завиток и спросил, не оборачиваясь:
– А за што?
– Сам не знаю, – солгал я.
– Ладно, хоть во сне. А взаболь убивал когда-нибудь? – спросил Зулус, и голос его дрогнул.
– Никогда…
– А я убивал. В Афгане… И два ордена имею, – Зулус говорил хрипло, пережевывая слова вместе с махорным чадом. – Я был командиром взвода разведки.
– И не жалко было?..
– Жалко, не жалко… Война ведь. Иль ты его, иль он тебя. Пока дрыгается – жалко. А как затвердеет – бревно… А бревно чего жалеть… Ну пока, убивец. Пойду отдыхать.
Так и не взглянув на меня, Зулус вошел во двор, плотно запер ворота.
9
Дни убегали от меня, и я не мог поймать их за хвост и удержать. Мне неприятно было ложиться в постель, бессмысленно закапывать часы, живую жизнь превращая в мертвую; но как бы ни насиловал себя, как бы ни усложнял быванье, но время просачивалось сквозь пальцы, будто из дырявого жбана, сливалось куда-то в невидимое бездонное провалище. Время не пролетало мимо, словно летучая мышь, обвевая меня крылами, оно не теснило своими утратами, не казнило меня и не миловало, оно лишь мерно капало, будто из прохудившегося рукомойника, своим мерным звуком выбивая в моем сознании вроде бы беспочвенную тоску, кою можно было обозначить всего лишь одной фразой: «Жизнь уходит…» Моя, когда-то полная, нерастраченная жизнь превращалась, несмотря на все усилия, в «ничто», а что дальше поджидало меня за этим «ничто», сознание не хотело объяснить, а угрюмо, упрямо бастовало…
И что же я высидел за целый вечер? Хотя бы напился. И вот несу в себе бремя усталости, как недоношенное дитя, и так лихо, истомно всему телу, словно весь божий день горбатился на лесосеке с топором. Сейчас мне так понятны капризные, печальные создания с косо опущенными горестными губами, скучающим взором, что целый день тянут волынку, а к вечеру, когда солнце на закат, вдруг скрипуче говорят ближнему: «Боже мой, как я устала…» Прежде смеялся, слыша подобное, недоумевал: ну разве можно устать от волынки и безделицы, кода в жилах ярится молодая кровь и пар, как в машинном котле, требует спускного клапана? И куда же тогда растрачивает женщина свое кипучее, телесное, что обычно выпивается любой, до изнеможения, работой или любовью. Значит, изливается она в бестолочи словоговорений, в тоске взгляда, в бездумном шатании в стенах дома, в напрасных мечтаниях и воздыханиях. Бессмысленность положения, душевная незанятость изматывают, расходуют человека хуже подъяремного труда и лишают его всяких земных радостей. Вот почему от внезапного, зачастую необъяснимого порыва вдруг так желанны петля на шее, взрезанные вены, полет с девятого этажа, пуля, горсть клофелина, газ и т. д. и т. п.
Мое спасение – в моем мозгу, он шевелится под волосами, и слышно даже, как звенят эти колбочки и бутылочки в голове, притираются друг к дружке иль притесняют, скрипят, разрыхляют наносной ил ленности и высеивают цветы. И утекающее в пропасть время озаряется вдруг утешительным смыслом, и мое прозябание на земле исполняется особого значения, похожего на подвиг…
Деревня меж тем безмятежно спала, и месяц-молодик, почти лежа на спине посреди синей проруби, как игрушечный кораблик, выхватывал из тьмы лишь несколько изб у пруда, ветлу, похожую на облако, развалины церкви. Легкое серебро чешуею легло на куртинку камышей и узкий, с пролысинами света, мосток, на кулижку воды, похожую на вологодскую чернь; какой-то зверь, плюхнувшись с берега, поплыл вдоль мостков, оставляя в реке вспыхивающую жемчужную дорожку. Может, выдра пустилась на охоту иль водяная крыса, иль утка с выводком, иль бесстрашная ондатра, устроившая себе безмятежное житье в кореньях развесистого ивового куста. На западе, словно исполинские горы, высились недвижные темные тучи, и по ним, высвечивая ущелья и вершины, струились беззвучные молоньи. Сражение стихий шло на моих глазах, и я, ничтожный, никак не мог повлиять на его исход, но сам невольно был вовлечен в небесные страсти, и сердце мое бестолково маялось в ребрах и позывало на слезы; от грусти они копились иль от невыразимой красоты, которую я не мог запечатлеть, иль от одиночества?.. А может, от всего разом…
Скоро осень, подумал я отрешенно, скоро съезжать на зимние квартиры. Хорошо бы в моем заповедном месте кинуть сетчонку, не замахиваясь на богатый улов, можно взять на добрую уху. Линь еще не сунулся в ил, щука уже нагуливает жирок и скапливает икру, окунь скоро двинется в свои скрытни под затонувшие в быстринах деревья, да и всякая мелкая челядь, повинуясь зову предстоящих холодов, засуетится вдруг, стронется со своих пастбищ и косяком пойдет на ямы.
А зачем мне эта рыбацкая суета, этот безусловный риск, косые взгляды однодеревенцев, подсчитывающих в уме, сколько добыл профессор и за что ему такие милости от егеря, небось, подмазал москвич, позолотил ручку, и Гаврош закрывает глаза на его браконьерские ловы.
Да много ли мне и надо-то с матерью на щербу? Ну щучонку с полкилишка, пару окуней и всякой серебристой мелочи на рассыкаленку, чтобы загустить уху, создать ей особый северный смак. Любит моя Марьюша уху, ей обсосать язевое перо иль окуневое жирное звено – самое счастье; и, поглядывая каждый день на речку Проню, она вспоминает, конечно, свои родимые заветные дали, где уже не побывать, как ни обещает сын, семейный неводишко, ветшающий во дворе, удачливые тони и еще того, живого, тятеньку, выливающего из кута рыбье серебро в прогонистую вертучую лодку… «А сын не в деда, – почасту укоряет Марьюшка, – нет в тебе розжига, того азарта, когда удачливый рыбак, мотаясь по реке, живет мечтой об удачливой заре и верит в старинное присловье, похожее на заповедь: пола мокра, дак и брюхо сыто…»
Эх, мамушка, да не казни ты меня, но помилуй. В другие стихии я ударился, по иным стезям побрел да и заблудился невзначай, ибо слишком много воли себе взял, и нет надо мною другого закона, кроме своей отысканной Правды.
Семья была бы, семеро по лавкам – тогда иное дело. Жена бы жучила, гоняла бы по горушкам, не давала засидеться, засалиться и замоховеть; детишки, стуча зубешками, скулили бы ежедень: папа, дай! папа, дай! Разорвись, но дай, на что взгляд наивный упадет. Но я пока, как волк – зубами щелк, и ничего мне не посылается в потраву. Так, когда травки ущипнешь да и вплюнешь. Ни Бог не посылает, ни батюшка не благословляет, ставит под пупок препоны, де, седатый старичище, не ползи под костычище, но примеряй себе гробище… А я не создан для одинокой жизни, не создан, вот те крест, и нет на свете такого измерения, в каком бы я смог существовать в одиночестве, как монах.
Вот и век кончается, а вместе с ним и я обрастаю мхом, и последние силы, которые я мог бы пустить в доброе дело, уходят в распыл. Не забавно ли? Родился век при Распутине, а протягивает ноги при Путине. Один был провидец из крестьянской гущи, может, и святой человек, головою светлой в поднебесье, недаром все враги России так ополчились батюшку убить, чтобы вместе с ним закопать великое государство и поплясать на костях Романовых. И поплясали, живодеры, лихо повыкаблучивались, напялив наглые хари, чтобы скрыть свою бесовскую сущность. И как выродился народ с той поры, Господи! И какой мелкий пошел управитель. Нашелся пастушишко с холодными глазами кузнечика, взял бич и давай погонять стадо по российским пажитям, заталкивая в самые-то некормные места, чтобы вконец оголодало оно и при гласе сладкоголосом: «Спаси, Христе Боже…» протянуло ноги.
* * *Мать в своем куту мирно спит, вытянувшись, как покоенка, одеяло не ворохнется. Потерялась в окутках, только головенка, замотанная в темный плат, торчит, как отцветшая цветочная бобошка, да нос вертлюгом над подушкою, щеки ввалились, присохли к деснам, и нет в лице ни мясинки. Веки прикрыты не плотно, и чудится, что Марьюшка подглядывает за мною в щелки, даже во сне дозорит, чтобы ненароком не разлучиться, не попрощавшись.
На столе дожидается меня кружка простокваши, прихлопнутая блюдцем от мух, и кусок творожника… Эх, старинушка моя, заботушка… Постель любовно разобрана, плотный белый пододеяльник отогнут, крахмальная скрипучая простыня, пышно взбитое сголовье… Любушку бы сюда, в эту чистую постельку, тугую, как казачье седло, с натертою до блеска атласной кожею.
Греховодник, очнись, нельзя тебе по гостям шастать, ибо каждая баба, ненароком угодившая на жадные глаза, как сладкое наваждение, сразу сердце запахивает от тоски, что не с тобою сугревушка, а другому мужику перину взбивает… Что там скрывать, братцы мои, для постоянно влюбляющегося, вспыхивающего и безумствующего сердца нет ничейной полосы, нет белого флага. Мое, все мое, и только мое. И забыто заповедальное: «Не пожелай жены ближнего своего, ни вола его, ни раба его». Слышь, окаянный, не пожелай жены ближнего, хоть бы и на всем белом свете не сыскать краше ее. Прочитал «Отче наш» уже с закрытыми глазами, запахнувшись с головою в одеяло, погрузился в прозрачную речную заводь, где плавают русальницы с изумрудными глазами и семужьими тугими хвостами, будто серебряные бокастые язи. И меж ними, словно бы заключенное в резную раму, мерещит улыбчивое лицо Татьяны с загадочным мерцающим взором. Да чем же она краше тех девиц, что были у меня? Все бабы одним миром мазаны, одна другой стоит; уже с озлоблением, отпихивая привязчивый облик, стал вспоминать прежних подружек, с коими сближала судьба и вновь разводила, нарочно отыскивая в них дурное, чтобы, всех повязав в одну торбу, тут же сплавить в небытие.
Хорошо Марьюшка не знает о моих амурах, а то бы всю плешь проела, напоминая ежедень, что яблоко от яблони недалече падает. Сколько их было? – кто знает, но если перебрать жизнь, перетряхнуть усердно от пыли, то вдруг станется, что ни одного дня не было без подружки, постоянной или временницы, но все они с годами как-то перетасовались меж собою, будто карточная колода, некоторые напоминают запиской иль телефонным звонком, иль случайной встречею, многие же осели в прошлое, как в озерный ил, но порою, будто караси после зимней лежки, вдруг всплывают в памяти. Но ведь волокитою не был я, бабьим угодником и шалуном, все годы науку грыз, яко мыша сухарь, и до плотского ли было, кажется, мне? А вот поди ж ты… Только жен оказалось четыре, помимо той, последней, о которой постоянно горюет матушка: арфистка, актриска, курсистка и марксистка.
Арфистка была колченога и, обняв свою бандуру мягкими круглыми коленками, возведя кукольные очи, она самозабвенно щипала струны, будто раздергивала овечье руно. У нее, как помнится, были пепельные волосы кренделем на макушке, горбатый нос и мелкий вялый подбородок. Арфистка была пикантна тем, что имела на правой ягодице рыжую бородавку, тяготилась ею и потому постоянно спрашивала, как мне нравится ее сокровище. Когда я внезапно охромел и стал лечиться у Елизарова, то отвез арфистку к знаменитости. Хирург жену удачно выпрямил, и однажды во хмелю, забывшись, арфистка нечаянно открылась мне: «Ты знаешь, Павел, Саша Джабраилов считает, что бородавку можно удалить». Я все понял, и мы расстались без взаимных оскорблений, как лучшие друзья.
Сменила ее актриска: плотная, на голову выше меня, с толстыми зазывными губами и коровьими темно-сизыми глазами. Хорошо нагрузившись, она любила во хмелю ходить голой по квартире и, будто бы забывшись, выскакивала на лестничную площадку и поджидала лифт, чтобы подсмотреть, кто приехал к соседям. В деревне ей нравилось, раздевшись донага, скакать перед низким окном, воображая себя балериною, так что шлепали в нос великаньи отвисшие груди. Однажды, боясь обидеть чувственную натуру, я мягко намекнул: «И что ты выпялилась перед окном, Зинуля? Это же деревня, здесь другие обычаи, и народ может не так понять». – «А мне наплевать на твой народ», – с гордостью ответила Зинуля. Завязалась, как водится, перепалка, что нередко случается у любящих. Она пробовала огреть меня скалкой, я звезданул актрисе кулаком промеж глаз. Актриса свалилась на пол, некрасиво раскорячась, и на лбу вспыхнул багровый рог. Зинуля встала, собрала чемоданишко и укатила к себе. У нее была своя квартира, и развод принес взаимное облегчение. Я понял: на чужой каравай рот не разевай.
Потом появилась «курсистка». Она посещала уроки «макраме». У «щирой дивчины с под Кыива» были глаза, как перезревшие маслины, и широкие плечи штангиста. Не успела курсистка толком украсить рукодельем крохотную нашу квартирешку, как накатили с Украины, чтобы пожить с нами, два ее ненавязчивых братца, которые тут же приценились к моей библиотеке и стали таскать книги на барахолку…
Сменила же ее «марксистка». Она служила на кафедре политологии, была не глупа и привязчива. Спокойные серые глаза, курносая, насмешливая, сочный румянец на щеках. Постоянно таскала с собою в сумочке «родословное древо Маркса» и хвалилась в институте, указывая на боковую крохотную веточку, листочком на коей вылупилась она сама – Люся Смоленская. Я однажды ненадолго отлучился в институт за нищенской зарплатою, а, вернувшись, застал «марксистку» в нашей кровати с сантехником, приглашенным починить кран. Слесарь изучающе поглядел на меня, не найдя для себя угрозы, неторопливо оделся и, поигрывая разводным ключом, удалился. Люся опустилась на колени и заплакала, прося прощения, но глаза в ту минуту были отчего-то ужасно злые. Я действительно был виноват, что не вовремя вернулся, но прощения просить не стал…