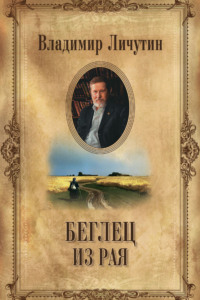
Беглец из рая
У русальниц оказались лица моих бывших супружниц, они улыбались, беззвучно окликали меня, разевали рты, пуская ожерелья пузырей, похожих на бисер, и взлягивали тугими хвостами, готовые приласкать меня по лобешнику. Тела их от пупка и ниже, покрытые серебристым клёцком, словно кованой кольчугой, жирно лоснились и по ним, будто судорога любви, пробегала ярая дрожь. Я едва уворачивался и, не сердясь, грозил им пальцем, норовил ухватить резную раму, посреди которой мерещило и меленько рябило грустное личико моей Танюши, еще не обернувшейся в русалку… Вот так и маялся всю ночь средь оборотней, пылая любовью, горел огнем, и речная заводь не могла охладить мой пыл. Я сознавал, что это лишь сон, забавный и яркий, но распаленная плоть охотно отдавалась ласкам, недоступным в земной жизни. Водяницы заманили в свой хоровод, закружили, затерзали, испили до донышка, и я, задыхаясь, удивляясь, что так долго могу жить без воздуха, ярился сам и не отступал перед заманухами. Странно, что в прежней жизни эти речные обавницы были со мною так постны, так сухи и желчны, вечно усталы и тоскливы, когда любое неурочное прикосновение они считали за покушение на их свободу. Значит, каждая баба в своей стихии – откровенная прелестница, если распечатать ее и выпустить на волю. И я готов был умереть, чтобы угодить им.
Я вынырнул из омута, потому что кто-то жальливый стал звать меня с берега и не мог докричаться. Я с испугом подумал, что дома осталась мать, а я уже превратился в зверя, и в прежнюю шкуру мне уже не вернуться никогда, и с яростью, почти с ненавистью, отталкиваясь от скользких, отвратительно-змеиных тел, рванулся наружу, в верхние пласты воды, под синь-небо, под ярь-солнце, чтобы хоть в крайнюю смертную минуту увидеть себя человеком. Вот, говорят, де, в тело вмещается воздуха больше, чем в легкие; он заполняет каждый сосудец, каждую телесную жилку, каждую крохотную волоть, которая, слепившись с соседней мясинкою, живет, однако, сама по себе, как былинка на лугу. И на этих-то последних бисеринках воздуха, словно бы подхваченных с губ русалок, что хранились в закоулках плоти, как в крохотных неприкосновенных кладовых, я и вынырнул под небо, разбивая головою ряску и жирную кугу, и жесткие сковороды лопухов, ослепительно сияющих лилий с упругими жиловатыми стоянцами, похожими на розовые канаты, коварно, предательски путающие мои ноги. Эти нежные с виду цветы, словно бы высеченные из италийского мрамора, были, оказывается, холодны и упрямы и не хотели отпускать меня от русальниц, как и их, посчитав за своего полонянника…
Старбеня Анна, содрав с моей головы одеяло, высилась подле, как Кутафья башня.
– Ну и спать ты здоров. Не могу докричаться. Жены на тебя нету, лежень. Прибрала бы тебя к рукам, ходил бы по жердочке, – громогласно воззвала старуха, презрительно изучая мой тщедушный заспанный вид. Не найдя ничего примечательного, опустилась у меня в ногах. – Мати-то где? Обыскалась, нигде нету…
Спрашивала о Марьюшке, но судя по тому, как плотно уселась на диване, устало кинув разношенные ладони в подол юбки, не больно ее интересовала моя мать. Я с трудом выдирался из сна, и вид у меня был, наверное, глуповатенек. Я еще резвился в реке, притирался к бокам и спинам русалок, готовый излить молоки, я чувствовал их ярь, их тинистый горьковатый запах, шелковистую прохладную кожу, налитые, как арбузы, груди с бордовыми сосками, серебристые сполохи тугого, как у акулы, хвоста, шумно бьющего по воде, и жалел, что покинул их снова, вернулся к такой скучной, размеренной земной жизни. И одного лишь не мог вспомнить: сам-то я кем был? Сом-сомище с тупым рылом и по-казачьи обвисшими усами иль свирепый бобр-бобрище?
Нет, братцы, такие чувственные перепады выдержит не каждое здоровое сердце, пойдет вразнос.
Старуха не замечала, что сидит на моей ноге, а я не мог ее вытянуть из-под костистой задницы и терпел эту тягость, потому как она неожиданно помогала мне вернуться в явь. Так боль перемогают болью, а страсть новой страстью. Я жил в Жабках, закопавшихся в поречные травяные кочки, а весь огромный блистающий мир, сверкая огнями, шумно пролетал мимо, не задевая меня, оставляя в одиночестве посреди вселенского покоя около кладбищенских могил. Вроде бы ничего особенного и не случилось за лето, не считая гибели Славки-таксиста, но между тем я каждый день словно бы взбирался по лествице в небо, убегая от грехов и коварных прелестей, догоняющих меня даже во сне, терзающих и вострящих душу. Когда душа не устроена, то в ней свищут сиротские ветры, и жизнь тосклива и бессмысленна. А я в этой глухомани сжигал себя пуще, чем в столице в гуще людского варева…
– Мой-то идол опамятовался. Поехал на велосипеде в Тюрвищи забирать заявление. Артём, голова ломтём. Задним умом думает… Зулус-то шибко горячился?
– Да нет, был веселый, – соврал я. – Песни пели.
Анна невесело уставилась на меня звероватыми глазками, видно, думала неясную думу, а словами выразить пока не могла.
– Кишки-то нажгли?
Я беспонятливо уставился на старуху, вяло улыбнулся.
– Бутылку-то всю выжорали? Небось выжорали, да и другую Зулус приспел? На кулачиках-то не мерялись?
– Да ну тебя, Анна, честное слово, – я засмеялся, неожиданно веселея. – Ты же знаешь, что я не пью… Ни рюмками, ни гранеными стаканами, ни оловянными кружками, а только ушатами да палагушками…
– Мой-от покойничек тоже говаривал, я, де, не пью, а лечуся. Нашли лекарство. Уж худой лежал, еды желудок не примал. Найди, говорит, выпить. Ну я нашла, от Гавроша прятала. Дед с палец выпил, нет, откинулся на подушку, глаза закрыл и говорит: «Сразу помягчело. Хорошо-то как. Остальное, как помру, положи в гроб. На том свете выпью». Я так и сделала… Вот вам, мужикам, до чего вина хочется. Иному и женщина не нужна, а вино подай. Он-то, Зулус, тоже огоряй хороший. Так-то тверезый, ну а как запьет, тут… И мстительный такой сразу делается, спуску не даст…
Анна, чувствуя ягодицею мою лодыжку, нарочито помялась на моей ноге, сделала удивленные глаза:
– Да у нас, кажись, там что-то есть? И неуж такой ядреной? Ха-ха! У Левонтьича, твово соседа, вот такой, – старуха раздвинула ладони. – Он в сапог закладат. Мне-то все гоношится: Анна, пойдем за баню. Ха-ха…
Я покраснел, осторожно вытянул из-под старухи отекшую ногу, с нетерпением ожидая, когда явится Марьюшка и освободит меня из полона.
– Анна Тихоновна, вы меня, честное слово, просто удивляете. О Боге пора думать, а вы… И неуж сердце просит?
– Баба до смерти любви хочет, – убежденно сказала старуха, пошевелила истерзанными крестьянской работой пальцами, сжала в кулак. – На что похож? – сунула мне под нос. – На сердце похож. И тоже до смерти работает на износ… Вот ты акгрисульку сюда возил, у нее титьки были, как подушки. А я чем хуже? – Анна гордовато повела плечами, покрытыми бордовой нейлоновой курткой, и даже присбила, красуясь, легонький цветастый платочек. Оборчатые сизые губы разошлись в хвастливой улыбке, показался железный подбор зубов. При виде разыгравшейся старбени я даже похолодел слегка и внутренне сжался, словно бы долгий ночной сон вдруг получил неожиданное продолжение, и та самая русалка, спрятав чешуйчатый рыбий хвост под юбкой и наведя густой грим на лице, решилась сыграть роль престарелой любодевицы, у которой сердце ярится и не дает покоя…
Все шутки, конечно, деревенская игра: в любой избе и не такое представление застанешь, если угодишь на праздничные потехи иль на семейные свары.
– Я тебя, Анна Тихоновна, боюсь. Честное слово, боюсь. Мне с тобой не сладить. Ведь, как из загса, то с улицы в дом надо невесту на руках занести. Как я такую медведицу вздыму?
– Дурачок ты, дурачок. Да я сама тебя занесу. Ты меня не бойся, Павлуша, ты Зулуса бойся. За ним горя ходят. Такой он меченый.
– За всеми нынче горя ходят, Анна Тихоновна. Покажите мне веселого человека…
– Веселого мало, Павлуша. Зулуса Бог пометил. Да… Когда его с работы попросили, он вернулся с северов в деревню. Грунюшка, его мать, уже на лавку села, ногами пухнуть стала. Ну и оказалась, значит, в обузу. Зулус справки в сельсовете выправил, что Грунюшка безнадзорная и бездетная. Врачам ручку подмазал. Грунюшка-то умоляла: «Феденька, допокой, мне уж недолго осталось жить». Тот ни в какую. Ну и услали Грунюшку под Владимир в богадельню. Через месяц она и помри. Привезли в Жабки хоронить, не узнать было подружку. Вся искарябана – и лицо, и руки, будто кто драл женщину. А правая грудь вся синяя, как чугун. Может, с той поры пошли за Фёдором горя? Тут меньший брат по пьянке попал под поезд: нашли лишь руку и голову. Вместе возвращались с гостьбы. Тут поезд… Зулус-то перебежал, а Венька споткнулся… Хоронил брата, сильно плакал. Где-то вскоре поехал с племянником в гости за Тюрвищи. Выпили, посидели, стали возвращаться. Племянник и говорит: «Дядя, дай порулить. Пустая дорога». Зулус-то и отдал руль. Парень машину не смог остановить и въехал в угол своего дома. Жигули крепко пострадали. Зулус и говорит: «Забирай эту машину. Эта машина мне не нужна. А давай деньги на новую». Племянник-то ему, мол, где я возьму тебе такую сумму. «Это уж твое дело», – Зулус-то ему. Ну, племянник зашел в дом, а там у него было ружье. Вернулся на крыльцо да и застрелился на глазах у дяди. Вот, Павел Петрович, рассуди попробуй, чья вина перевесит… А зачем дал порулить? Опять же выпимши были…
– Не отдавай в чужие руки жену, машину и ружье, – неловко пошутил я.
Действительно, что-то странное, роковое складывалось именно с Зулусом, и он не мог противостоять этой сети несчастий, похожей на безжалостное улово. Залучило, опутало по рукам-ногам, потянуло на дно; иль отдаться покорно, памятуя о том, что у всякого кружила есть дно, и когда-то крученая струя вернется вверх, иль барахтаться до последнего, чтобы выбиться из сил и потонуть. У всякого человека случается подобный выбор, но его не подгадываешь загодя, а он сам подстерегает тебя, а уж как угодил, тут и решай, суетиться ли тебе иль во всем довериться судьбе.
– Столько смертей на одну голову. Тут и каменное сердце не сдюжит… И зачем отрубился племяннику? Мог бы как-то иначе. А то и парня потерял, и машины не вернул.
– Вспылил сгоряча. Много мы лишнего говорим сгоряча… Вот и ты своему Гаврошу молишь: «хоть бы ты сдох с вина, хоть бы залился», – мягко укорил я соседку.
– Дак ведь зло возьмет! – вскричала Анна, не тая голоса. – Пьет и пьет, лешак. Думаешь, хоть бы запился, да отплакать разом, чтобы не мучиться…
– Ты вроде бы сгоряча посулила, а слова твои – судейский приговор. Они, как тавро, на крупе лошади, как метка. А мы так любим обижать ближнего, не замечая, что слово особую силу имеет.
Глаза мои увлажнились от проникновенного тона, даже в голове замурашилось, и я чуть не заплакал. Чтобы не выдать непрошенную слезу, я заскоркал ногтем по одеялу, словно нашел сальное пятно.
– А вы своих матерей почитаете? – закричала Анна. Мое покорство лишь поддавало жару. – Вы своим матерям жизни даете? А ведь она спородила, выкормила… Вот и Зулус зачем мать не допокоил? Она-то ему: «Сынок, не спроваживай меня в богадельню. Хочешь, на колени встану. Не долго ждать-то осталось, потерпи… Умру, так после наплачешься». А он врачу подмазал, чтобы справку дал. А теперь вот и собирай горя. Все! Назад лошадь с кладбища не возит.
Я не отзывался, морщил пальцами белоснежную наволоку и во всем, безусловно, был согласен со старухою, хотя и были в словах ее какие-то закорючки, что цепляли мой ум и загоняли в тупик. В какой же страдный день был Зулусу высказан остерег, но он не внял ему. Откуда и зачем было ведать соседке, что моя головенка уже лет двадцать не знает отпусков и соображает, глупенькая, над каждым словом, разнося их по невидимым каталожным ящичкам.
– Вставай, лежень! – уже остывше, приговаривала Анна. Пыл ее иссяк, и бабьи мысли скинулись на постоянные домашние заботы. – Уже обедать пора, а ты еще и в тувалет не ходил…
– Откуда знаешь? Подсматривала, что ли?
– Да глаза красные, как у окуня, – грубо ответила старуха.
Анна со скрипом встала, долго разгибалась, кряхтя, разламывала поясницу и так, на полусогнутых, будто громадный рак-каркун с отвислыми до полу клешнями, потащилась к порогу, а там, взявшись за ручку двери, вдруг решительно выпрямилась и вновь обернулась медведицей.
10
Ночью страсть как донимало плотское. Это все от тоски-злодейки, от одиночества, от неясных дурных предчувствий, от нежелания доживать последние годы в бобылях, на сиротской угрюмой койке, когда и стакана воды будет некому подать. Это в народном представлении самое страшное. Самые бесхитростные слова, коими обычно укоряют холостяжку-перестарка, де, доживешь вот до таких лет, что один належишься, и глотка воды никто не подаст, но в них-то и скрывается драма человечьего бывания, его предназначения на земле – свить гнездо, укупорить его так, чтобы не подточили сеногнойные дожди и не обрушили бури, да наплодить детишек мал-мала, чтобы по ним, когда вырастут, продлилась родова, а значит, и человечья память. Ибо истина в том, что искренняя память хранится не в мраморных плитах, не в кладбищенских надгробиях, не в гранитных склепах, но в человечьих головенках, в коих вроде бы так непрочно запечатлевается образ ближнего, но, кочуя по цепи прекраснодушных людей, он вдруг обретает, воистину, вечный смысл. И особенно, когда ты творишь дела доброчестные или крепко злодейские, от которых леденеет кровь…
Еще возвращаясь от Зулуса и озирая одичалым взглядом едва проступающие из тьмы изобки, тусклую льдинку воды в обмелевшем пруду, серебряную рыбку месяца, я вдруг решительно подумал, как о последнем спасении, как вернусь в Москву, так сразу приду на исповедь к отцу Анатолию и попрошу благословения на женитьбу. Взмолюсь, паду в ноги, вот, мол, спасу нет больше, возложил ты на меня терновый венец, ярмо несносимое; де, где я сыщу вдовицу иль девушку невинную, да чтобы мне годами вровню, ибо куда ни кинешь взгляд, к кому ни присмотришься, и коли мила сердцу, то обязательно она иль разведенка, иль мужняя жена, иль слишком юна, иль капризна и требовательна не по уму, иль слишком благочестива – почти ханжа, или монашена в миру, иль денег больших хочет, не трудясь, иль детей, опять же, не терпит. Сколько препон, сколько всяких неурядиц встает на пути благочестивого человека, если он решил обзавестись семьею.
Был же у меня приятель, художник, у которого умерла любимая супруга, и по прошествии времени, не стерпя одиночества, решил он в другой раз жениться, с этой мыслью начал поиски подруги и чуть не сошел с ума. Он хотел рассказать мне о своих злоключениях, но в тот самый вечер, когда я должен был прийти к нему на квартиру, милейший человек вдруг вздел себе петлю на шею. Урок, который он собирался преподать, так и не дошел до меня.
Вот и спрошу батюшку: и неуж ты мне желаешь подобного зла иль хочешь закрепостить в одиночестве ради науки, ибо много тут мне видится умышленного, почти неистового, отчего ум мой приходит в некоторое смятение. Скажу, разреши мне взять в жены ту, что мила взгляду и незлобива, хотя бы и моложе была намного иль разведена. Ведь ровня-то кроится по душам, а не по летам. Вот выскочит, к примеру, девушка за погодка, а тут вышли из магазина – и сверху кирпич на голову. К кому претензия, батюшка? То-то… Взмолюсь, окаянный: «Ну не могу я один жить, ну не могу, живым умираю: что ни съем, отравлюсь, что ни одену, простужаюсь».
Есть тут одна на примете, поет на клиросе. Ну прямо – ангел. Как взгляну на девоньку, сердце кровью обливается, столь ли хороша, ну прямо всем взяла: и повадками, и фигуркой, и взором, и голосок умильный. Взгляды столкнутся – сразу очи долу и на щеки румянец. Стеснительная, значит. Перебросились словом, другим. Однажды взял быка за рога, спросил, согласна ли за меня замуж? Головой кивнула: да. Прошептала: «Если батюшка согласие даст». А батюшка ни в какую, де, не по себе сук рубишь, не по твоим летам кобылка: иль она тебя с седла сбросит, иль ты ее до сапа загонишь… И пришлось мечты те из головы выбросить. А сколь хороша-то, другой такой во всем мире не найти. Это ж какое счастье, вставая по утрам, видеть ее возле.
Оглянусь, в окнах Зулуса яркий свет. Вот где сладкая-то жизнь, аж слезы на глазах вскипают. И за что же тебе, колченогому, такая немилость, отчего Танюшка не с тобой окольцована, а с этим хмырем, у которого кадык прыгает, как куриное яйцо, а в глазах ни теплинки, сплошной холод. А я бы эту женщину на руках носил, как пасхальный куличик, пылинки бы с нее сдувал, ведь во мне столько ласки скопилось…
А ночь лишь минула, и все недавние переживания, как хмарь, как дым костровой весенний, от запаха которого вдруг так истомно встопорщит сердце, будто от молодого вина. Но, однако, все блажь – и больше ничего. Если от каждой юбки кружит голову, значит, не видать тебе крепкой семьи.
Да нет же, нет, негулеваня, не волокита и никакой не донжуан, чтоб пенки невинности снимать. Тревожит один и тот же тип русской девушки, как бы слепок с недосягаемого образа, и невольно отражение его накладывается на каждую встреченную, и душа иль сразу отвергает ее, иль обмирает. Это на небесах для каждого парня высватывается своя голубица, своя княгинюшка, и эта икона, спускаясь на землю, как бы запечатлевается в сердце суженого, и он ее хранит в себе до скончания жизни, не зная, откуда в нем зародился идеал и почему о нем такая тоска. Иное дело, что очень редко в толпе отыскивается завещанная и чаще всего – случайно. И тогда ты повенчался с невестою не просто в церкви, а на небесах, и в храме возле налоя обряд был лишь повторен…
Какой красивый миф насочинял я, психолог Хромушин, в оправдание своей семейной нескладицы. Де, не совпало-де, поторопился и заблудился-де, помануло и обернуло… Увы, последнее, пожалуй, самое правильное, кота в мешке берем за себя; невеста – чистый ангел, а в жизни – сущий дьявол в юбке. Вот и пойми их, крапивное семя – женское племя. В народе-то куда все проще: «Бери быка по рогам, парня по мудям, корову по вымени, а девку по имени». Это грубоватое присловье, наверное, восходит к тем древним временам, когда будущая свекровь осматривала невестку, а тесть – зятя. А может, говорилось: «Бери парня по трудам» иль «бери парня по родителям», по их достатку, норову, благочестию. И не мила вроде бы первое время, да после стерпится-слюбится. А еще говорят: «Бери за себя ту, которая на тебя смотрит». Или: «Бери ту, которая глянется».
Мудер ты, Павлуша, задним умом. Уж вторые петухи пропели, а ты вновь семью водить собрался. Как бы не наплакаться после. Пора деревянный бушлат примерять да место на горке присматривать, старый хрыч. Бес тебе в ребро, ей-ей. Нейдут, милый, тебе все науки впрок. Но других учить шибко любишь, хлебом не корми.
* * *Марьюшку я нашел в заветном уединенном месте, куда она частенько забивалась, как в скорлупу, словно бы возвращалась назад в материну рожалку, и, свернувшись в клубочек, подтянув колени к подбородку, замирала надолго иль свертывалась в клубонечек, будто улитка в укромной пазушке боровика, прильнувши к теплой, пахучей, ноздреватой бахроме.
На замежке в дальнем конце огорода, где из года в год лежат нетревожные суходолы, повитые мелкой шелковистой осотою, растет могучий вяз, подпирая головою кучевые облака, а то и пронизывая макушкой слоистые дождевые ряднины, выстилающиеся над деревней. Сколько лет этому великану, в Жабках не припомнят, но верно, что стоял он еще в те поры, когда деревеньки не числилось, но жил на пустошке однодворец – рыбак, не убоявшийся половодий и приткнувший свою хижу под самый берег реки. А тогда времена были иные, и Проня была иной, лихой, полноводной, струистой, по ней гоняли плоты и таскали бурлаки баржи, по ямам водились трехпудовые сомы и пудовые щуки, а с Оки заходили судак и стерлядь. Вон тот, дальний, синеющий ольшаниками берег и выдает прежнее, давно утраченное русло, которое со временем скукожилось, ее дивные разгульные вешницы, когда льды, похожие на стада разлегшихся тучных коров, выставляло аж на домашний крутой берег (где нынче кладбище), к которому и приткнулись покорные Жабки.
Мне нравилось измерять охватом рук кряжистый ствол, теплый, шероховатый, с глубокими трещинами от старости, будто изъеденный поползухами. Он словно бы покрыт был глинистосерыми лемехами, малахитовыми по швам, ловко укладенными друг по дружке мастеровитой рукою, без единого гвоздя и особого клея иль вара, надежно защищающими твердую, как железо, болонь и незатихающее сердце дерева. По моим примеркам, вязу было лет за двести, корни, как сытые питоны, выпирали наружу; словно бы из клубка полусонных щупальцев осьминога, прорастала длинная шея с крохотной волосатой головенкой, высматривающей, что творится в небесах под самым солнцем. Вяз вполне мог бы стать капищем для древлян, новых язычников, верующих лишь в дух сырой земли, как матери-роженицы. Если бы оказался он волею судьбы где-нибудь в ковыльной степи, то к нему бы со всего света потянулись паломники, вывешивали бы по корявым ветвям разноцветные лоскутья, откалывали бы от великана осколки коры для лечения зубов и почечных колик. На вершине его наверняка бы гнездился орлан – владетель местных уловищ. В жаркий день одинокий путник обязательно бы бросил на припорошенную трухою землю свой потасканный пиджачишко и, не долго разглядывая цветные ленты, трепещущие под ветром, смежил бы веки и задал бы короткого, но весьма полезного для здоровья храповицкого.
Приобнимая тело великана, с одной стороны рос разлапистый можжевеловый куст, чудом пробившийся на чужинке, и в этом месте оказался засидок, сторожка, скрытая, куда можно было упехаться в знойный день, бросив под ноги пальтюшку иль поставив сидюльку. Матушка же моя положила туда дощечку и обжила потаенное место, хотя, казалось бы, чего прятаться от людей, в избе не семеро по лавкам, не надоедят криком. Значит, даже я раздражал Марьюшку порою своим присутствием, выдавливал ее из кухни, заставлял искать одинокого места, чтобы полностью отдаться своим мыслям. Старая без людей тоскует, потому часто вылезает на лавочку перед избой, чтобы переброситься словцом с проходящими иль просто поглазеть, иль ползет к соседнему палисаду, где уселась на скамье на долгую минутку другая старбеня, но краше всего, оказывается, монашьи минуты полного утекания в тишину, растворения в матери-природе, превращения в безмолвную соринку, затерявшуюся меж древесного праха.
Осторожно, стараясь не шуршать осотой, я подкрался к вязу, опустился на колени, в прожилках меж паутины молодых веток, густо опушенных еще не затвердевшей хвоею, отыскал глазок для тайного досмотра. Как я и представлял, Марьюшка моя ютилась там, уткнув голову в острые коленки, и о чем-то думала, присомкнув веки. Сумеречно было в схороне, и от зеленого туманца, витающего в шалашике, лицо Марьюшки казалось тонким, нежным и молодым. Приобвяленная темная кожа как бы вобрала в себя все морщины, прильнула натуго к скульям, и сейчас мать моя походила на древний староверческий образ Богоматери, чудом покинувший деревянную досточку. Платочек шалашиком, присдвинутый на затылок, тонкие волосы на пробор, отложной воротник кофты, скрывающий худую потрескавшуюся шею. В каких просторах она парила умом, в какие дали слетала, о чем помыслила? А может, ни о чем и не думала, изнежась плотью в прохладе скрытни, а просто отдыхала всем измаянным, изжитым существом своим, сливаясь с матерью-землею, готовясь к переходу в ту заветную пустыньку, откуда нет возврата. Итак, погрузившись в себя, Марьюшка могла сидеть, не шелохнувшись, и два часа, и три, пока стылость от древесного праха и шершавых кореньев не проливалась в ее измозглые кости и нытье старых мослов не доходило до сердца, и тогда Марьюшка выпрастывалась из плена раздумий и, пошатываясь, как бы хмельная, огородом спускалась к дому, чтобы снова хлопотать обрядню.
Спросил однажды Марьюшку: «Мама, о чем ты думаешь, когда вот так сидишь?» – «А о чем, сынок, думает старый человек? – просто ответила Марьюшка. – Старый человек думает о смерти с утра до ночи. И помирать бы надо, пора приспела, и помирать неохота…»
Сейчас, занятая собою, телом своим слившаяся со шкурой вяза-великана, она, казалось, была уже по ту сторону света, уже недостижимая для меня. Я испугался внезапно, что могу потерять ее навсегда, и тихо позвал, стараясь не выпугать:
– Мама!..
Марьюшка не всполошилась, нет, она даже и не вздрогнула, но мерно перевела остывший взгляд в мою сторону, нашарила меж розвеси ветвей мои глаза и спросила сухо:
– Ты давно здесь?
– С год, наверное, а то и поболе…
Но Марьюшка не поняла моей шутки, тревожно вскинула голову, как будто разговаривала с привидением. Она неохотно возвращалась с той стороны, и только жалость ко мне пока оставляла старую на этом берегу.
– Ты взаболь?..
– Не вру… Мама, а можно я посижу рядом. Ты – щепинка, я – щепинка, прильнем и уместимся. Мне много места и не надо. А то мы всегда разделены то обеденным столом, то ненужным разговором, то печалями, то заботами. Ты, как птичка болотная, как турухтанчик, – один нос, – посмеялся я, стараясь вывести матушку из страны смерти. Я отчего-то догадывался, что она сейчас побывала там, и грусть от встречи с будущим все еще держит ее на расстоянии от живых.