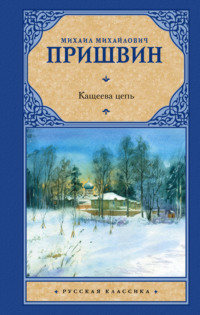
Кащеева цепь
– Очень миленькая! А вы бычка своего продали?
– Симментала? Нет еще.
– Вы променяйте мне его на телушку, я давно мечтаю о симментальском бычке.
Курымушка все это слушал и по-своему понимал. И когда Дунечка прочла ему свое любимое стихотворение:
Жандарм с усищами в аршин,
И рядом с ним какой-то бледный,
Полуиссохший господин,
Курымушка понял, что бледный господин и есть он, тот Самый Га-ри-баль-ди, и он Дунечке все равно как старец Софье Александровне; а у мамы только Банк и она сама. Но почему же, бывает, мама иногда так просияет, будто всем солнце взошло, а Софья Александровна и Дунечка так не могут? «Работать на ле-галь-ном положении хуже», – думал Курымушка.
Земля и воля
Задавались вечера, и это называлось «гости», когда и Дунечка была, и Софья Александровна, и еще другие соседи – все больше женщины. Тогда ужин оттягивается надолго и Курымушку развлекают, чтобы не уснул. Кто-то поет ему песенку:
Ах ты, воля, моя воля, Золотая ты моя. Воля – сокол поднебесный, Воля – светлая заря.
Матери песенка эта очень нравится, она говорит:
– Какая все-таки светлая эпоха была. Я венчалась как раз в шестьдесят первом году.
А за дверью громкие вздохи и кашель.
– Кто там?
– Я!
– Гусёк?
– Так точно!
– Тебе что, Гусёк?
– К вашей милости.
– Ну, что? – Землицы!
– Вот те раз! Ты с ума сошел. Какой тебе землицы?
– Дозвольте крайнюю десятину взять, я отработаю.
– Ты отработаешь? Господь с тобой, знаю я, как ты работаешь: тебе бы только перепелов ловить.
И просветлив потемневшее лицо:
– Нуте-с?
Это значит: «Ну, продолжайте то, хорошее, о чем говорили».
– Тетенька, милая, не говорите этого нашего ужасного купеческого «нуте», ведь это с лошадей взяли, лошадям «ну», людям «нуте». Слышать этого не могу! Да еще слово «ер».
– Спасибо, Дунечка, правда, нехорошо, надо отвыкать. Не буду, не буду.
И, вспомнив опять это светлое время эпохи освобождения крестьян, вся сияя от радости, гостям говорит:
– Нуте-с? Прежний голос поет:
Не с росой ли ты спустилась, Не во сне ли вижу я?
Знать, горячая молитва
Долетела до царя.
Дунечке это не нравится, она не любит царя: – Какое старье ты поешь! И читает:
Добрый папаша!
К чему в обаянии
Умного Ваню держать,
Вы мне позвольте при лунном сиянии
Правду ему показать.
– Какую же правду? – спрашивает Софья Александровна.
– Правду какую? Вот:
В мире есть царь, этот царь беспощаден…
– Ты, Дунечка, – говорит тот голос, певший «волю», – вся на мужиках сосредоточилась, тебе безлошадные, двух-лошадные больше значат, чем Пушкин и Лермонтов.
И поет этот голос такую песню, лучше какой Курымушка после уж никогда не слыхал:
И звук его песни в душе молодой Остался без слов, но живой.
А мужик все вздыхает в передней.
– Ты разве не ушел, Гусёк?
– Никак нет.
– Что тебе от меня надо?
– Землицы.
– «Землицы, землицы»! Затвердил Якова, одного про всякого. Я бы на твоем месте и носа не показала сюда. Ты намедни скородил?
– Скородил.
– Борону ты сломал?
– Я? Лопни мои глаза, провалиться на месте, ежели я.
– Кто же сломал?
– Сама сломалась.
– Сама! Уходи, уходи, нет у меня для тебя земли! Откуда я тебе землю возьму? Не могу же я всех землей наделить.
– Сделайте божескую милость.
– Ухо-ди! Нет у меня земли.
– Какую-нибудь завалящую.
– Господи, закройте ж там дверь, что же это такое, собрались посидеть, и нет ни покою, ни отдыху! Такая жажда земли, а мы тогда думали, ка-ак хорошо будет, такая светлая эпоха была!
Только собралась опять с духом и сказала свое «нуте-с» – в передней новый шум, топот, отхаркивание, отсмаркивание; староста Иван Михалыч робко приотзынул дверь.
– Что там?
– Мужики пришли.
– Вот те раз! Те?
– Те самые, намеднишние.
– Что им надо?
– Земли просят: запольный клин.
– Рожна им! Запольный клин хотят энти снять.
– Энти посильнее.
– Ну, скажи им: «У Марьи Ивановны гости, занята». И только выбрались те мужики, Иван Михалыч опять приотзынул двери.
– Энти! – шепнул. Мать моргнула.
«Энти» – богатые мужики, они, может быть, даже и задаток принесли, их, может быть, надо и водкой угостить. Дверь отворяется настежь, вся столовая наполняется запахом тулупов. Мать делает вид, будто ничего не знает, зачем пришли мужики, и даже старается их припугнуть.
– Что вы пришли?
– К вашей милости.
– Ну что… к милости?
– Пожалейте нас!
– Мне вас нечего жалеть, вы меня пожалейте. Перечисляет все их преступления за лето.
– Это не мы, – защищаются «энти» мужики, – это те, они разбойники, а мы…
– Те, те! – сердится мать. – А чьих загоняли лошадей?
– Мы прикоротим!
– И в саду копыта видела!
– Это те.
– Ваши копыта!
А задаток уже показывается в руке старшего из «энтих». Поладили скоро. Мать, довольная, направляется к горке, и там, в этой горке, там наверху только для виду стоят красивые вещи, на нижних полочках за дверцами четверти с водкой, бутылки с наливкой, уксус, пузырьки с лекарствами. Мать переливает, подливает, отцеживает мух, не раз, наверно, попадает в сивуху уксус, и постное масло наверх кружками всплывает. В дверь, теперь уже настежь раскрытую, Иван Михалыч входит, выходит с большим стаканом, подносит. «Энти» выпивают по очереди, без закуски, рукавами отирая бороды.
– Все?
– Никишке красное.
Тот всегда пьет вино только легкое, но если бы знал, что пьет! – в стакане та же сивуха, но для цвету из незаткнутой бутылки наливки, наполненной мухами так, что уж и не жидко, добавляется еще немного. И это он пьет по фасону своему, как легкое.
– Извините, я сейчас! – повторяет хозяйка гостям. И последнее: короткий наряд на завтра.
– Хватею – солому возить, Кузьме – дрова рубить. Позови плотника сбить кормушку, съезди в ночное, не пасут ли на клевере. Слышишь?
– Слушаю.
– Ступай!
Кончено, садится в кресло, тасует карты, хочет раскладывать свой любимый пасьянс: «Николай умирает, Александр рождается», но опять что-то темное мелькнуло в лице, и «свой глаз» тревожно смотрит на дверь.
– Там кто?
– Я!
– Кто ты? Гусёк?
– Так точно!
– Тебе что?
– Землицы!
Пока мать, измучив себя и Гуська, решается сдать ему «завалящий клок» под работу в кружок, Курымушка под шумок перебирается на свой диван, по-своему молится, засыпая: «Господи, благодарю тебя, что не создал меня этим Гуськом».
Гусёк
Много думал об этом Курымушка, почему такие бедные и несчастные мужики бывают в доме, когда приходят за чем-нибудь к матери, и самые веселые люди, самые хорошие – на полях они – те же самые мужики. «Это не они виноваты, решил Курымушка, – это наш дом такой: мы купцы».
Было однажды весной у колодезя, Павел с Гуськом воду качали. Курымушка стал Гуську под руку, и тот сказал:
– Посторонись, барин!
– Какой он барин, – сказал Павел, – он купец.
– А что значит купец? – спросил Курымушка. Павел ответил:
– Индюх!
Было очень обидно.
– Нет, брат, – успокоил Гусёк Курымушку, – ты не горюй – купец нам с тобой самый хороший человек; купец – человек богатый. Что барин! Тому были бы собаки, а купец любит птицу.
– Какую птицу?
– Птицу какую! Пойдем-ка, брат, ко мне в избу, я тебе покажу.
И тащит его за рукав к себе в избу. И что там у него в избе! Тут и петух-дракун, и курица кахетинская, и скворец-говорец, и голуби-космачи, и голуби-воркуны, и куропатка ручная, а перепелов! Всякие есть, но Гусёк подводит к любимому.
– Люб ли тебе?
Перепел серый, с подбитым затылком. Какое-то сходство с Гуськом. У Гуська лицо заросло волосами, у перепела – перышками, нос голый и чуть-чуть крючком, как перепелиный клюв.
– Люб ли тебе?
– Они все одинаковы.
– Во-она! Да ты знаешь ли, братец мой, этого перепела верст за двадцать слышно, а ежели он у попова огорода треснет или у Горелого пня, так ты, братец…
– Что, Гусёк?
– Ножками брыкнешь, вот что, милый. Перепела в поле разные, хорошие редки и дороги. Вот почему купцы сидят в городах, а чуть прослышат – залетел к нам звонкий, сейчас лошадей запрягать – и в поля. В прежнее время, – рассказывает Гусёк, – купцы к нам в каретах съезжались, с женами, слушать голосистого. Вот, брат, что значит купец, это – богатый человек. Да поймай я настоящего купеческого перепела, он озолотит меня.
– Озолотит?
– Озолотит! Буду богатый и куплю себе тульский самовар: чай буду пить. Вот что значит купец. Ну, так люб ли тебе мой перепел?
– Серенький…
– Вот то-то и горе, мой милый, что серый: настоящий купеческий белый.
– Белый?
– Как бумага! Не веришь? Покажу. Сам своими глазами видел. Приходи на вечернюю зорю к Горелому пню.
Это недалеко за садом. Вечером Курымушка пробирается к Горелому пню. Понемногу смеркается. Едет мужик в ночное, будто черный парус плывет по зеленому морю. Лягушки-квакушки стихли, зато лягушки-турлушки завели трель на всю ночь. Кукушки охрипли и смолкли. Черный дрозд пропел. А перепела все не кричат.
– Рано?
– Погоди, – шепчет Гусёк, – соловьи еще зорю играют, а дай стихнуть…
– Закричит.
– Во-она!
Гусёк шепчет «во-она» совсем на перепелиное, любовное, «ма-ва».
Стихают один за другим соловьи: «чмок-чмок», и конец.
И кажется, звенит тугая струна.
– Жук?
– Жук прожундел. К чему-й-то много жундит жуков, – шепчет Гусёк.
– К чему?
– Да бог его знает к чему. Молчи.
Молчит Курымушка, ни жив ни мертв. Но лягушки-квакушки отчего-то вдруг проснулись, взгомонились и заглушили лягушек-турлушек.
– Ку-а, ку-а! – передразнивает недовольный Гусёк. Квакушки замолчали. Заголосили девки в деревне.
– Пропадите вы пропадом!
На колокольне сторож ударил, глянула на небе первая звезда.
Пахнуло от озими рожью. Пала роса. Тогда-то наконец по всему росистому полю – от попова огорода и по Горелый пень, будто кто-то невидимый хлопнул длинным-предлинным арапником, – крикнул перепел.
– Голосистый? белый?
– Купеческий.
И тихо, как полевые звери, крадутся охотники по росистому полю вниз, к оврагу, и на ту сторону, к попову огороду. Старик на колокольне еще звонит, и еще глянула в уголку небес молодая звезда, и еще, и еще.
Голосистый не шутит: бьет – в ушах звенит. Самка молчит. Берет опаска: тюкнет не вовремя. Расстелить бы и оправить поскорее сеть. Слава богу, молчит, чуть копается в своей темной лубяной клетке, обвязанной бабьим платком. Сытая она теперь и довольная: перед ловом Гусёк напоил ее для чистоты голоса теплым молоком.
Зовет голосистый. Она молчит под сетью в пахучей росистой ржи. Осторожно берет Гусёк свою кожаную тюколку и тюкает. Когда самка молчит, необходимо подтюкнуть:
«Тюк-тюк!»
И наступает решительный миг, самка взяла:
«Тюк-тюк!»
Если бы можно было теперь съежиться в маленькие комочки, как перепела, и притаиться под глудкой! Если бы уйти по самое горло в землю и покрыться краешком сетки! И загорелось же там у голосистого белого перепела! Мечется он по полю, выбегает, как мышь, на межу, поднимает головку, смотрит над стеблями. И опять в рожь со всего маху:
«Пить-полоть!»
А она в ответ тихо:
«Тюк-тюк!»
Но ему ли отвечает она? Вот теперь по всему полю кричат перепела.
Она отвечает ему. Конечно, ему!
Он егозит на рубеже, поднимается на цыпочки. Нет, не видно. Он мечется и лотошит, перескакивая с глудки на глудку. Пробует взобраться на сухой татарник – колко! На прошлогоднюю полынь – гнется! Хочет крикнуть – голос пропал: вместо прежнего звонкого «пить-полоть» – хриплое и неслышное, страстное – «ма-ва».
«Тюк-тюк!» – отвечает она.
Он хлопает крыльями о сырые темные комки и больше не слышит земли под ногами. Летит. Куда летит? Бог знает. Свет велик!
– Летмя, летмя! – шепчет Гусёк, сгибаясь над сетью в три погибели.
Хочет уменьшиться – и не может. Хочет быть как перепел – тесно.
И вдруг упал возле сетки. Шуркнул в зеленях, шепчет страстно:
«Ма-ва».
«Тюк-тюк!» – отвечает она.
«Иди, иди, любезный перепел», – замирает сердце охотника. Он ходом идет, шевеля верхушками озимых стеблей. Перед самой сетью – плешинка, вымочина, рожь едва-едва прикрывает ее. Он останавливается, боится. Может быть, видит уже, что тут в десятке шагов другой огромный перепел сидит, согнувшись над полем, и отблеск зари зловеще сверкает на его голом перепелином носу. «Видит или не видит?» – замирает охотничье сердце.
Не видит! Идет напролом. Последнее «ма-ва», последнее «тюк-тюк», и рожь шевелится под сетью возле самой клетки.
Теперь самка высунула свою серую головку из лубяной темницы в окошко, где привязана фарфоровая чашечка для питья, а он – тоже у чашечки. И глядят друг на друга: очи в очи, клюв в клюв. Густые озими пахнут, призывают: «Разбей, голосистый белый перепел, лубяную темницу. Думать тут нечего!»
Где тут думать: он ерепенится, хохлится и бьет грудью и крыльями о сухой лубок.
Час пробил: пора!
Встряхивают сеть. Перепел висит в петле, как раз против стаканчика с водой, где он только что видел склоненную головку. Не упустить бы только теперь. Не ускользнуло бы из рук его тепленькое бьющееся тельце. Голосистый туго завязан в мешочке из-под проса. Полевая песнь его спета. Теперь он будет петь в городе, в железных или рыбных рядах, услаждая купеческое ухо.
Охотники, мокрые от росы, шагают по полю домой, будто водяной со своим маленьким сыном переходит из озера в озеро.
Церковный сторож давно отзвонил. Давно уже небо покрылось звездами. Месяц взошел. И тысячи малых земных звезд засияли на стеблях озими, на сапогах, на чекмене, на бороде Гуська, на завязанном мешке, где в тьме притих голосистый. Все птицы притихли. И лишь лягушки-турлушки ведут свою вечную трель от вечерней зари и до утренней.
И чудится Гуську, будто четверка белых коней мчит из оврага карету в зеленое поле. Едет купец, не глядит, что топчет чужие поля: у него ли не хватит денег! Вот остановился. Гусёк будто открывает дверцу:
– Ваше степенство, извольте слушать: кричит! Кричит белый перепел. Задумался купец в карете, забыл он счета, кули, мешки, трактиры и мельницы. Разгорелось сердце.
– Поймай, Гусёк, Христа ради!
– Сию минуту, – отвечает Гусёк, – не извольте беспокоиться, самка у меня хорошая, молочком ее тепленьким попоил для голосу, для чистоты. Для вас старался. Вас ждал. Сию минуту.
И будто уходит Гусёк и возвращается с перепелом.
– Ваше степенство, извольте!
– Белый?
– Так точно, ваше степенство, купеческие перепела – белые.
– Что же ты хочешь за белого?
– Сколько пожалуете!
Озолотил купец Гуська. Мчится в своей карете на белых конях, с белым перепелом целиком по полям, по оврагам, по мужицким и поповским огородам.
И чудится Гуську: из своего собственного самовара поит он всю деревню и рассказывает быль о праведном купце и белом перепеле.
Дома при огне охотники хотят полюбоваться драгоценной добычей, пересадить из мешка в клетку. Развязывают, вынимают.
– Во-она!
– Что ты, Гусёк? Покажи.
– Серый, – качает головой Гусёк. – Опять мимо капнуло – русака ловили.
Что это! Или вовсе на свете нет белого? Тускло горит копчушка в избе Гуська. Спит петух-дракун, спит соловей-певун, спит скворец-говорец, спит плотный ряд космачей и турманов на шесте. Нет купеческого перепела, нет у Гуська тульского самовара.
– Так и нет их на свете?
– На све-те! Что тебе свет-то клином у нас сошелся? Перешли на новые места.
– А где новые места?
– Известно, в Сибири.
– И там, верно, есть белые?
– Там перепела все белые.
– И бобры голубые?
– Синенькие, зелененькие. Там всякие есть – по дорожкам бегают. Надо бы и нам подаваться туда.
Тайна сушеной груши
На том месте, где была наша усадьба, теперь новая деревня построилась, и в старом саду – сенокос, но трава на когда-то удобренных клумбах и теперь растет выше, косцы узнают, вспоминают, что тут раньше были цветы. Но это еще что – трава на клумбах! Отцовские маргаритки я нахожу в траве и думаю: это непременно отцовские, потому что матери уже было некогда заниматься цветами. Все-таки был у нее хромой садовник Евтюха, лениво подскребал бороздником сорные травы, и розы целыми аллеями долго росли после отца. Только это – розы, это – вишни и яблони, а людей-то под липами не было, и бегали по дорожкам желторотые галчата и вовсе одичавшие братья Курымушки – гимназисты. Бывало, только заслышатся бубенцы и топот, сломя голову несутся ребята из сада на двор смотреть, кто едет, куда. Как за оградой из-за кустов акации покажутся гнутые шеи пристяжных, как одна пристяжная завернет между каменными столбиками, – тут нечего уже дожидаться. Далеко позади себя дети слышат ужасный крик няни:
– Гости!
Ласковым, но необыкновенным голосом долго мать зазывает детей, думает: «Выйдут и попадутся». Но по одному этому голосу о гостях легко догадаться, если бы и не видели их своими глазами. Залегает Курымушка всегда под Розанку: в этой старой яблоне ствол у корней расщеплен, и, как в окошко, можно смотреть через ствол в аллею на лавочку, где почти всегда гости садятся и разговаривают. Сладкой стрелой вонзается ему в сердце радость при виде подъезжающих гостей, но бежать от них нужно, а то не миновать колотушки от братьев за отдельную радость. По липовой аллее на дорожке, желтой от троичных песков, разгуливают краснозобые снегири, зяблики, и заяц тихо проковыляет, и уж проползет, а ступит нога человека – и все разбегаются и разлетаются. Им тоже, быть может, очень хотелось бы в душе побыть вместе с людьми, но, верно, и у птиц на деревьях, и у козявок в траве есть своя какая-то страшная тайна, и оттого-то все разбегается и разлетается, когда заслышатся шаги человека. Так тихо бывает в саду на дорожке, когда все спрячется. Но как ни будь тихо, все кто-то сзади шепчется… Обернулся – и нет никого, только мелькнули в воздухе чьи-то копытца. В страхе бежит от них Курымушка и вдруг остановится на площадке возле дома и рассыпает вокруг себя крестики.
– Что с тобой?
– Ничего, я обедню служу.
Сбылось однажды тайное желание Курымушки, – всех детей гости захватили, и за торжественным столом, накрытым белой скатертью, они сидели, как привязанные за жабры ерши.
Блюдо с грушами, сушенными на солнце, мягкими, сладкими, стояло как раз возле Курымушки, и он изловчился, как будто незаметно для всех, стянул одну – и в карман. Только брат Коля это заметил, шепнул: «Отдай, а то скажу!» Курымушка старшему подчинился, отдал.
– Стяни мне сухарь.
– Вот еще!
– Ну, так я покажу сейчас грушу. И кончик ее показал ему под столом.
«Не покажет, – думает Курымушка, – не осмелится». А Коля руку из-под стола поднимает все выше и выше. «И вдруг покажет: нет, не осмелится!»
– Последний раз спрашиваю: стянешь сухарь?
– Не стяну.
– Не стянешь… Ну, так вот же тебе! Кладет руку на стол и медленно открывает.
– Подожди, подожди!
– То-то.
Курымушка изловчился, вытянул и потихоньку под столом передал Коле сухарь. Слава богу, благополучно сошло! – Ну, отдавай теперь грушу.
– Как бы не так! Стяни мне конфетку. Пришлось и конфетку стянуть.
И пошло, и пошло с тех пор: под страхом открыть всем тайну сушеной груши, Коля распоряжался Курымушкой. Раз даже двугривенный пришлось незаметно вытащить из кошелька матери, и как это страшно было и гадко: мать спала после обеда, на маленьком столике возле кровати лежал большой полуоткрытый серый замшевый кошелек; Курымушка подкрался и, не сводя глаз с лица матери, вытянул двугривенный. А в дверях уже дожидался страшный мучитель. Хорошо еще, отпустил и не велел другого стянуть! С каждым днем нарастала сила тайны сушеной груши, а тут еще скоро подоспела другая беда.
Озорная тропа
В зарослях вишняка подслушал Курымушка разговор старших братьев:
– Давай убьем гуся: они нашу пшеницу клюют.
– Давай.
– И зажарим на вертеле, как Робинзон.
– Какого же гуся?
– Поповского. Поповские самые жадные!
Как раз тут и подходили поповские гуси. Братья отбили самого большого белого гусака и сначала камнями швыряли, а потом добили палками. Весь гусак был в крови. Хватились – нет спичек. Один побежал добывать и вернулся:
– А не вытрем ли из дерева?
Долго трут палку о палку, ничего не выходит.
– Нет, ступай скорей за спичками.
Один побежал, другой караулит, а Курымушка в кусту сидит, хочется ему очень, до смерти хочется вместе с братьями отправиться жарить гуся на вертеле, но что, если и его они палками: «Не подглядывай, не подсматривай!» Невозможно.
Вот бежит, запыхался.
– Добыл?
– Есть!
– Ура!
Озорная тропа, выбитая больше босыми ногами, гладкая, твердая, как мозолистая ступня, уходит в пшеницу неизвестно куда. Братья по ней исчезают в пшенице, а за ними босой Курымушка идет, крадучись, а пшеница ему – как лес, конца этому лесу, кажется, нет, и только небо одно голубое, и тихо, даже не шепчутся колосья между собой. Вот это самое страшное, что пшенице конца нет, что тихо, а большой Голубой смотрит и все видит. Жутко стало Курымушке красться за братьями, захотелось назад, но как назад: там, позади, давно уже сомкнулась пшеница. Курымушка решился подойти к братьям, – будь что будет, – только бы не быть одному! Но только что стал он к ним подходить, вдруг тот, кто гуся тащил, уронил его, и гусь гокнул о сухую, набитую озорную тропу, гулко ударился и – как закричит! Братья от гусиного крика – прысь назад и, не посторонись Курымушка, сбили бы его с ног. Но он, услыхав крик, прыгнул в пшеницу и пустился дуром, оставляя за собой широкую дорогу. По этой дороге за ним пустился кровавый гусак. Это был Голубой, кто все видит, это он покарал злодеев и пустил на них гусака. Ему молится на ходу Курымушка: «Избави нас от лукавого». Упадет, прошепчет молитву, гусак подождет и опять бежит, сзади шумит и гогочет. «Богородица, дево, радуйся», – обороняется Курымушка другой молитвой. И когда, наконец, он прочел: «Господи, милостив буди мне, грешному», пшеница кончилась и по дорожке знакомого вала он вернулся к себе.
Будь Курымушка такой же, как его братья, из большой тайны кровавого гусака он бы мог себе против них сделать маленькую тайну, подобно сушеной груше, но Курымушке это и в голову не пришло. Только он понял из этого, что есть тайны большие, которые остаются с самим собой, и есть тайны маленькие – они выходят наружу, и ими люди постоянно мучат друг друга. Вот эта мучительная тайна сушеной груши, – как бы просто, казалось, открыть ее, рассказать всем и сразу покончить, а поди открой, – ведь не в груше тут дело, а в тайне, и тайна эта с каждым днем все нарастает и нарастает. И у старших есть свои тайны, – у Софьи Александровны со старцем, у Дунечки с Бледным господином, и старец, и Бледный тоже, наверно, пугают какой-нибудь сушеной грушей. А поди-ка вот скажи вслух про нее!
Большой голубой
До сих пор не могу без тревоги слышать жалобного крика уносимой ястребом птицы: как услышу, так сиротею. И как увижу осиротелых ребят, спешу купить чего-нибудь и раздаю по конфетке, по прянику; эта милостыня мне доступней, чем калекам и уродам на паперти церкви. Я часто вижу тайное страдание на лице мальчугана, и тогда мне кажется, будто кто-то большой Голубой вышел с ним на борьбу. В жизни нужно уметь бороть Голубого, я это знаю, не миновать этого. Но все-таки совсем он один, мальчуган, и я, сам отец, тогда прошу, умоляю: «Отец, отец, если уж неизбежно страдать, то помоги этому мальчику побороть Голубого, не сделай его напрасной жертвой, не доведи мне слышать его стон, подобный крику уносимой ястребом птицы».
Есть тайна у Курымушки, и такая страшная, что если бы ее братья узнали, так лучше съел бы в пшенице кровавый гусак. Пришло это не от греха, а как-то само собой, когда он смотрел в окошечко яблони на гостей и слушал, как они, такие радостные, хорошо одетые, между собой говорили:
– Бедная Мария Ивановна, вот уж как трудно ей, наверно, с хозяйством. Некогда за детьми посмотреть, и не на что, должно быть, гувернантку нанять. Дети совсем одичали.
– А как хорошо бы здесь жить богатым! Это – настоящее дворянское гнездо. Смотри, Катя, вот это дерево называется голубая сосна.
Ее звали Катя.
В другой раз Курымушка слышал другой разговор, и ее звали Маруся. Но когда пришла Маруся, Кати не было, и когда Надя пришла – не было Маруси, она всегда была одна, и эта она так радовала и так мучила Курымушку. Она всему радует и от всего спасает, но тайну эту никому сказать нельзя, и если узнают, то пусть тогда лучше уж явится кровавый гусак. Тайну легко выдать за обедом, когда в разговоре скажут «Маруся», и вдруг огненно покраснеешь, – раз обмануть, два обмануть, но когда-нибудь догадаются. Спасение тут бывает одно: когда скажут «Маруся», нужно самому прошептать «кровавый гусак», и тогда встают перед глазами ужасные картины: и ад, и сатана, и небо по краям загорается, конец мира наступает, архангел трубит, встают мертвые. Тогда он бледный сидит за столом, и мать участливо спрашивает: