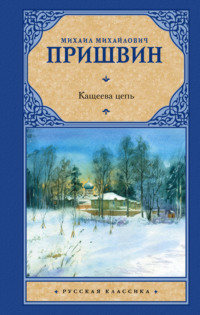
Кащеева цепь
– Что с тобой? Отчего ты такой бледный?
– Должно быть, муху проглотил, – отвечает Курымушка.
Какой-то старший, большой, и добрый, и Голубой чудится иногда Курымушке, ему бы все это как другу сказать, и он, ведающий всеми тайнами, улыбнулся бы и все с него снял. Кто этот желанный чудился Курымушке? Не отец ли?
Отец, отец, пожалей своего мальчика!
Марья Моревна
Голубой услышал Курымушку, улыбнулся ему: в дом шла прекрасная девушка, у нее были солнце и месяц во лбу и звезды в тяжелых косах – настоящая Марья Моревна!
Она вошла и сказала:
– Мама моя велела спросить вас, Марья Ивановна, не разрешите ли вы ей побродить в саду и в парке, ей хочется побыть с родными, – у нас столько здесь воспоминаний.
Потом вошла и сама генеральша, бывшая хозяйка имения, в золотых очках, еще не старая женщина в черном.
Долго они потом ходили, обнявшись, по аллее, сидели на лавочке, и Курымушка из-за своей яблони в окошко ствола видел, как генеральша вытирала слезы платком, слышал все их разговоры между собой.
– Там было бабушкино дерево. Цела ли еще эта яблоня? – спросила дочь генеральши.
– А вон стоит.
– Возле нее был налив?
– И налив на своем месте.
«Не убежать ли, – схватился Курымушка, – а то еще вспомнят и Розанку». Но подняться было опасно, а главное, в это окошко, поверх зеленой травы, так хорошо было смотреть на Марью Моревну и думать: «Вот это она, вот это она пришла, настоящая».
Генеральша говорила:
– Нужно отдать справедливость этим купцам: они хорошо берегут сад, и сколько цветов у них, – у нас этого не было. А помнишь, где-то была тут старая яблоня Розанка, и внизу в стволе ее было окошко.
– Помню, как же… Да вот и она стоит!
– Ну, пойдем посмотрим.
Курымушка не успел убежать. Марья Моревна заглянула в окошко и сказала:
– Посмотри, мама, какой тут в траве чудесный бутузик лежит.
Подошла няня, очень важная, подобралась вся и осмелилась:
– Мария Ивановна просит вас откушать, ваше превосходительство.
– Какая там уж превосходительство! – улыбнулась генеральша.
– Вот настоящие господа! – говорила няня после Курымушке.
– А мы-то не настоящие?
– Ну, какие мы господа, мы купцы!
Никто не мог так радоваться гостям, как мать, она вся сияла, встречая, и шептала Дунечке про дочь: «Вот настоящая тургеневская женщина!» Чего, чего тут для них не наготовили!
За обедом Курымушка узнал отличие настоящих господ: они ели, не церемонясь, сами просили подложить, если есть хотелось, и отказывались сразу, если кушанье не нравилось. Еще думал Курымушка, что Марья Моревна, конечно, и есть та самая она, про которую все говорят – кра-са-ви-ца, но что это значит, как узнают это сразу – взглянут и скажут: кра-са-ви-ца! Об этом он так решил: «Простая женщина с разными людьми говорит разным голосом и улыбается разно, а красавица одинакова со всеми – богатыми и бедными, большими и маленькими, да! вот это главное ее отличие: с маленькими она говорит, совсем как с большими. Но что, если вдруг, – в ужасе подумал Курымушка, – она – эта настоящая и единственная она – за столом ему что-нибудь скажет, ведь он непременно тогда ужасно покраснеет, и всем откроется его тайна, что это она!» На всякий случай он приготовился и стал держать в уме кровавого гусака, чтоб сразу пустить и вызвать ужасную картину ада и светопреставления. И вот, правда, Марья Моревна смотрит прямо на него, улыбается…
«Господи, милостив буди мне, грешному!» – готовит Курымушка своего гусака.
Марья Моревна спрашивает:
– Ты умеешь читать? Курымушка сказал про себя:
«Ад, сатана!» – и сразу пустил гусака.
Земля, там, где небо к ней прикасается, красным заревом вспыхивает, огромная черная гора открывается, на вершине архангел трубит, покойники встают, и кто, как няня, всю свою жизнь отрезал себе ногти и берег их в мешочках, – теперь ногти эти срастаются, и, цепляясь ими за камни, лезут праведные люди на гору к архангелу, а грешники скрежещут зубами, обрываются и падают в адский огонь. И не красный, а смертельно бледный сидит Курымушка: он победил. Мать говорит:
– Что с тобой? Отчего ты вдруг побледнел? Курымушка ответил:
– Должно быть, муху проглотил.
– Вот всегда ты хапаешь ртом. Ну, выпей поскорей воды, может, пройдет.
Курымушка выпил воды и спокойно сказал Марье Моревне:
– Я умею читать.
– Хорошо, я тебе отличную книжку дам, любимая моя детская: Андерсен. Не читал?
– Нет, не читал.
После обеда она пошла, порылась в своих вещах и принесла эту книжку с картинками.
Бой с голубым
В старую беседку, обвитую хмелем, с зелеными замшелыми половицами, забрался после обеда Курымушка и читает рассказ за рассказом и картинку за картинкой рассматривает внимательно. Не слышно теперь ему ни птиц, ни голосов на дворе, и если бы даже правда архангел затрубил – он не слыхал бы трубы. Вот подходит одна картинка, в ней есть череп и крест, поскорей эту страшную картинку перевернуть и дальше читать, но какая-то сила не голосом, прямо своей силой велит ему обернуть картинку и смотреть на нее. Перевертывает – ужасно! Попробует дальше читать, сила опять велит посмотреть, посмотрел – еще страшнее! Нет, дальше так нельзя, надо поскорее куда-нибудь книгу спрятать, и чтобы уж к этому месту никогда не подходить: место будет заколдованное. Зеленая половица под его ногой скрипнула и качнулась. Вот куда! Поднимает половицу, хоронит туда книгу с крестом и черепом, закапывает и хочет бежать, но у входа в беседку стоит Марья Моревна, улыбаясь, с венком из одних лиловых колокольчиков. Вокруг нее зеленый вьется хмель, и совсем недалеко на яблоне, не пугаясь, спит птица сойка, свесив от полдневного жара голубое крыло.
– Ну, что? Читал мою книжку? – спросила Марья Моревна.
В это самое время вдруг всколыхнулись все птицы на дереве, захлопали крыльями, взлетели, закружились над садом. Но как ни было шумно, все-таки явственно слышался жалобный стон уносимой ястребом птицы.
– Что с тобой? – спросила Марья Моревна.
– Как что? Ты разве не слышишь: это ястреб уносит птицу.
– Чего же ты дремлешь? Слышишь и так стоишь, беги скорей, отбивай!
Прямо против беседки была аллея тонких пирамидальных тополей, сзади нее стоял Голубой, и туда, видно было на голубом, огромный ястреб уносил птицу. Туда за ястребом пустился Курьшушка на своих крыльях. Много он уже пролетел и вдруг застрял в кустах вишняка, в непроницаемых никогда зарослях и вспомнил: нет у него крыльев, и ястреба ему невозможно догнать. Но крик был слышен, и опять он забыл, что нет крыльев, и снова летит, шумя по зарослям, прыгает; только что выбрался… что же там под голубым небом и палящими белыми лучами полдневного солнца? Там – то самое страшное, желтое, непереходимое поле пшеницы, где живет ужасный кровавый гусак. И там, где-то в этом же поле, на одном месте все кричит и стонет жалобно птица. Курьшушка слушает и стоит у входа в пшеницу на озорной тропе.
Большой Голубой стал против него: «Кто у нас одолеет?»
Маленький знал в своем сердце: если броситься назад, то за ним все бросится вслед – и ад, и сатана, и все, что шепчется за спиной, когда идешь в тишине, и кровавый гусак. Маленький сжался, его кулаки стиснуты, и от этого руки стали дубовые, голова наклонилась, и, рассекая воздух, он несется вперед на Голубого по озорной тропе. Голубой это любит, ничего нет страшного впереди, всюду он, Голубой, и золотые колосья пшеницы.
Вот он, тот самый овраг, где тогда гокнулся и закричал кровавый гусак; сюда, в этот овраг, он тогда свалился, и тут его страшное царство, тут он живет, и в этот самый овраг теперь нужно спуститься и перебраться на ту сторону. А на той стороне светло, пшеницы нет, только стоит один кустик, и прямо за ним слышно – пищит птица, и ястреб торжествующий хлопает в воздухе крыльями.
На краю оврага опять в последней страшной борьбе стал маленький, и против него опять стал Голубой. Но теперь уже знает маленький, как нужно бороться с ним, теперь он только слушает и думает, как это нужно сделать. Он спускается в овраг, в пазуху набирает камней, карабкается наверх, ползет прямо на куст.
За кустом распласталась по земле, кричит и трепещет птица с голубыми крыльями, и полдневный ветерок, будто мелкие корабли, уносит куда-то перышко за перышком. А над птицей, впустив в нее когти и себя поддерживая в воздухе взмахами огромных серых крыльев, круглыми огненными глазами, не моргая, смотрит на солнце хищник, шипит, выпускает красный язык из гнутого клюва: ему бы еще долго тут плясать в воздухе и шипеть, наслаждаясь криком птицы с голубыми крыльями. Но камень из-за куста сшибает его, другой летит прямо в голову, третий, четвертый…
Умирающий пахарь в последнюю минуту, часто бывает, выходит из дому и говорит, уходя умереть в поле, «домой иду», и умирающую птицу сразу узнаешь в лесу, когда она – хлоп! хлоп! хлоп! о землю крыльями, и это у них тоже значит свое: «домой, домой улетаю». Белой пленкой завешивается у ястреба огненный глаз. А помятая птица с голубыми крыльями оправляется, обирается и улетает жить в сад. Теперь все это разбросанное в мире: голубое небо – все, желтое поле – все, и лес далекий впереди – весь, и сад назади – весь, – все вместе собирается и летит сюда в гологе, и голос этот милый зовет и все близится, близится, и вот она, Марья Моревна, идет по полю, у нее и солнце, и месяц, и звезды, она встречает, обнимает, целует, надевает на голову мальчику венок из одних только лиловых колокольчиков и говорит:
– Ты – герой!
Счастливые проходят дни, и, как тяжелый сон иногда по частям вспоминается, открываются тайны одна за одной. Над сушеной грушей много смеется Марья Моревна, легко ее добывает и бросает к лягушкам. Из-под гнилой половицы в беседке появляется на свет Андерсен. Теперь там картинки, больше уже не пугают. Зато у Андерсена есть другая картинка: на ней лицо с такой же улыбкой, как у Марьи Моревны, и, как у ней, брови раскинуты птичьими крыльями.
– Знаю теперь, знаю, – говорит Курымушка.
– Что ты знаешь?
– Красавица, это значит – ты на картинке.
– Ну, и я хочу что-то сказать… хорошее.
– Я – гадкий.
– Почему ты это знаешь?
– Я видел себя в зеркале: я – Курымушка.
– А не смотрись в зеркало. Хуже всего, когда мальчик смотрится в зеркало.
Из Андерсена она читает ему, как гадкий утенок все смотрелся в воду и узнавал все плохое, а когда лебеди пролетали, то взяли с собой.
– Ты лебедь?
– А ты – лебеденок. Я унесу тебя далеко.
– Где живут голубые бобры?
– Там все голубое.
Печь камер-юнкера
Бывает летом, – накроют стол на балконе, и так хорошо бы тут, в тени, под навесом, чаю попить, но выходит мать, осматривает: ей видно, как на своих полях крестьяне уже работают, а на дворе работники только что запрягают.
– Что-то я заспалась сегодня, – говорит она, – мужики уж на работе. И все так: пока сам не проснешься, никто у нас не начнет.
Она всегда про себя говорит сам.
– Сам встал до свету, – ворчит она, – кажется, после обеда имеешь право на отдых, а они и пальцем не шевельнут, пока не выйдешь сам.
Далеко видно с балкона в поля, из полей тоже виден далеко самовар на белой скатерти в тени, под навесом балкона.
– Нельзя, – говорит мать, – там работают, а мы будем за чаем рассиживаться. Переносите все в комнату, живо.
– Мама, – просит Курымушка, – зачем в комнату? Мы же не будем работать, все равно будем чай пить.
Стыдливо бормочет мать:
– Мало ли что!
И пьет в комнате чай, в жаре и с мухами.
«Она боится мужиков, – думает Курымушка, – так же, как мы боялись раньше гостей, мы от гостей в сад бегали, она от мужиков в дом. А чего их бояться?»
Всегда смело ко всем мужикам подходит Курымушка; только один Иван недобрый, у него есть тайна, и, должно быть, большая и страшная. Нанялся Иван в конюхи уж осенью, и сразу от него на дворе все стало не так.
– Вот конюх так конюх, – говорит мать, – и лошади чисты, и кормушки все починены, он и конюх, и плотник, и бредень починит рыбу поймать, и за собаками ходит, таких еще у меня не было!
Только одно плохо, – на него кричать нельзя. Мать попробовала как-то свое начать:
– Что тебе говорят, Иван! Раз я тебе сказала, ты должен исполнить немедленно: вчера я тебе приказала починить колодезь.
А он как посмотрит на нее из-под своей черной бороды, сразу мать переменилась:
– Иван, как бы круг на колодезе починить.
С тех пор всегда говорит ему: как бы. А отойдет от него и жалуется:
– Боюсь я этого Ивана, какой-то он страшный. Курымушка тоже раз пробовал подкатиться к Ивану с яблоками, а он сказал:
– Ешь сам. Что, у меня рук, что ли, нету яблок нарвать?
– Тебя поймают.
– За что?
– Яблоки не твои.
– А твои, что ли, они?
– Мои!
Тут Иван посмотрел на него страшно, как на мать тогда, и сказал:
– Ты – головастик.
С тех пор Курымушка не мог уже просто, как прежде, к работникам бежать с пазухой яблок, – везде был Иванов страшный глаз. Так и было в этом глазу и в этих руках, за что он ни возьмется: за дугу – в глазу его «ну, разве у настоящих такая дуга?». Конь застоялый взовьется у него в руках, как огненный, а он хлестнет его, и так, будто это последняя кляча; и все так, и этот двор с постройками, и сад, и земля, не смотрел бы на все, да так уж, не за что ухватиться пока.
«Не Балда ли это? – думал Курымушка. – Тот ведь тоже был хороший работник, а что из работы вышло: от одного его щелчка поп улетел».
Он попросил даже Дунечку прочесть ему еще раз «Балду» – и когда прочел:
– Нет, Иван не Балда.
Про Ивана каждый день говорили: «Вылитый он».
А он – был Бешеный барин, атеист.
И это было как-то связано с тем, что постоянно бывало в кухне на печке, где спала горничная Настя, потом Дуняша, потом Катя. Одна горничная уходила, нанимали другую, а перед уходом всегда няня таинственно шептала матери:
– Зажгла свечку, а на печке коленки, кра-асные. – Кто же?
– Да все Кирюшка.
– Опять свалялись?
– Баламутный малый.
Что-то очень гадкое бывает на печке, и лица у мамы и Дунечки, когда про это говорят, бывают такие странные.
В этом ли была тайна Ивана?
Старшие говорили: «Их много. Едешь иногда, встречается, ну, вы-ли-тый, только одет мужиком». Но это говорили уже не про атеиста, а про самого большого барина – ка-мер-юн-ке-ра. У него есть лакей тоже вылитый, и лакей ходит к дьячихе, и у дьячихи семь человек детей, и все вы-ли-тые. Многое множество вы-ли-тых было, и Курымушка иногда думал, какая же огромная печь должна быть у камер-юнкера.
С тьмою зимних вечеров и ночей приходило это «на печке», когда сверчок неустанно поет, рыжие тараканы снуют на лежанке, неустанно щелкают счеты в комнате матери, и стук! стук! – оледенелые ветки и замороженное окно. Вздрогнет няня от стука, спустится с огнем посмотреть в кухню, вернется оттуда…
Курымушка спит и не спит, видит, как осторожно няня шевелит ручкой двери маминой комнаты.
Щелканье счетов обрывается.
– Тебе что, няня?
– Опять Баламутный на печке.
– Вот те раз!
И начинается долгое совещание.
Из всего этого вышел Иван, вылитый Бешеный барин.
Тайна Ивана
Такой был вечер зимой. В полднях пригревало. Курымушку выпускали на угреве сосульки сшибать, а вечер был еще долгий, зимний; где-то в гостях очень редко случалось – были мать и Дунечка; вышла такая минута, куда-то няня ушла – не проверять ли, что было на печке? Совершенно один был в старом доме Курымушка, и вдруг слышит голос: «Царя убили!» Какие голоса, кто это крикнул, только явственно слышал: «Убили царя». Курымушка, услыхав, подумал сразу о Дунечке: «Теперь Дунечке хорошо будет». Но за криком и плач начался, шум, топот: это няня с Настей бежали по лестнице. И Курымушке стало жутко отчего-то.
– Да вот убили царя-батюшку, – всхлипывает няня.
– Чего ты плачешь, няня? – спросил Курымушка. – Что будет от этого?
– Как что! Теперь мужики пойдут на господ с топорами.
«Топорами на печи сено косят раки», – подумал Курымушка в первую минуту, а потом стало вдруг от этого очень страшно, и как видение: мужики идут на господ с топорами, вроде светопреставления.
– Ай-ай-ай! – вдруг залился Курымушка. Няня испугалась:
– Что? что ты?
– Как что? Мужики пойдут с топорами!
– А может, и не пойдут.
– Пойдут, непременно пойдут.
– Ты-то почем знаешь?
– Царя убили.
– Царя-то убили.
– И пойдут.
– Очень просто, пойдут.
Настя плачет, няня плачет, Курымушка плачет.
– Что же делать-то, няня? Разве спрятаться?
– Нужно позвать мужиков посидеть, пока наши подъедут, а то жутко одним. Настя, позови мужиков!
– Как мужиков?
– Наших ребят, наши смирные.
Скоро входят и мужики, тот самый Иван и Павел. Няня говорит Ивану:
– Теперь всех перечистят? Иван отвечает:
– Всех под орех. Курымушка:
– И нас?
– Какие же вы господа? – усмехнулся Иван.
– Слава богу, – обрадовался Курымушка и с легким духом смело спросил: – Почему не тронут купцов, Иван, открой мне всю тайну!
– Купцы на капиталы живут, – сказал Иван. – Да ты этого еще не понимаешь, я тебе растолкую. Сотворил бог Адама на земле?
– Ну, сотворил.
– Адам согрешил, и бог его выгнал из рая. Знаешь?
– Слышал.
– А знаешь, что бог сказал человеку, когда выгнал из рая?
– Не знаю.
– Бог сказал: в поте лица своего обрабатывай землю.
– Это знаю.
– А вот Гусёк есть человек. Почему у него нету земли? Куда его земля делась?
– Перешла к маме.
– Твоя мама купила у господ. А как она к господам от Гуська перешла? Они ее не покупали. Кто ее дал господам?
– Царь, должно быть?
– Царица Катерина. Кто ей, бывало, полюбится, тому и дает.
– Да вот, – сказал Павел, – у вас в саду есть большое дерево Лим, веку ему никто не запомнит, на этом Лиму дедушка мой хомут вешал: мужицкая земля была, потом перешла к господам, а от господ к купцам.
– И теперь опять к вам перейдет?
– Вот будут землю столбить, тогда разберут.
– Как столбить?
– Ну, барин, тебе всего не расскажешь. Иван усмехнулся по-прежнему:
– Барин, барин без портков, а пляшет.
– Как без портков? Я в штанах.
Все так и покатились со смеху, и, отсмеявшись, Павел сказал:
– Это, брат, тебе на ночь Иван задачу дал. Ложись в кровать и подумай, что это мужики говорят: барин, барин без портков, а пляшет.
Кащей
С тех пор как Марья Моревна уехала, – обещалась ненадолго, а прошла почти вся зима, – собрались опять разные тайны; то показывалось раньше в саду, в лесу, полях, а теперь стало в людях, и спросить про это опять некого: на такие спросы в ответ только смеются или говорят: «сам догадайся», а есть такое, – спросишь и пропадешь. Поговорили на деревне про Адама, что бог создал его из земли и велел ему землю пахать, тот Адам успел землю получить, и так стали мужики, про которых мать говорила «энти мужики». И еще говорили на деревне про второго Адама, что ему бог тоже велел обрабатывать землю, но земли уж больше не было, от этого второго Адама начались, как мать называла, «те мужики», и вот те мужики задумали землю столбить.
Приехал становой узнавать, кто хотел землю столбить.
Все сказали на Ивана. И увезли куда-то Ивана.
– Куда увезли Ивана?
– Куда Макар телят не гонял.
– Какой Макар?
Все засмеялись, и это значило: «Сам догадайся!» Царя убили, и опять стал царь, сразу большой, с бородой.
Мать раскладывает: «Николай умирает, Александр рождается». Не с бородой же рождается царь? Опять сам догадайся.
– Отчего это, мама, – спросил он, – все догадываются сразу, а я после?
– Оттого, что ты очень рассеян.
Вышла новая загадка, – все люди как люди, а он какой-то рас-се-ян-ный. Вот если бы хоть на один день увидеть Марью Моревну, она бы все тайны и загадки сняла.
Светлый день пришел: на земле снег лежал, на небе облака растаяли, солнце показалось. Сказали: «Как день-то прибавился!» Еще сказали: «Это весна!» А еще сказали: «Сегодня Маша приедет!»
Мать говорила:
– Не узнаю своих детей, что сделала с ними за одно лето эта милая Маша, как они ее слушаются, скажет: «Нарвите цветов», – и они собирают, но мало того: часами сидят, подбирают цветочек к цветку, – и букет выходит. Скажет: «Найдите хорошее яблоко», – и сколько они натрясут, насшибают, перекусают, пока не найдут янтарное, наливное.
Скупая Софья Александровна против этого:
– По-моему, и не очень хорошо.
– Как нехорошо? Что вы! Пусть перекусают все яблоки, только бы на людей были похожи, а то ведь было совсем одичали, чуть кто к нам – и бежать. Теперь сами гостей встречают и радуются. Удивительно! Какие у нее способности! Вот бы каких нужно для воспитания детей, а не старых дев и уродов.
– Очень горда. Она и детей этим заражает, возбуждает их к чему-то необыкновенному, а жизнь требует в смирении и терпении учиться класть кирпичик к кирпичику.
– Этому сама жизнь научит, а Маша… тургеневская женщина.
– Экс-пан-сив-на-я! Ее бросает в разные стороны: то она цветами осыпает певцов, то вдруг окажется на ма-те-ма-ти-чес-ком, то в Италии, то доит корову у Толстого в Ясной Поляне. Все это от гордости: красавица, порода, а самого главного для жизни нет. У вас они не занимали?
– Пустяки, я бы очень рада была поблагодарить: дети мои неузнаваемы, в гимназии начали хвалить.
– Ей бы устроиться гувернанткой в аристократическую семью. Но разве она пойдет? Я, право, не знаю, что ждет ее в будущем.
– Пустяки! Такая красавица и не найдет партии себе?
– Искать, конечно, найдет, да позволит ли она себе искать, и сами знаете, какие у нас женихи.
– Женихи, правда, у нас никуда.
– Я хочу ей посоветовать к старцу съездить. Вы не знаете, сколько там теперь бедных девушек из отличных дворянских семей собирается, каждая находит себе утешение. Там и на нее пахнет этим духом смирения, а то, право, уж она чересчур горда.
А Курымушка в кресле сидит и все наматывает себе на клубочек; он это понимает, что Софья Александровна хочет отдать Машу старцу, и теперь старец ему кажется Кащеем Бессмертным. Но он, Курымушка, этого не допустит. Вот Маша сегодня приедет, и он все ей перешепчет. Марью Моревну он не отдаст Кащею Бессмертному.
Суд
Мать всегда такая: одна радоваться не может; по случаю приезда Маши созывает гостей, просит Софью Александровну с мужем, – она и не подумает, рада ли будет сама Марья Моревна Бешеному барину.
«А главное, – опасается Курымушка, – при гостях как я ей перескажу про заговор с Кащеем Бессмертным?»
Так он думал. Крикнули: «Едут!» Он бросился.
– Оденься, оденься!
Но было уже поздно. Курымушка, раздетый, без шапки, вылетел вон на снег и там машет, и пляшет, и поет, встречая Марью Моревну. Вон она выходит из саней, целует его, вот сейчас бы тут ей на лестнице все и пересказать, но за Курымушкой погоня. Дунечка выходит, мать. Потом дома начинаются совсем ненужные разговоры, приготовления к вечеру, и в ожидании гостей все сидят за столом. Опять мать раскладывает и рассказывает:
– Какие удивительные перевороты бывают, я это знаю: он был настоящий атеист.
– Какой там атеист, – отвечает Дунечка, – просто и верно говорят мужики: Бешеный барин.
– Но все-таки Александр Михалыч в бога не веровал, везде этим выставлялся, и вдруг…
– Как же это вышло? – спросила Маша.
– А так вышло. Очень странная история: после убийства царя он стал сам не свой и даже заболел, – на желудочной почве начались экс-цес-сы.
– Тетенька, – засмеялась Дунечка, – вы ужасно смешно рассказываете.
– Я не смеюсь: это мне все она так передала, а знаете, какая она хитрая, – воспользовалась этим его состоянием и уговорила спросить у старца совета. Ответ был, как всегда, лак-о-ни-чес-кий: «Пусть ест гречневую кашу и соленые огурцы». И что же вы думаете! Все у него прошло, настроение прекрасное, и говорит: «Православные посты – великое дело».
– И уверовал?
– Не сразу. К старцу съездил и тогда вдруг святошей стал: свечи продает в церкви, с тарелочкой ходит. Софья Александровна в восторге, у нее теперь с ним печки и лавочки. Вот увидите: сегодня они вместе придут. Очень интересно.
Дунечка тяжело вздохнула, она теперь стала совсем невеселая: убили царя, и царь опять сразу явился, а Дунечке еще стало хуже, и работает она по-прежнему на ле-галь-ном положении и по-прежнему стоит, маленькая, у печки, читает:
Жандарм с усищами в аршин,
И рядом с ним какой-то бледный,
Полуиссохший господин.
Мать не может выносить, когда кто-нибудь недоволен, страдает и отдельно живет, – украдкой на нее посматривает через очки и робко спрашивает: