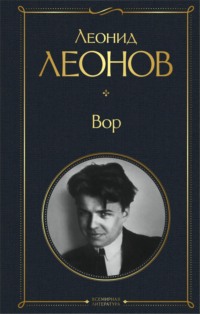
Вор
– Зря стараешься, – сказал ей Фирсов, – ничего съедобного не захватил я с собой, уважаемая кошка.
– Гони ее, надоедливая, – отозвался Пчхов. – Чего там, на дворе-то?.. подморозило аль ростепель все? Когда лето сухое, то и зима бывает снежная.
– Снег еще давеча перестал, – сказал Фирсов и сделал попытку пойти на сближение. – Это у вас кошка местной, благушинской породы? Очень приятная кошка.
– Нет, это соседская, – правильно понял Пчхов смысл его замечанья. – Плесни молочка ей, вон с подоконника возьми…
Выполнив просьбу хозяина, Фирсов счел себя вправе и закурить, а заодно осведомиться о чурке дерева под окном, густая краснота которого на срезе перебегала кое-где в черноту запекшейся крови.
– Древо это зовется амарант, на горячих реках растет. В старинной книге сказано, столпы в Соломоновом храме, что на паперти, из него были натесаны. Гордющее, от злой своей гордыни и не цветет никогда… – и придвинул брусок к свету, чтобы еще разок вникнуть в причину столь дурного характера.
– Позвольте выразить небольшое сомнение… – деликатно воспротивился Фирсов. – Всякое в мире цветет, ничто без того не обходится. Данная кошка, к примеру, и она, с вашего позволения…
– А это древо, видите ли что, уважаемый гражданин, не цветет никогда! – ударил словом Пчхов, и гость понял, что имеет дело с глубокой верой, не подлежащей обсуждению.
И едва Фирсов, что-то пересилив в себе, вступил в этот целиком вымышленный условный мир, тотчас все эти бедные, валявшиеся на столе и запасные, на полке, шкуреные и подкрашенные цветной морилкой дощечки подобно самоцветам заиграли в каменных сумерках пчховского одиночества.
– А вот это имеет название агорт – птичий глаз, – закончил Пчхов, добравшись до последней. – Тело имеет чистое и ровное, без единого родимого пятна. Дольше всех цветет, розово и раскидисто. Разбойникам кресты из него построены были. Отсюда разумному видать, что ни одно дерево без своего назначения не обходится, равно как и человек… всяк в мире свою должность несет!
Последовал снова испытующий взгляд, но теперь Фирсов не возражал, и в награду немало пчховских диковинок закатилось в записную книжку Фирсова до прихода Агея. Были там тайности о древней сосне, о мудром можжевеле, о травянистой лопотунье осине, о щедрой березе, о клене, наконец; рисуя, как противостоит это своенравное дерево непогодному ветру, тяжко оседающему на его листву, Пчхов мимоходом обронил Митькино имя. Бесценный же березовый наплыв, по Пчхову, зарождается, когда тоскует дерево, либо отравлен его корень гнилой подземною струею, либо ударили его зазря железом.
И, точно испытывая фирсовское терпенье, старик заговорил о глубинной красоте этой отличной древесины в зависимости от пережитого ею страданья.
– Гляди, как она сама на себя стелется, как красиво и мучительно растет! – деликатным жалом стамески раскрывал он Фирсову девственную глянцевитую глубь, где, погоняемая неутомимой, во что бы то ни стало, жаждой бытия, мчалась, тугими витками наматываясь вкруг самой себя, обезумевшая древесная почка. – Так вот и люди: никому не дано уйти от положенного ему огорченья, и раз нанесенной трещинки уж ничем не заживить… Отсюда нам видать, – вовсе непонятно заключил Пчхов, – что прогресс человека летит подобно тому, как граната в воздушном полете, а развитие в его душе происходит по всем линиям, какие имеет в себе человек. Теперь и смекни…
Монотонную усыпительную речь прервал короткий и властный стук за спиной. И, подчиняясь захватившей его тревоге, Фирсов бросился к двери приподнять и без того не запертый крючок. Что-то большое, черно-красное, вспоминал впоследствии Фирсов, ворвалось со двора, столкнув его с порога. Несколько мгновений незнакомец через плечо выглядывал во двор, соображая пути возможного бегства, если бы потребовалось, неслышно притворил дверь, потом он долго и с мнимым усердием вытирал ноги о рогожный половичок, на предмет той же безопасности изучая исподлобья заваленные железной ветошью потемки углов… Затем сочинителю была предоставлена возможность наблюдать встречу Пчхова с Агеем, – первый пристально вглядывался во второго, который, не смея поднять глаз, наклонялся вперед, и виноватые руки его тяжко свисали, как от чужого туловища. Обоим одинаково нежеланна была эта встреча, но, к удивлению Фирсова, Пчхов глядел скорее с горечью, нежели осуждением; слишком видно было, с его благушинской высоты, сколь причудлива бывает игра человеческого вещества.
– А шибко остарел ты, Агей, – проговорил наконец Пчхов. – Сам себя живьем затаптываешь.
– А как же! Чего на свете ни возьми, во всем от времени морщинки проступают! – сипловато поусмехался тот и, взяв мелкую стамеску со стола, машинально пробовал ее о свой крепкий, с синцой давнего кровоподтека, ноготь. – Писатель тут меня не спрашивал?
– Ждет, карандаш точит на тебя описатель твой, – ежась и отбирая инструмент, отвечал Пчхов. – Не трожь ничего чужого, Агей, не велю!
Тогда, отделясь из темноты, Фирсов уверенно потеснил Агея к стене и, памятуя Митькины советы насчет решительности в обращении с ним, вызывающе нащурился было, но тотчас отвел глаза в сторону. Нельзя было без утомления долго глядеть в лицо этого человека.
– Итак, Столяров? – с тиком в щеке от неприязни и волненья спросил он вошедшего. – Что ж, довольно любопытно познакомиться со столь выдающимся деятелем, хе-хе, отечественного разбоя. Однако пристраивайтесь поудобнее, не торчать же нам вечер на ногах!
Чтобы не мараться Агеевым рукопожатьем, он сделал вид, будто полез за платком, и выдернул его за краешек; несколько монет, затерявшихся в кармане, звонко раскатились по полу, а соседская кошка так и прыснула в угол.
XXI
– Вот, черт, сто годов сбираюсь кошелек купить, – с досадой бормотал Фирсов, как на распутье, – ползать ли ему возле Агеевых сапог, пренебречь ли рассыпанными гривенниками. – Фу, нелепица какая…
Впрочем, в свое время ему пригодились эти монетки; они помогли Фирсову подчеркнуть в повести замешательство своего двойника перед темным обаянием Агея.
– А не тянешь ты, дружок, на сочинителя! – подозрительно скосился Агей, которому доводилось видать русских писателей на портретах. – Я так рассуждал, сочинители в зрелых годах находятся…
– Ничего, имею время впереди исправиться! – озлился Фирсов и на самого себя, и почему-то на красные партизанские штаны Агея под черной овчинной курткой, и на молчаливое невмешательство Пчхова. – В крайнем случае могу и испариться… – И повернулся было к своему демисезону, безголово присевшему на полу, под гвоздем.
Тогда Агей дружественно взял Фирсова за плечи и усадил.
– Ладно, я же ничего обидного не сказал, – смутился он. – Может, тебе смолоду эта сила дадена. Эва, уж и скипятился, ровно самоварчик с угольками.
Понемногу отношения налаживались, и Пчхов очень уместно вспомнил, что собирался в баню. Скоро он ушел, посовав бельишко в плетеный кузовок.
По его уходе наступило тягостное молчание: слишком прозрачны были цели у обоих. Однако у Фирсова на коленях уже появилась его книжка, и он рисовал туда небрежным карандашом. Сперва получилась миленькая девушка, но вот к ней сами собой приросли усики, и она вдруг преобразилась в своего собственного соблазнителя.
– Знаешь, зачем я позвал тебя? – тихо спросил Агей, поглядывая, как девушкин соблазнитель наспех обрастал брюшком и подбородками, с каждым новым штрихом старея и обезображиваясь.
– Вроде догадываюсь… – покривился Фирсов, приделывая к получившейся харе горбатейший нос и обмазывая ее со всех сторон несусветными бакенбардами. – Умирать мудрецом не страшно, а страшно тварью сдыхать… хотя бывает и наоборот! Чтоб времени не терять, начинайте, раздевайтесь помаленьку, – пригласил он, и карандаш бешено зачертил страничку сплошной мочалкой. – Намекал мне слегка Векшин, да я из-за спешки не совсем его понял…
– …намекал, не понял, – отозвалось в Агее, и вдруг всей пятерней прихлопнул раздражавшую его фирсовскую книжку вместе с коленом под нею, но тот упорно вернул ее в прежнее положение, и прикрыть ее вторично Агей не посмел. Знаменательные сдвиги происходили на глазах у Фирсова в его собеседнике, и прежде всего как бы скудная, чадная лампада затеплилась в глубине запавших Агеевых глаз; ходила молва про них, что они убивали раньше его рук. И вот прорвалось: – Напиши, напиши про меня, весь тебе распахнусь! Вижу теперь, ты все можешь… ишь лбище-то играет как! Спрашивай, если что непонятно тебе станет… ну, из нашей практики. Видишь, любезный… как называть-то тебя?
– Это не имеет существенного значения… – неподкупно отклонил Фирсов.
– Не бойся, в гости не приду! Поздно мне… – сразу утратив всю свою напористость, зашептал Агей. – Заземляться подходит время, знаю свой срок. Уж и ямка вырыта, за мной одним черед… вроде и неловко деловых людей задерживать, вот я и тороплюсь. С места напрямки откроюсь: столько разов меня заочно приговаривали, что уж я курносой не боюсь. Моя смерть будет внезапная, потому как я завсегда отстреливаюсь. Нонче каждый может меня пришить, хоть бы и ты, – в его голосе булькнул глухой смешок, – коли не погребуешь, и тебе письменную благодарность дадут за меня. – Как бы пелена ясновидения застлала горизонт Агея. – Мне предсказывали гадалки – либо бревно на меня нечаянно обвалится, либо сам задушусь не знаючи… но я-то знаю точно – меня она, моя продаст! – Он вскочил со сжатыми кулаками, и следом, потрясенный вспышкой его безумия, поднялся Фирсов. – Еще посмотрим, сама устережется ли от меня…
– Сидеть спокойно, а то уйду, – пригрозил Фирсов.
– Каждую ночь в два часа просыпаюсь, это и есть мое время. Вздрогну, чиркну спичку: два! Стрелки ровно замертвели… и вот здесь болит. Ты ученый, скажи, что тут у человека? То жечь почнет, то будто мехом щекочет… и гневит, гневит меня! – Он показал глазами тот опасный у человека уголок, куда сбегаются ребра.
– Невроз! – авторитетно заметил Фирсов, все подряд занося в книжку. – Заодно уж обеспокою вас вопросом: что же именно тревожит вас… они? Мне доводилось слышать, что с большими палачами это нередко случается… вообще с представителями этого рода деятельности.
– Да нет… а вроде пусто станет мне очень, – бормотал Агей, отдаваясь на милость Фирсова, и вдруг тот с удивлением ощутил, что и у него стеснилось в том же месте под реберной клеткой. – В самом этом неврозе и сверлит. Я снисхождения не требую… Меня обелить – жизни цельной не хватит, спокаешься! Ты единственно опиши меня без прибавки или украшения, как я есть, и почему я нонче все на вашем свете истинно презираю, а я тебе за труд твой душевно с того свету поклонюсь. Теперь откуда ж мне… с нынешнего начинать или сперва немножко назад коснуться?
– Можно вскользь пройтись насчет детства-рождения… – запинаясь и сделав оригинальный жест рукою, предложил Фирсов, – чтобы затем с разбегу перейти к дальнейшему.
Тот отпил глоток воды из жестяного чайника перед собою, не только для прочистки голоса: он волновался.
– Уж маленько затмеваться во мне стало… ровно занавеской черной задернуто. Нет, постой, что-то виднеется… – Агей вспоминал туго, с явной болью. – Вот яснеет теперь: зеленый бугор, и за него солнце уходит, уж вечер. На бугре мельница Павла Макарыча Клопова, крылышки ветром оборваны у ней: значительный в тот год над нашим краем ураган прошел. А интересно бы взглянуть, перед смертью, стоит ли еще она теперь, бедная, а?.. Равнина у нас там, лесов маловато. Клопов так говаривал: «Без лесу жить ясней, без дурных мыслей…» Промежду прочим, первейший лесокрад был! Позволь, к чему я все это? Ах да, имеется там луговина у нас, в двадцать четыре версты квадрат… желтая краюха, на ней расставлены деревни: Шемякино, Царево, Пальцево и четвертая моя – Пасынково! Названьице-то запиши, а то затеряется, так и не узнает никто, откуда Агей зародился. Это у нас и красная смерть водилась… не слыхивал?
– Попадалось в сектантской литературе где-то. Это красной подушкой стариков удушали… – гадливо усмехнулся Фирсов, – так сказать, во избавление от напрасных горестей бытия?
– Ото всех бед применялося… – махнул рукой Агей и опустил глаза. – А народишко в наших краях тихий, смирный, только на вид вроде непроспавшийся. Заяц вскочит на завалинку и отдыхает без опаски, и никто его не обидит. Вот ты сейчас на подушку нашу хмыкнул, а чем она тебе не пондравилась? – взъярился он. – Подушкой ли душить, из пушки ли, саблей продоль человека рубить либо собачьим газом вытравлять… какая разница? Подушкой-то оно даже мягше, опять же по доброму согласию сторон, в удовольствие! Сказывано, будто профессор, который изобрел собачий тот газ, доселе ходит нерасстрелянно, а? Куды мне до него: я людей-то поодиночке, а он ротами! – зычно раскатился Агей, а Фирсов, свободной рукой зажимая ухо, только мучительно морщил лицо. – Да записывай… чего жмешься, ровно божья мать?
– Поменьше рассуждений, больше дела… продолжайте! – поотодвинулся Фирсов, защищаясь.
– Так вот, проживал в тамошних краях один благочестивый мужик со своей старухой… жилистый такой черт! Вот скоро сам увидишь: собственнолично отцовское проклятье привезти сбирается. Сурового нрава старец, много в жизни богом мучился… до сей поры покоя от него не нашел. Первый евангельщик был на селе, а во младые годы к мордвам да к татарям за верой ходил, для проверки: нигде лучше не смог выискать. Изба просторная, полы под масляную краску. Душа в душу со старухой жил… Ну, значит, посеял дед в бабку зерно, вырос из бабки колос. Стал колос рость, стал наливаться… тот колос я и есть, мое почтение! – Он с ироническим смешком ткнул себя в грудь.
– Не вижу пока ничего смешного… – пожал плечами Фирсов. – Видно, с отцом не в ладах жили?
– Еще в малолетстве случилось промеж нас: ястребенка я раз в поле подобрал. А как надоел мне, то я ему головочку свернул, чтоб не мучился, да кошке и отдал. Так вот, отец молитвенник был за весь род людской, без пяти минут небесный праведник, всю страстную неделю пыльное пятно от земных поклонов со лба не сходило, а ведь замертво меня от него отняли. С того разу и ухо у меня отвислое, видишь? Ушей человеку затем и дадена пара, на случай родительского гнева. Но ничего не возразишь: обожатель природы! Вот близ тех самых лет и нашла на меня ужасная отчаянность в поведении, совсем перестал я курносой бояться: ну, ни чуточки! Да и кто это выдумал, будто курносая?.. вот врака-то! Я тебе приоткрою секрет, но ты молчок, смотри. Весь позапрошлый-то год она тут, в Дровяном переулке, жила. Платочек носила, приспущен, и носок из-под него востроклювый, а не птичий. И как по делу куда отправляюся, непременно ее встрену. То прикинется, будто на рынок идет, то как бы из баньки с тазиком топает… и кажный раз глазком подмигнет. И так она меня расстроила, что вечерочком однажды проследил я ее и вошел… ну, следом зашел за нею! – Агей опустил глаза и переждал полминутку, в течение которой скоса глядел на свои шевелившиеся пальцы. – Наутро выхожу, а она и прется навстречу мне ни в чем не бывало, неживая-то!.. керосин в бидоне тащит, хороша, а? Вот канитель какая получилась… – Он издевательски расхохотался: – Это я тебе нос крутю, дурень, а ты и уши развесил. Она днем не ходит, она больше по ночной поре…
– Уйду! – с ненавистью пригрозил Фирсов и лишь теперь заметил, как сел, изменился его голос.
– Вот ты погуще меня мозгой одарен, объясни: дозволено ли живую тварь убивать? И на войне и всяко! Я после того ястребенка так это дело понял, что до мыши включительно можно, а выше – грех. И вообще я в строгости был выращен: верить – не шибко верил, но полунощницы с отцом отстаивал. А на войне вот и преклонился мой разум. И кто бы подумал: с махонького началось! Атака случилась, а местность чертова, названье Фердинандов Нос: весь в дырках холмище. Я первым проволоку порезал, бегу этак, ору, а навстречу офицерик австрийский, сопляшка такой. Шашкой взмахнул на меня, да о штык мой напоролся и замер, и не рубит меня, а только уставился – враз, как ты в меня теперь, с молением. И еще не кольнул я его, а, промежду прочим, уж начинает лицо его оплывать, ровно огарок, а взгляд одновременно мигает мне, ищет. Чего-то ужасно он искал тогда во мне… и не нашел! А это верно, когда тебя штыком колют, смерть свою – не на острие, а в самом зрачке у того, кто колет, ищи! И как замигал он мне – врешь, думаю, через глаз пролезть в меня желаешь? Защурился я да…
– Словно в бане натоплено… – шумно вздохнул Фирсов, обмахнув испарину со лба.
Он даже привстал зачем-то, но Агей властным толчком в плечо осадил его на прежнее место.
– Потерпи, чудак, самое теперь завлекательное, самая соль начинается… Тут вроде смотр нам после случившихся боев произвели. Генерал со штабу наехал, с виду что твоя гаубица: лицом мужественный и красный, наскрозь войной пропитался. Нацепляет мне в строю военное отличие, поздравляет с геройством. А мне как бы жар приключился, и ухо поврежденное заныло. «Ваше, говорю, дорогое превосходительство, во что же мы упираемся в жизни… ведь все это ржавь сущая: я человека убил». И помнится, сдуру дополнительно сболтнул что-то. Глуп был, вспоминать совестно… Как выпалит он в меня полным зарядом во всю пасть: «Идиот, коли начальство дает что, значит, за святое дело дает!» Отсидел я трое суток за своевольный разговорчик взаперти, и тем временем понравилось. Конечно, полностью-то еще не все оборжавело во мне, но смекаю: работа, в общем, легкая, а отличают. И что всего главней – не берут меня ни пуля, ни хвороба. Бывало, смерть вокруг все до былинки выкосит, из земляных норок и кротишек-то всех железным ногтем повыковыряет, а я… один я у ей невредимый стою ухмыляюся, ровно у тещи любимый зятек. Хожу и дымлюсь, такая во мне злоба. Обозорнел я вконец, за кажную атаку в среднем по семь штук накалывал… пуще светлого Христова воскресенья боя ждал. Не хочешь – не верь, а только случилось, мертвого по второму разу убил. Откинулся он башкой к лафетному колесу, вроде наблюдает мои действия… Ну я и вздел его от страсти! И пошла мне удача на кресты, а как выдали четвертый, самый золотой, снялся на карточку кабинетного размера и домой отослал: будто стою на морской скале, фуражка набекрень, грудь в крестах, пуле пройти некуда. Меня в ту пору от здоровья жениться тянуло; пускай, соображаю, девки заранее влюбляются. Папаша мне тоже благословение свое прислали с матушкой. И как германская кончилась, новая же, по недосмотру правительства, не началась пока, а между тем карманные средства мои очутились на исходе, то и решил я самолично применить свой добытый опыт. Воротился украдкой в родимые места, поогляделся… да и почал помаленьку богатеньких корчевать. По общему отзыву за год работу провел довольно значительную… – И тут Агей снова, с каким-то отчужденным любопытством, покосился на руки себе. – А только чего-то затянулось дело с медалью на сей раз: живуча мать-волокита на русской земле!
– И тебе не жалко… их? – содрогаясь от гадливости, вскинулся Фирсов.
– А чего?.. сорняк из поля вон, полезному злаку воля.
– Ошибку в спешке совершить не опасаетесь?
Агей только кольнул искоса собеседника медвежьим глазком.
– Ты лишнюю умственность не наводи… да я на наградах не настаиваю, достаточно сам себя награждал: бывалча, по полцарства за ночь в карты просаживал… всего в жизни спробовал, так что пора и честь знать!
Он впал в оцепененье долгого и тяжкого похмелья. Пользуясь передышкой, Фирсов снова кинулся записывать, так что пальцы сводило от поспешности… впрочем, писал он вовсе не то, в чем каялся Агей. В повести давешний эпизод округлялся иначе; по Фирсову, при первой же всеармейской смуте рядовой Столяров Агей пришил генерала, награждавшего его за тот начальный подвиг, причем – не из политических даже соображений или, скажем, из иронической благодарности за полученную науку, а просто из неодолимой прихоти добыть мундир и послать папаше карточку во всех генеральских регалиях, что, по слухам, произвело неотразимое впечатление на пригожих односельчанок.
– Да ты послушай меня, погоди ты, торопыга, успеешь свой черновичок на Агейку Столярова накидать!
– Не надвигайтесь, вы мне мешаете работать… – оборонялся Фирсов, потому что временами очки у него едва не запотевали от дурного Агеева дыханья, а сзади приходилась уже стена. – И бросьте же свои блатные штучки, черт возьми!
– Вот и рычишь ты, а ведь не боюсь, не крепше ты моего ястребенка: пера на тебе много, а тельца на грош. И я почему на тебя напираю? Я с изнанки помочь стремлюся, из потемок, а ты спереду умом пробивайся… вдвоем-то мы враз до сути и доберемся. Я так гляжу, что не кровь пролитая в нашем деле вредней всего, а понятие: нельзя никому открывать, как это легко и нестрашно. Потому что без Бога да на свободке – ух чего можно в одночасье натворить. А уж кто нож или что другое там на человека поднял, то надо и его самого в яму зарыть… Но тут заминка у меня: кто же тогда распоследнего-то возмездию предаст? Самому вроде не с руки в землю закопаться, а из посторонних станет некому. Вот как твое мнение, просвещенный деятель?
В вопросе этом Фирсову почудилось проявление если не природного ума, то стихийного, вслепую, правдоискательства, не раз отмеченного фирсовскими предшественниками в русском преступнике. «Из глубокого колодца, сказано было в этом месте фирсовской повести, и в слепительный полдень иногда бывает виден свод небесный с ночными светилами». Естественно, сочинитель попросил собеседника уточнить, кого имел тот в виду под именем последнего наказующего. Агей отвечал довольно посредственной догадкой собственного изобретения, однако не лишенной известной остроты и смысла, так как на любое суждение о великом или бесконечном неизменно ложится отблеск темы. Словом, налаживался полагающийся в таких случаях, истовый, с глазу на глаз, разговор, и за протекшие затем полчаса обоим удалось выяснить немало обстоятельств, одинаково полезных и для Агея, и для его вынужденного биографа, как вдруг случилось досадное происшествие… Кошке, спавшей на хозяйской койке, приснился голодный сон. В поисках пищи она полезла на полку, где хранилась пчховская снедь, но оскользнулась по дороге и вместе с инструментальным ящиком Пчхова свалилась на пол. Фирсову представилась редкая возможность изучить психическое, полное напряженного ожидания, состояние Агея той поры.
С прокушенной губой, весь в поту и выхватив что-то из рукава, Агей мутно озирался по сторонам, ища разгадку долгого, с металлической россыпью, грохота; испуг его мгновенно передался и Фирсову. Оба, крадучись, отправились в дальний угол, за печку, к месту происшествия. Причина была очевидна: кошка ежилась в углу, в страхе наказания за провинность. Отпихнув назад Фирсова, близоруко склонившегося к полу, Агей медленно отводил ногу в тяжелом сапоге, и, верно, пришлось бы Фирсову стать свидетелем ужасной расправы, если бы не поторопился открыть дверь на условленный наружный стук.
Пчхов вошел веселый, распаренный; проиндевелые волосы торчали из-под шапки. С ходу поняв обстановку, он решительно подошел к Агею.
– Чего, чего удумал? – спрашивал он, наступая на Агея и не спуская глаз, пока кошка не шмыгнула во двор сквозь полуприкрытую дверь. – Уж я надеялся, не застану тебя, а ты… ну, спать пора! Хватит тебе, хватит: сколько времени у стоящего человека отобрал.
– Хорошо еще, только время, не самые часы отобрал-то! – во весь рот пошутил Агей; и вот следа не оставалось в нем от его недавней просительной озабоченности. – Чего гонишь! А может, не все еще меж нас досказано…
– Ладно, в другом месте доскажешь. Ступай и не возвращайся ко мне больше, – говорил Пчхов, тесня его к двери, а тот пятился без обиды и сопротивленья. – Уходи, велю…
Когда хозяин обернулся к Фирсову, тот сидел с бездельными руками на коленях, с отускневшим от усталости лицом. Точно ослепшим взором глядел он на раскрытый в кружке света под лампой листок записной книжки, где до поры притаились осквернившие его слух Агеевы откровенья. Но уже никакой силой нельзя стало удалить ни буквы об Агее из задуманной повести.
– Накурился, что ли? – наклонился к нему Пчхов, заглядывая за фирсовские очки, по-стариковски полуспустившиеся с носа.
Лишь теперь признал он трудность сочинительской должности, правильно разгадав его подавленное, противоречивое безмолвие.
XXII
В ночь, проведенную Митькой вне дома, Зинка видела про него скверный сон и потому, уходя в тот вечер на работу, старательно запудривала круги под заплаканными глазами. Как страшилась она утратить еще не приобретенное! Только через неделю, полную жгучей безвестности, дополз до нее слушок о неудержимой Митькиной гульбе после некоторых опасных приключений. Никто на свете не знал, что за те два часа, пока Агей смущал Фирсова своей исповедью, Митька с товарищами удачливо навестил намеченное акционерное предприятие, о котором сговаривался с Агеем при последнем свидании. Щекутин и курчавый Донька помогали Митьке в той, оказалось, весьма легкой и выгодной медвежьей охоте. Не желая иметь в сообщниках Агея, хоть и наносил этим непрощаемую обиду, Митька решил, не вдаваясь в объяснения, отослать ему в конверте его долю, – и не как за наводку, а вровень с прочими участниками. Выяснилось, таким образом, что лишь из помянутых соображений Митька и устраивал на это время Агееву встречу с сочинителем на квартире у Пчхова…

