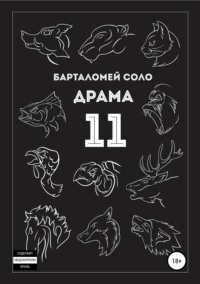
Драма 11
Думы мои прервал телефонный звонок. Это был капитан Соловьев.
– Слушаю.
– Соловьев.
– Узнал.
– У нас труп, Илларион Федорович, – пыхтя, выпалил он. – Убийство. Я подумал, может, вам будет…
– Адрес, – прервал я и включил громкую связь.
– Революции, сорок один.
Иван кивнул, приняв информацию. Я сбросил вызов. Ну, что за превратности судьбы? Труп. Убийство в Большой Руке в тот самый отрезок времени, когда эту клоаку посетил сам граф Лихачевский! Все же не зря Гитлерша меня отшила, ибо мне так или иначе пришлось бы выдвигаться на место преступления, пожертвовав планами в психушке. «Волга» заревела, Иван понизил передачу и рванул, нутром чувствуя бенефит от скорого прибытия на место преступления. Я же, дабы не терять времени, позвонил в дороге своему шефу в редакцию.
– Ларик! Как дела?
– Нужна помощь.
– Это мне нравится! Значит, что-то серьезное накопал. Говори.
– Ядвига Павловна, заведующая местным дурдомом, наотрез отказывается идти со мной на контакт. Мне нужны все ее трещинки, чтобы расковырять их как следует. Живет дама роскошно, так что нужно подключить кого-нибудь из кабинетов, где висит портрет царя.
– Сделаем, – бубнил дядя, записывая данные. – Есть еще новости?
Но я уже отключился, ибо растрачивать время на пустую болтовню был не намерен. К тому же дядька мой давно привык к моим этическим причудам и не таил обиду из-за подобных финтов.
Иван топил, что есть мочи, не щадя свой металлолом. Я между делом изучал этого юношу, миссия которого на ближайшее время была проста и в то же время чрезвычайно важна. Возить графа Лихачевского по деревне, молчать и терпеть его барские выходки. На подобную роль Иванушка подходил как никто иной. Всегда выбритый, бодрый, краснощекий, с белесыми бровями и аккуратной деревенской стрижкой, он носил чистые светлые рубашки без пятен и изгибов, а пахло от Ивана, да и в его автомобиле, всегда свежестью. Не могу описать как ценю подобные мелочи, тем более в том месте, где соблюдать вышеупомянутые данности весьма затруднительно, ведь обстановка вокруг так и подталкивает нарушить тот или иной пункт из списка благородных принципов «человека опрятного». Это был тот редкий бриллиант среди кучи дерьма, который стоило ценить, и я поистине лелеял своего извозчика, снабжая его периодически зеленой купюрой в знак своей признательности.
Улица Революции была одной из тупиковых артерий деревни. Она брала свое начало от площади Суворова, пересекаясь с Ленина, Калинина и Пушкина (по которой можно было попасть к моему имению на горе). Это была довольно уютная узкая улочка, вдоль которой располагались жилые дома – всего сорок один. Часть из этих строений выглядела заброшенными, вторая половина походила на попавшие под авиаудары развалины. Мы медленно катились по улице, объезжая потоки тянущихся к месту происшествия по дороге людей. Дом под номером сорок один расположился в конце улицы, прямо на границе с лесом. Здесь уже толпились деревенские зеваки, прибывающие со всех концов Большой Руки. Слоняющиеся от безделия, они гудели, пересказывая друг другу обрывки выдернутой из потока информации, перерастающие впоследствии в слухи, а еще позже трансформирующиеся в обросшие красочными деталями истории. Конечно, правды в этих мутировавших историях было на грош. По сути, высшее общество ничем не отличалось от местных дикарей. Те же слухи, распускаемые бездельниками вроде меня, только приукрашенные красивыми словесными оборотами и вытекающие из бесед в закрытых клубах за бокалом коллекционного виски. Разница лишь в эстетике.
У входа в дом был небрежно припаркован полицейский «Бобик», с крыши лачуги напротив в бинокль глазели местные пацаны, а помощник Соловьева Дима упорно сдерживал натиски напирающей любопытной толпы. Подвыпивший, он будто сторожевой пес рявкал на лезущую вперед толстуху в платке и домашнем халате, силой отталкивал прущего напролом пьяницу, успевал отвешивать подзатыльники особо ретивым мальчишкам. И как бы ни напирала эта биомасса, Дмитрий с достоинством сдерживал свою линию Блицкрига, не предаваясь отчаянию. Он орудовал умело – где можно было обойтись словами, звучало хлесткое предупреждение. Тех, кто был понаглее, крыл отборным деревенским матом, а уж и к вовсе наглым не гнушался применять свою молодецкую силу. Я с любопытством наблюдал за его действиями – отточенными, как будто он проделывал подобное каждый день. В своей потертой кожаной куртке, которая досталась ему, вероятно, еще от отца, с растрепанными кудрявыми волосами, с лицом, испещренным угрями. Он был худощав, краснощек, с высоким лбом и с узкой полоской бледных, поджатых в вечном переживании губ. Глаза его были затуманены алкоголем, слезились, а снизу отдавали красным. Это был один из типичных представителей деревенской молодежи в современной России. И если у Ремарка было потерянное поколение, то поколение, к которым принадлежал Дима, я называл невидимым. Они были невидимками, эти двадцатилетние не пристроенные провинциальные юноши и девушки. Они ничего не умели делать, не обладали какими-то особыми навыками, да и не хотели они ничего делать и ничем не хотели обладать. Они бесцельно жили там, где им не хочется, занимались тем, от чего их тошнило, но менять ничего они не решались, потому что не умели меняться сами, а учиться у них не было желания. Вот и коротали они свои жизни по деревням да прочим провинциям, погрузившись в плен безысходности, и жаловались каждый день, и страдали, но ничего при этом не делали. Эти невидимки были детьми своего времени. Они принимали участие в жизни, существовали на бумаге, по всем юридическим законам, но их как будто и не было вовсе, потому что, если их убрать (например, кто-то из них внезапно умрет), этого никто и не заметит даже. Димка был ярким представителем поколения невидимок. Распределили в академию МВД, не доучился, выперли, вернулся обратно, пристроился к Соловьеву – не благодаря своей сноровке, а опять-таки из-за стечения обстоятельств. И работает теперь не пойми кем – то ли сотрудник, то ли шнырь какой-то. И зарплаты вроде нет, и перспектив тоже не наблюдается, а все равно работает, и отталкивает этих прущих напролом невежд, и кричит на них, как будто собственность свою защищает.
Полуполицейский Дима, завидев меня, тут же поменялся в лице. Вся его сосредоточенность, вся его ювелирная работа, которую он проделывал до этого, как будто нивелировалась в один момент. Он обмяк, вытянул лицо и неуверенно направился навстречу ко мне, вмиг сменив амплуа.
– Илларион Федорович, добрый день, – сказал он, по дурости своей ослабляя оборону дома. Одичалые воспользовались мгновением, чтобы сдвинуть линию. – Капитан Соловьев внутри. Проходите.
Я оглядел дом под номером сорок один, который на фоне прочих местных халуп выглядел еще весьма даже прилично. Аккуратное одноэтажное здание. Новенький фасад, решетки на окнах, шифер на крыше. Хозяин явно был из тех, кто ухаживает за своим жилищем. Был здесь небольшой палисадник, спутниковая антенна на крыше, а забор так и вовсе представлял собой образец деревенского домоустройства. Правда, в отличие от иных местных заборов – сплошь низких, из какого-то гниющего покосившегося дерева, – этот забор представлял собой надежную защиту от посягательств извне. Кирпичный, метра в два высотой.
– Хорошо стараешься, – сказал я Дмитрию, и тот просветлел, как будто удостоился похвалы от самого Иисуса. – Но если ты так и продолжишь пялиться на меня с блаженством, то дом наводнят эти мелкие ублюдки.
Я кивнул в сторону мальчишек, которые уверенно пробирались ко входу. Дмитрий спохватился, извинился и рванул к ним, по дороге извергая поток заготовленных заранее матерных словосочетаний.
На крыльце меня ждала приоткрытая металлическая дверь – еще один защитный рубеж, не свойственный местным жителями. Я вошел под своды деревенского дома, раздвинув прозрачную тюль «антимуха» на входе. Заметил блок управления сигнализацией – предмет, в подобной глубинке входящий в разряд излишеств. Брякнул какой-то караульный колокольчик, и из комнаты навстречу мне вывалился Соловьев. В своей помятой форме, озабоченный и напряженный. На руках его были медицинские перчатки, в кармане сквозь штаны горел фонарик, а лысеющую голову покрывали многочисленные испарины пота. Стоял спертый запах деревенской хаты, но убранство в целом прилично отличалось от типовых берлог местных крестьян. На первый взгляд здесь было даже чисто, что меня, человека, привыкшего наблюдать изо дня в день за безумством срача, повергло на первых порах в некий ступор. Из корзины с крабами вырваться весьма не просто, и хозяин этого дома, вероятно, делал в этом направлении некие успехи.
– Эксперты из Екатеринбурга будут через полчаса, – суетливо брякнул капитан вместо приветствия и вытер платком вспотевший затылок.
Я кивнул, попытался войти в комнату, но капитан преградил мне путь, встав на пороге своей кабаньей тушей. Он наморщил лоб и как-то странно заглянул мне в глаза. Настоящий боров, он был ниже меня на голову, но куда шире и коренастей. Я почувствовал запах алкоголя и табака.
– Илларион Федорович, – выдавил он из себя, откашлявшись. Ему было неловко, но Соловьев – все-таки мент, и неловкость каким-то чудным милицейским образом была подавлена профессиональным напором. – Эта картина не для всех. Я знаю, что будут говорить о нашей деревне, когда новости об убийстве просочатся в региональные СМИ. Такое не каждый день встречается даже на «НТВ»… Раз уж вы журналист и у нас с вами вроде как складываются доверительные отношения…
– Я видел всякое, если ты переживаешь за мою впечатлительность, капитан. Что касается публикаций. Я здесь по делу пропавшей девочки. Я не новостник, а документалист, который работает над большим проектом, и меня не интересуют деревенские толки. Желтухой я не занимаюсь.
– Просто я знаю, как это бывает, – он почесал проплешину, не сдаваясь. – Мы тут себе тихо-тихо жили, вроде даже как неплохо всем тут было. А тут… – вздохнул, опустил маленькие глазки. – Большое начальство приедет… Копать начнут, виноватых искать.
– Боишься по шапке получить? – усмехнулся я. – Это призрак коммунизма в тебе колбасится, капитан. В Союзе ради отчетов чего только не придумывали. Маленькие докладывали тем, кто побольше, что все у них хорошо. Те выше передавали, и так до самого верха. И ведь все хорошо было, но как только копнешь, обязательно на говно наткнешься. Сегодня уже не те времена, хоть мы и недалеко ушли. Ты можешь быть спокоен, я сделаю свою работу максимально корректно. Партийный ремень обойдет твой зад стороной, не напрягайся, не отшлепают.
– Спасибо, признателен, – Соловьев утер тыльной стороной ладони пот с лица и уступил мне дорогу.
В затхлой темной комнате (шторы были задернуты, дабы избежать лишних глаз) передо мной развернулась самая странная картина, которую мне только доводилось наблюдать в своей жизни. Опишу все в мельчайших подробностях, ибо это чрезвычайно важно для дела. Итак, вот что показал мой осмотр при первом взгляде. Это был зал квадратов двадцать площадью. Типичная комната русского обывателя – телевизор, сервант, диван, шкафы, ковер на стене. Вся мебель и детали интерьера были расставлены по стенам и углам, освобождая центральную часть. В центре комнаты расположился труп старика – на вид лет семидесяти. Он лежал на спине, с искаженным от боли лицом. Губы его были синими, глаза широко открыты. Старик был абсолютно голым, руки и ноги его были растопырены по принципу Витрувианского человека. На животе его был толстый розовый шов от шеи до паха, небрежно стянутый плотными черными нитками. На левой руке виднелось нелепое черное тату в виде стоящей на задних лапах свиньи. По телу ползали мухи, запах стоял не из приятных. На запястьях виднелись кровоподтеки, ребра, судя по первому осмотру, были переломаны.
Я достал смартфон, сфотографировал интересующие меня детали и прошелся по комнате, изучая убранство. Капитан Соловьев озабоченно стоял в проходе, глядя с недоверием то на труп старика, то на меня.
– У вас не найдется… – заикнулся он, когда я полез в книжный шкаф.
– На кухню, – прервал я.
Мы прошли с ним на кухню, я сбросил перчатки и достал из своего чемодана бутылку виски. Соловьев быстро нашел нам чистые стаканы, и мы налили по сотне. Он опрокинул разом, я медленно цедил.
– Кто он такой? – спросил я, отодвигая занавеску на окне. В огороде дежурили любопытные мальчишки, прятавшиеся за деревом черешни.
– Дед-то? – нюхая рукав голубой рубашки, переспросил капитан. – Матвей. Дед Матвей. Жил тут себе тихо-тихо. Ни с кем не общался особо. Затворником был вроде. Я его не знал толком, да и жители тоже не много чего о нем сказать могут. Жил на отшибе, никого не трогал. Не знаю даже… Не знаю, – он покачал головой и тупо уставился в стену. – Не знаю, не укладывается как-то.
– Не раскисай, кэп, – хмыкнул я. – Ты тут вроде как за Бэтмена, так что слез лить не надо. Готэм не простит тебе этого. Здесь герой нужен, а не нюня.
– Ох, что будет теперь…
– Ничего не будет, – я хлопнул его по плечу. – Но послушай, что я скажу. Это уже серьезное дело. Пропажа ребенка – это одно. Труп, – я бросил пренебрежительный взгляд в сторону комнаты, где лежал дед Матвей, – и труп не простой – это совсем другое. От тебя требуется холодный рассудок и профессиональный подход к этому делу.
– Да уж…
– Возможно, это твой звездный час, Соловьев, – я плеснул ему в стакан. – Кто-то на таких делах горит, а для других это шанс взлететь. Скоро приедут эксперты – тебе нужно будет хорошенько поработать и не дать этим ребятам все запороть. И сам не нажрись – предстоит сложная работа. Нужен светлый разум, чтобы не упустить детали. Понял?
Капитан кивнул.
– Кто обнаружил труп?
– Девка какая-то приезжая… – Соловьев накатил и снова занюхал рукавом.
– Какая еще приезжая девка? – недоуменно спросил я.
– Сами еще ничего не знаем. Димка ее в участок еще утром отвез, она там с нашим Гномом вместе ждет, пока мы тут закончим. Нас на всех не хватит.
– Так, капитан, – я покачал головой, достал из своего арсенала диктофон и максимально сосредоточился. – Давай по порядку. Труп этого вашего деда Матвея обнаруживает какая-то приезжая женщина, которая не живет в Большой Руке. Верно?
– Да.
– Она приходит в этот дом с каким-то Гномом, звонит в полицию, приезжаете вы, а она, эта женщина, и этот Гном сейчас в участке, ждут, когда вы их допросите. Так?
– Так.
– Что это за Гном?
– Карлик тут у нас есть один. Ефим. Не совсем в рассудке. Лет шесть в психушке провел, потом отпустили его. Инвалидность оформил и шатается по деревне, помогает всем. Его тут все любят – он и воду носит, и с выпасом помогает, да все, что просят, делает. Работящий парниша.
– Значит, так, – я поднялся со стула. Соловьев поднялся следом. – Ты закройся тут на замок и жди специалистов из центра. Обыщите дом, снимите отпечатки. Все интересное тащи в участок – записные книжки, телефоны, документы, фотографии. Этот дед Матвей явно переживал за свою безопасность – вон как дом свой оградил. Я с Димкой твоим поеду к этим двум и буду присутствовать при допросе. Чуть что, сразу звони. Ясно?
– Ясно, – поникшим голосом ответил капитан и покосился на бутылку виски. Но бутылку я забрал с собой – нельзя было допустить перебора.
Вот так я в критический момент перехватил инициативу, воспользовавшись эмоциональной менструацией своего сподвижника. Объяснюсь, что у меня на уме. Соловьев, хоть и мент, человечишко простой – не шибко мозговитый, с монгольским восприятием (то есть готов биться челом о землю перед тем, кто его превосходит), но при этом крайне мне полезный и, если отбросить все клише, впрочем, даже не гнилой. При всей перспективе дела пропавшей девочки убийство, да еще и такое экстравагантное, для европейских гурманов будет куда более изысканной темой. Шесть убийств за двадцать лет. По три целых и три десятых в год. И тут – вуаля! Седьмое. Это больше смахивало по эксклюзивности на затмение, и я совершенно случайно застал тот самый момент, когда луна закрывает солнце. Руками Соловьева я решил сопровождать это дело от начала и до самого конца, а концом должно стать слово, которое возбуждает похлеще Галь Гадот. «Сенсация».
Иван мялся в нерешительности спросить у меня что-то по дороге в участок, но я томил своего возницу молчанием, не желая лишний раз распыляться. Повторюсь: с водителем мне повезло – надрессированный и дисциплинированный, он бы идеально вписался в мою жизнь в Питере в качестве мальчика на побегушках. Мне стоило посмотреть на него поближе, ведь ответственные кадры в России на дороге не валяются, а уж тем более те, кто обладает самым важным качеством служаки – самодисциплиной. Рядом со мной сидел Дмитрий, помощник Соловьева на общественных началах. Он смотрел в одну точку перед собой, не шевелился и, казалось, не дышал, однако перегар его даже при отсутствии дыхания заполнял салон «Волги». Подобный трепет (по большой части бесполезный) начал меня раздражать, и я прервал молчание.
– Что тебе известно об этом Матвее?
Димка встрепенулся, как будто я вывел его из комы дефибриллятором, покрутил головой на тонкой шее и промямлил:
– Да особо-то не много известно, – он сглотнул, протер рыбьи глаза. – Вроде как, говорят, он с дочкой жил.
– Кто говорит?
– Из толпы кто-то бубнил, когда я дежурил у входа. Дескать, дочка-то где? Я спросил еще: «У него и дочка была?». «Ну, конечно, все это знают».
Я сделал записи у себя в смартфоне.
– Еще что?
– Еще, еще… – пробубнил Димка, напрягая извилину как будто на экзамене. – Ну, не местный дед Матвей. В смысле не родился в Большой Руке. Мы всех, кто тут не родился, местными не называем. Приехал пацаном откуда-то. Поселился на краю деревни, так и жил в отдалении, пока не… Сами знаете.
– Пока не помер, – завершил я. – Не бойся произносить это вслух. Ты же мент.
Дима зарделся, на прыщавых щеках появился румянец. Похоже, «мент» для него было неким недостижимым статусом. Я усмехнулся, вглядываясь в это юношеское потасканное лицо. Пьющий юнец без особых задатков и ума, но кто, если не он, будет осуществлять функции, возложенные на МВД, в этой дыре?
В участке, где безгранично царствовал престарелый гражданский охранник на входе, ожидала странная парочка. Мы прошли мимо скучающего деда – морщинистого и древнего, возможно, даже неандертальца, и направились прямиком к ожидающим. Парочка сидела в приемной, не скованная ни наручниками, ни стенами, ни решетками, разве что собственной совестью. В пустующем здании были лишь они да старый вонючий цербер на входе, который доживал свои последние дни. Я шел первым, Дмитрий семенил за мной, подрядившись нести мой чемодан. (И откуда эта тяга к услужливости во времена, когда нет ни царей, ни генсеков?) Оба – и женщина, и этот Гном – при виде нас поднялись со стульев, ожидая дальнейшего развития событий. Я встал напротив, внимательно изучил обоих и указал на дверь, ведущую в кабинет Соловьева. Дмитрий вопросительно на меня поглядел: боялся кабинета начальника, как и самого Соловьева, но я его заверил: тут у меня полный карт-бланш, и капитан дал мне полномочия, равные его собственным, а то и куда больше. Действенно, хоть и мало похоже на правду. Мы вошли в пропахшую дымом каморку, где вчера было распито два бутыля добротного виски, и я указал Дмитрию на стол начальника. Он снова смерил меня своим предынсультным рыбьим взором, я настоял очередным огненным взглядом, и он неуверенно поплелся к шефскому штурвалу. Парочка расселась на стулья напротив, где еще давеча пылились кипы папок и бумаг. Я же остался стоять у входа, вооружившись заметками и диктофоном. Воцарилось молчание – Дмитрий собирался с мыслями, я выжидал, когда напряжение в комнате достигнет апогея. Женщине было лет тридцать – в каком-то странном растянутом желтом плаще до пола, совершенно не летнем, в резиновых ярко-желтых сапогах, с растрепанными белоснежными волосами. Волосы ее были полностью седыми, вызывая диссонанс с молодым лицом – серым и мрачным. Губы ее были поджаты, зеленые, неестественно огромные глаза опущены. Она выглядела так, как будто была напугана, но при детальном изучении мне показалось, что вместо страха она была преисполнена полнейшим безразличием. Какая-то дикая отрешенность, какая-то бездонная пустота в глазах. Гном – коренастый карлик, с тупой полуулыбкой на физиономии, лысый, сальный, премерзкого виду. Одет он был в пеструю рубаху, которая была ему по колено, шорты и шлепанцы. Ноги его, конечно, не доставали до пола, и он болтал ими, будто девятилетка, сидящий на пирсе у моря. Стоит добавить, что несло от этой парочки весьма дурно, и я поручил Дмитрию распахнуть настежь и без того трухлявые полуразбитые окна.
– Начнем допрос, – мой голос разорвал докучающую тишину. – Это Дмитрий – сотрудник отдела полиции Большой Руки. Допрос проводится в присутствии представителя СМИ. Прошу, начинайте.
Дмитрий вытаращил глаза, напрягся, стиснул зубы и выдохнул. Вся эта история была ему явно не по душе. Откашлялся, оглядел всех по очереди, потом перевел взгляд на меня. Я кивнул на капитанский компьютер. Дмитрий соблаговолил его включить трясущимися то ли от выпитого, то ли от страха руками.
– Мм, – бурчал он под хруст жесткого диска из девяностых. – Двадцать седьмое июля две тысячи восемнадцатого года. Большая Рука. Имя, фамилия? – он вопросительно посмотрел на даму, придав себе вид, полный суровости. Получилось комично, но никто, кроме меня, комичности не заметил.
– Ефим Петров, ребятки, – выпалил карлик вне очереди и повернулся ко мне, как бы показывая, что это он и есть. Дмитрий перевел недовольный взгляд на него.
– Дата рождения, место проживания.
– Четырнадцатое октября тысяча девятьсот семьдесят первого, Большая Рука, улица Гагарина, дом двенадцать.
– Семейное положение.
– Холост, конечно, я же карлик. Да еще и с желтой справкой, – пошутил он и растянулся в беззубой улыбке.
– Наличие судимостей.
– Только принудительное лечение, вы же и так все знаете, ребятки.
– Знаем, – кивнул Дмитрий, барабаня пальцами по клавиатуре. – Но формальности соблюсти обязаны.
– Место работы.
– Безработный. Но вы также знаете, что я помогаю всем тут, в Большой Руке. Так что работы на самом деле хватает. Занят поболее работящих бываю.
– Так, давайте отвечать на вопросы без лишних комментариев, – входя в кураж, буркнул Дима. Настоящий русский мент просыпался в нем, как будто оборотень в полнолуние. – Ваше имя, – он перевел взгляд на даму.
Она подняла глаза на него, но ничего не ответила.
– Имя, фамилия, – повторил Дмитрий голосом, полным ментовской стали.
– Я… – замешкалась женщина. – Я не знаю.
– Что значит «я не знаю»? – насупил брови Дима.
– Я не помню…
– Позвольте вступить, – снова встрял Гном.
– Не позволю, – парировал Дмитрий.
– Вступите, – скомандовал я, и Дмитрий, который, казалось, и вовсе забыл, что я присутствую в комнате, тут же дал заднюю и умолк, сделавшись в одночасье из большого начальника только родившимся котенком. Я-то прекрасно знал, что пускай лучше говорит опрашиваемый – того и глядишь, чего лишнего ляпнет, тем более этот Гном автоматически попадал в разряд подозреваемых.
Ефим снова обернулся, как бы посвящая свою следующую фразу мне, но я жестом указал ему на Дмитрия, давая понять, что допрос ведет именно он.
– С чего бы начать… – почесывая лысину, проговорил он.
– С начала начни, – выпалил Дмитрий, стараясь отыграть позиции. – И рассказывай, пока не остановим.
– С начала, с начала… Так, – карлик сделался серьезным, задумался. – Рано утром, часов в пять, я шел к колодцу.
– С какой целью?
– Набрать воды для хозяйства бабки Софы, – пожал плечами Ефим. – Я каждое утро ей воду ношу. У нее ведь там свиньи и…
– Продолжай.
– Ну, значит, иду я и вижу у колодца девушку. Странная какая-то, ходит по кругу, как будто с луны свалилась. Бурчит себе под нос что-то.
– Эту девушку? – указал на женщину в желтом плаще Дмитрий.
– Эту самую, – подтвердил Гном.
– Дальше.
– Ну, я подхожу и говорю: «Милая дама, тебе помочь чем?». Она вздрогнула, испугалась. Конечно, не каждый день карликов встречаешь, меня-то тут все знают, привыкли. А эта, сразу видно, не из местных, я местных всех знаю. Ее первый раз вижу в Большой Руке, это точно. «Кого ищешь иль заблудилась?», – спрашиваю. Она глазами слезливыми хлопает и говорит: «У меня, говорит, память отшибло. Ничего не помню – имя не помню, кто такая, не помню, как оказалась тут, тоже, говорит, не помню». Ну дела! А в руках бумажку какую-то крепко сжимает. Говорю: «Это что такое?». Она кулачок разжимает, а там записка, дескать: «Матвей и Галя, Большая Рука, улица Революции, сорок один. Пятнадцатое июля две тысячи восемнадцатого года. Свинья и Лось».
– Стоп, – прервал смекалистый Дмитрий. – Где эта записка?
– Да вот же она, – женщина разжала руку и подала ему смятый листок, вымоченный в поту. Он взял лист, развернул и внимательно прочитал.

