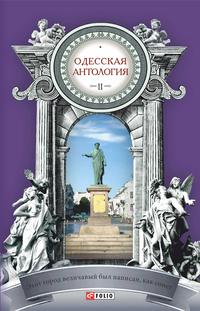
Одесская антология в 2-х томах. Том 2. Этот город величавый был написан, как сонет… ХХ век
Съев все пирожные, слон на некоторое время успокоился, и представители властей отошли в сторону для того, чтобы издали наблюдать агонию животного, а затем по всей форме констатировать его смерть, скрепив акт подписями и большой городской печатью.
…О, как живо нарисовало мое воображение эту картину, которая неподвижно стояла передо мной навязчивым, неустранимым видением трудно вообразимой агонии и последних содроганий слона…
Я стонал в полусне, и подушка под моей щекой пылала. Тошнота подступала к сердцу. Я чувствовал себя отравленным цианистым кали. Поминутно в полусне я терял сознание. Мне казалось, что я умираю. Я встал с постели, и первое, что я сделал – это схватил «Одесский листок», уверенный, что прочту о смерти слона.
Ничего подобного!
Слон, съевший все пирожные, начиненные цианистым кали, оказывается, до сих пор жив-живехонек и, по-видимому, не собирается умирать. Яд не подействовал на него. Слон стал лишь еще более буйным. Его страстные трубные призывы всю ночь будили жителей подозрительных привокзальных улиц, вселяя ужас.
Газеты называли это чудом или, во всяком случае, «необъяснимым нонсенсом».
Слон продолжал бушевать, и очевидцы говорили, что у него глаза налиты кровью, а из ротика бьет мутная пена. Город чувствовал себя как во время осады. Некоторые магазины на всякий случай прекратили торговлю и заперли свои двери и витрины железными шторами. Детей не выпускали на улицу. Сборы в театре оперетты, где шел «Пупсик», упали. Участились кражи. Положение казалось безвыходным. Но как всегда бывает в безвыходных положениях, в дело вмешалась армия. Генерал-губернатор позвонил по телефону командующему военным округом, и на рассвете, поднятый по тревоге, на Куликовом поле появился взвод солдатиков – чудо-богатырей, – молодцов из модлинского полка в надетых набекрень бескозырках, обнажавших треть стриженных под ноль, белобрысых солдатских голов; они были в скатках через плечо, с подсумками, в которых тяжело лежали пачки боевых патронов.
С Куликова поля донесся до самых отдаленных кварталов города залп из трехлинейных винтовок Мосина, как будто бы над городом с треском разодрали крепкую парусину, – и все было кончено.
Когда вместе с толпой любопытных я робко приблизился к краю Куликова поля, то увидел возле зверинца Лорбербаума лишь вздувшийся горой кусок брезента, покрывавшего то, что еще так недавно было живым, страдающим слоном Ямбо.
…Он был навсегда излечен от своей неразумной страсти…
Город успокоился. Отцвели и осыпались как бы сухими мотыльками розовые и белые грозди душистой акации. Любовный чад рассеялся. И я стал опять хорошо спать и видеть легкие, счастливые сны, которые навевал на меня мой ангел-хранитель, чья маленькая овальная иконка болталась на железной решетке в изголовье кровати, над прохладной подушкой со свежей наволочкой.
Яков Бельский
(1897–1937)

Писатель, журналист, карикатурист, представитель южнорусской школы в литературе. Друг В. Катаева, Э. Багрицкого, Ю. Олеши. Родился в Одессе, закончил Одесское художественное училище. В 1917 г. попал на фронт, стал большевиком. Воевал в Красной армии, потом боролся с антисоветским подпольем, служил в Одесской ЧК. Ушел из ЧК и переехал в Николаев, где стал редактором газеты, потом журналистом. С 1925 г. работал в Харькове. В 1930 г. переехал в Москву. В 1934 г. уволен из журнала «Крокодил» за «политическую неблагонадежность», спустя несколько месяцев стал журналистом газеты «Вечерняя Москва». В 1937 г. был репрессирован и расстрелян.
Американское наследство
После смерти отца мы поселились в четырехэтажном кирпичном доме на Базарной улице. Из окон нашей квартиры были видны серо-желтые стены соседнего дома. Только из одной комнаты открывался вид на длинный двор, вымощенный серыми квадратами лавы, которую итальянские пароходы компании «Ллойде-Триестино» брали с собой как балласт, когда шли за хлебом в Одессу. Тридцать одинаковых балконов, издали напоминающие клетки для птичек, уставленные всяким скарбом и вечно увешанные бельем, дополняли унылый пейзаж.
Стоило только пробежать несколько кварталов, и через белую арку, на которой было написано французское слово «Ланжерон», мы видели море. Ласковое или бурное, бирюзовое или черное, но всегда одинаково прекрасное. Вот почему одесситы полжизни проводят на улице, всегда веселы и никогда не унывают. И куда бы ни забросила их судьба, они всю жизнь вздыхают, вспоминая о море, и даже из далеких стран часто приезжают на родину умирать.
Но тогда, в чудесный майский день, о котором я хочу рассказать, мне было только десять лет, и я еще не знал цены этим богатствам. Море, и небо, и акации – все это было каждый день и рядом. Не надо было ждать целый год, как теперь, чтобы приехать на месяц к родным берегам. В десятилетнем возрасте мы этого не ценили.
Мы были самыми бедными в этом бедном доме на Базарной улице. У нас не было отца. Старший брат, студент, был репетитором и целый день бегал по урокам. Он должен был содержать семью и потому никогда не мог ходить на Ланжерон, к морю. Я его очень жалел. Иногда по утрам мать советовалась шепотом со старшей сестрой. По их озабоченным лицам я определял, что денег в доме нет. В таких случаях сестра долго бегала по квартирам соседей и приносила одолженный рубль в носовом платке.
Незадолго до происшествия, о котором я хочу рассказать, мы послали письмо в Америку, старшему брату отца, дяде Арию. По слухам, дядя был очень богат, холост и имел большую гостиницу в Бостоне. Мы просили помощи у богатого родственника. Ровно через месяц он прислал заказное письмо, в котором была вложена пятидолларовая бумажка. Из письма мы узнали, что старый холостяк стал активным деятелем какой-то христианской секты. Письмо содержало длинную, наставительную сентенцию-проповедь и призывало нас всех к смирению и к покорности воле всевышнего. В конце дядя просил, чтобы его больше не беспокоили.
Вечером того же дня состоялся семейный совет. Мать и старший брат казались очень смущенными.
– Моня, – сказала мама, обращаясь к старшему брату, – как ты думаешь… что делать с деньгами?
Надо сказать, что уже за неделю до этого мы все брали в долг и уроков у брата не было.
– Я думаю, – сказал брат, – что деньги вместе с проповедью надо отправить обратно…
– Удивительно, до чего они живучие, эти американцы, – сказала мама, – дядя Арий старше папы на пятнадцать лет и еще до Америки у него была астма… Если он умрет, мы все равно получим наследство…
– Вот поэтому и отправим деньги назад, – ответил брат, – ведь в наших же интересах, чтобы наследство не уменьшалось…
Пятидолларовая бумажка поехала в обратный путь, через Атлантический океан, к дяде Арию. На следующий день мать шепталась с сестрой…
С тех пор я стал преступником. Я день и ночь мечтал о смерти дяди Ария. Легенда об американском наследстве не давала мне покоя. Я видел во сне туго перевязанные пачки кредитных билетов, ящики с золотом и драгоценными камнями. Я думал о том, как буду покупать дорогие выпуски приключений Ника Картера по семи копеек и Ната Пинкертона – по пяти. На прочтение я больше брать не буду. Я мечтал о резиновом «Дьябло» и колесных коньках, выставленных в игрушечном магазине Колпакчи. Я расспрашивал людей, опасная ли болезнь астма и скоро ли от нее умирают. Я жил миражем будущих богатств. И вот однажды, когда на тротуаре, возле ворот, я погонял «бабу», ко мне подбежала Ривка, «мамка» старшего брата, прожившая в нашей семье много лет.
– Иди скорей наверх, – причитала она сквозь слезы, – скорей наверх… мама зовет. Такое нещастье, такое нещастье… дядя Арий умер…
Ривка была добрая женщина, и смерть даже абсолютно незнакомого человека причиняла ей душевное страдание. Словом, наши точки зрения на события в Бостоне в этот день не совпали. Одним духом взмыл я на четвертый этаж.
Наконец-то все, о чем я мечтал, станет действительностью…
– Одевай новый костюм, – сказала мама, – умойся и причешись… Нас вызывают к консулу по делу о получении наследства. У нас большое горе – умер наш дядя Арий.
Когда мы спустились вниз, во дворе было большое оживление. Соседи стояли группами, обсуждая событие и возможный размер состояния дяди. Весть об американском наследстве проникла во все уголки дома.
Мама плыла степенной походкой между нами, отвечая на поклоны.
Как бы то ни было, в утро этого майского дня мы вышли из ворот дома на Базарной улице миллионерами.
Мне казалось, что все прохожие оборачиваются и смотрят на нас и что весь город уже знает о наследстве. Когда мы проходили мимо игрушечного магазина Колпакчи, я увидел в окно резиновое «Дьябло» и колесные коньки. Завтра завеса этого таинственного и недоступного мира должна была упасть. Я куплю еще стальной лук и ружье, стреляющее палочкой с резинкой.
Колпакчи сменили роскошные витрины «Абрикосова с сыновьями», где банки замечательного варенья сверкали драгоценными рубинами, стояли торты, чудо кондитерского и скульптурного искусства, и лежали горы конфет. Через несколько дней все это будет моим, потому что мы будем богаты…
Замечтавшись, я не заметил, как мы подошли к заветной двери американского консульства. Великолепный швейцар впустил нас в приемную. Высокий, выхоленный секретарь, узнав, в чем дело, очень вежливо, на ломаном русском языке просил нас подождать. Какие это были томительные минуты, но что они стоили в сравнении с долгими днями ожидания.
Но вот открылась высокая дубовая дверь, и нас пригласили. Зрелище, которое мы увидели, было ослепительно. Огромный резной письменный стол был уставлен сверкающей бронзой и мрамором. По углам комнаты стояли фигуры рыцарей в железных латах. Наши ноги приросли к полу, и мы остановились посреди комнаты всей семьей. Мама посредине и мы, дети, по бокам. Сам консул стоял, как изваяние, на каком-то возвышении, затянутый в длинный черный сюртук. У него было лицо Авраама Линкольна, и из-под седых бровей смотрели проницательные серые глаза. За спиной его, во всю стену, висело американское знамя. Ответив на приветствие, консул взял у секретаря бумагу, завернутую в трубку, и развернул ее. Большая сургучная печать на ленте качалась, как маятник. Консул долго читал завещание. Мы не поняли ни одного слова. Окончив чтение, он протянул бумагу секретарю, поклонился и вышел. Секретарь пригласил нас к бюро. Он повернул ключ, и крышка с грохотом повалилась вниз. Он раскрыл какую-то книгу и попросил маму расписаться. Затем секретарь положил на стол пять бумажек по пять долларов и маленькую книжку в синем переплете с золотым крестом.
– Как? – только и сказала мама.
– Мистер Гарри Уайтмен, – сказал секретарь, вежливо кланяясь (дядя в Америке переменил фамилию), – оставит все состояния методическа, христианска общин город Бостон. Вас, как очень бедны, он завещал двадцать пять доллар и… библия…
В этот день я понял, что с астмой можно долго жить и что нечего надеяться на американское наследство.
1936
Аркадий Аверченко
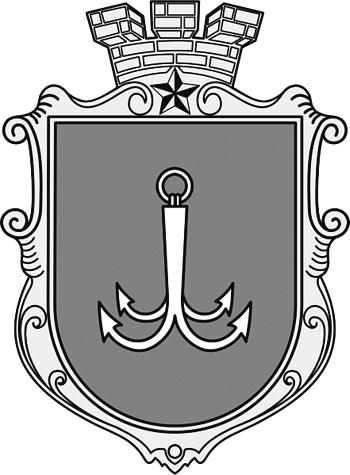
Костя Зиберов
IВ Одессе мне пришлось прожить недолго, и все-таки я успел составить об этом городе самое лестное для него мнение. Тамошняя жизнь мне очень понравилась, улицы, бульвары и море привели меня в восхищение, а об одесситах я увез самые лучшие, тихие, дружеские воспоминания.
Костя Зиберов навсегда останется в моей памяти как символ яркого, блещущего, переливающегося разными цветами пятна на тусклом фоне жизни, пятна, рассыпавшегося целым каскадом красивых золотых искр.
Впервые я увидел Костю Зиберова в Александровском парке. Я скромно сидел за столиком, допивая бутылку белого вина и меланхолично, со свойственным петербуржцу мелким скептицизмом посматривая на открытую сцену.
Когда показался Костя Зиберов, он сразу привлек мое внимание. Одет он был в синий пиджак, серые брюки, белый жилет и на груди имел прекрасный лиловый галстук – костюм немного пестрый с точки зрения чопорного франта, но чрезвычайно шедший к смуглому красивому лицу Кости Зиберова. Черные кудри Кости прикрывала элегантная панама, поля которой были спущены и бросали прозрачную темную тень на прекрасные Костины глаза.
Ботинки у него были желтые, с модными тупыми носками.
Костя, легко скользя между занятыми публикой столиками, приблизился к одному свободному, по соседству со мной, сел за него и громко постучал палкой с серебряным набалдашником.
Метрдотель подобострастно склонился над ним.
– Эге! – подумал я. – Этот господин пришел с серьезными намерениями… Я уверен, сейчас появится две-три этуали, и веселый кутеж протянется до утра. Будет от него хозяину нажива.
Действительно, палкой он постучал так громко и заложил ногу за ногу так решительно, будто бы хотел потребовать все самое лучшее, что есть в погребе, в кухне и на сцене.
– Что позволите? – замотал невидимым хвостом метрдотель.
Костя поднял на него рассеянные, томные глаза.
– А? Дайте-ка мне… стакан чаю с лимоном. Только покрепче!
Нигде не умеют с таким толком тратить деньги, как в Одессе. Каждый гривенник тратится там ясно, наглядно, вкусно, с блеском и экстравагантностью, которых петербуржцу никогда не достичь, даже истратив сто рублей.
Бутылка дешевого белого вина, поданная одесситу в серебряном ведре со льдом, и пятиалтынный, врученный за это лакею на чай, произведет всегда более громкое, более потрясающее по своей шикарности впечатление, чем пара бутылок шампанского петербуржца. Потому что петербуржцу неважно, будет ли вино стоять на его столе или на стуле в двух шагах от него, прикрытое до неузнаваемости белой салфеткой, неважно – считают ли это вино принадлежащим ему или его соседу, и неважно – видел ли кто-нибудь, когда он сунул лакею в ладонь два рубля на чай…
С рублем в кармане одессит проведет праздничный день так полно, разнообразно, блестяще и весело, как не приснится жителю другого города и с десятком рублей. С самого утра одессит посидит в кафе, потом пойдет на бульвар послушать музыку и выпить бокал пива, поедет куда-нибудь на Фонтан к знакомым; вернувшись, съест пару бутербродов в Квисисане, а вечером он сидит в парке, пьет свой «стакан чаю, но покрепче» и слушает пение шикарных шансонеток, изредка мелодично подпевая им.
И все это он делает с таким независимым видом, будто он мог бы на Фонтан поехать и в автомобиле, но для курьеза хочет испытать и трамвайную езду… На бульваре он мог бы плотно пообедать с бутылочкой бургондского, но доктора строго-настрого запретили ему излишествовать в пище… И вечером в парке – что стоило бы ему пригласить к своему обильному столу пару певиц, но зачем? Все это одно и то же, все это надоело, всем этим он пресытился…
Вид у него – принца, путешествующего инкогнито, колоссально богатого, но который избрал себе, разочаровавшись жизнью, странную забаву: имея в кармане сотенные билеты, тратить пятачки и гривенники, иногда торгуясь даже в самых безнадежных случаях.
IIКогда Костя Зиберов потребовал стакан чаю, я, будучи еще мало знаком с одесской жизнью, подумал:
– Вероятно, он стесняется и не хочет устраивать сразу шум и треск, предпочитая начать со скромного стакана чаю…
Но Костя и кончил этим стаканом. Вместе с последним номером программы на сцене Костя допил остатки холодного чаю и опять громко постучал палкой по столу.
– Что прикажете?
– Человек! Счет!
– Один стакан чаю-с. Пятнадцать копеек.
Боюсь, что, если бы Косте подали счет, он подписал бы его. Но счета ему не подали, и он, вынув из кармана двугривенный, с громким звоном бросил его на блюдце.
– Возьмите. Сдачи не надо!
И с развинченными манерами неисправимого кутилы и расточителя, просадившего не одно наследство, Костя вышел из сада.
Расплатившись, ушел и я.
В конке нам пришлось сидеть рядом.
Костя приветливо взглянул на меня и, со свойственной всем южанам общительностью, спросил:
– Далеко изволите ехать?
С такими вопросами обращаются обыкновенно пассажиры поездов, едущие без пересадки дня два-три. Когда предстоит совместный трехдневный путь, интересно познакомиться с соседями и узнать их планы, намерения.
Костя попытался сделать это, хотя мы должны были расстаться через двадцать минут.
– На Преображенскую, – отвечал я.
– Хорошая улица. Прекрасная… Мне хотя нужно через две улицы слезать, но я провожу вас до Преображенской. Кстати, зайду в Квисисану закусить… Вы приезжий?
Как-то случилось, что зашли мы вместе, каким-то образом вышло, что съели мы салат, котлет и выпили две бутылки вина, и еще вышло так, что заплатил я. Правда, Костя очень горячо спорил, желая взять эти расходы на себя, я горячо возражал, но наконец, когда мое упорство было сломлено, я согласился:
– Ну хорошо, сегодня платите вы, а следующий раз я.
Костя тогда сказал, добродушно пожав плечами:
– Ну ладно. Платите вы, если уж так хотите. А следующий раз заплачу уж я.
Когда мы вышли, Костя, держа меня под руку, восхищенно говорил:
– Так ты, значит, петербуржец… Вот оно что. Очень рад! Я все собирался в Петербург, да все как-то не мог собраться. Хочешь, приеду теперь, а?
– Приезжай, – согласился я.
– Право, приеду. Все-таки свой человек теперь есть в столице.
IIIЯ думал, что Костя Зиберов говорил о своем приезде в Петербург просто так, чтобы сказать мне что-нибудь приятное и удовлетворить палящую ненасытную жажду общительности и дружелюбия. Так, один господин из Кишинева, встретив меня случайно в Петербурге и познакомившись, пригласил к себе в Кишинев «денька на два». И он знал прекрасно, что никогда я к нему не приеду, и все-таки приглашал, а я был твердо уверен, что нет такой силы, которая повлекла бы меня за тысячи верст к еле знакомому человеку «денька на два», – и все-таки я обещал. Впрочем, сейчас же мы оба и забыли об этом.
Но Костя Зиберов сдержал свое обещание: он приехал в Петербург.
Никогда я не видел интереснее, забавнее и курьезнее зрелища, чем Костя Зиберов в Петербурге.
Среди горячей, сверкающей декоративной природы юга Костя Зиберов был красив, уместен и законен со своим ярким, живописным костюмом, размашистыми жестами, неожиданными оборотами языка и болезненным влечением к знакомству и дружбе. В Петербурге он казался сверкающим павлином среди скромных серых воробьев. Все пугались его яркости, стремительности, дружелюбия и шумливости…
Он поселился у меня.
В первый день мы пошли обедать в один из ближайших ресторанов и произвели там фурор… Блестящий костюм Кости, его походка разочарованного миллионера и властный стук палкой по столу собрали у нашего стола целую группу: двух метрдотелей, мальчишку и четырех лакеев.
– Что изволите приказать, ваше сиятельство?
Его сиятельство с брезгливой миной взял карточку, скептически взглянул на нее и проворчал:
– Воображаю… Чем вы тут накормите!..
– Помилуйте-с… Все оставались довольны…
– Да… знаем мы… Все вы так говорите! Он наклонился ко мне и шепнул:
– Нам хватит на обед и вино? Я, признаться, не при деньгах.
– Не беспокойся, – улыбнулся я. – Распоряжайся.
Костя оживился и сразу дал почувствовать метрдотелю, что с ним нужно держать ухо востро и накормить нас нужно по-княжески.
Он забросал метрдотеля самыми необычными названиями вин, ошеломил его какими-то тефтелями, «которые у вас, наверное, делают черт знает как!» и, успокоившись немного, обратился ко мне:
– С кем это ты сейчас раскланялся?
– Это скульптор. Князь Трубецкой.
– Как?! И ты говоришь об этом так спокойно? Ты с ним знаком?
– Да, – сказал я. – Знаком. А что?
– Чего же ты молчал все время? – ахнул Зиберов. – Вот чудак! Приехал в Одессу и молчит.
– А чего ж мне. Не бродить же мне было с утра до вечера по одесским улицам, кричать до хрипоты: «А я знаком с князем Паоло Трубецким!»
Тут же я вспомнил, как Костя прожужжал мне уши тем, что он знаком с известным борцом – каким-то Кара-Меметом, и даже как-то, расщедрившись, дал мне благосклонное обещание познакомить меня с ним.
Известность его прельщала. Чья-нибудь слава туманила ему голову, и знакомство с популярным человеком доставляло ему вакхическую радость.
Пришлось познакомить его и с Трубецким.
Разговор их чрезвычайно меня позабавил.
– Так вы, значит, и есть тот самый Трубецкой? – лихорадочно спросил Костя.
– Тот самый и есть, – улыбнулся князь.
– А я представлял вас совсем другим. Думал – вы с большой бородой.
– Напрасно!
– Ну, что – трудно, вообще, лепить?
– Сущие пустяки. Привычка, и больше ничего.
В этом месте Косте Зиберову захотелось сказать князю что-нибудь приятное.
– Отчего вы никогда не приедете в Одессу?
– А что?
– Помилуйте! Прекрасный город! Море, вообще, суша… Вас бы там встретили по-царски. Помилуйте – князь Трубецкой!
– Merci, – скромно поклонился князь.
– Да чего там! Конечно, приезжайте. Прямо ко мне… У меня можете и остановиться.
– К сожалению, я не знаю – что же я там буду делать?
– Господи! Мало ли… Право, приезжайте. Беру с вас слово… Стаканчик вина можно вам предложить? Я так рад, право…
Глаза Кости затуманились. Наступал тот психологический момент, когда Костя должен был предложить князю выпить с ним на «ты».
IVВечером Костя изъявил желание повеселиться, и я повез его в летний «Буфф».
У кассы театра я остановился.
– Зачем? – удивился Костя.
– Билеты взять!
– Вот чепуха! С какой стати платить. Нам и так дадут места.
– Да с какой же стати…
Костя властно взял меня под руку.
– Пойдем!
Он вел меня, глядя рассеянно, задумчиво прямо перед собою.
У входа человек нерешительно остановил его:
– Ваши билеты, господа!
Костя очнулся, вышел из задумчивости, обернул к привратнику изумленно-оскорбленное лицо и процедил сквозь зубы, с непередаваемым выражением презрения, исказившим его красивое лицо:
– Бол-ван!
– Извините-с, – засуетился привратник. – Я не знал… Пожалуйте! Программку не прикажете ли?
В саду Костя быстро ориентировался. Он повлек меня за кулисы, отыскал какого-то режиссера или управляющего и потребовал:
– Два места в партере поближе.
– Для кого?
– Как, – изумился Костя, указывая на меня. – Вы его не знаете? Этого человека не знаете?! Полноте! Вы должны бы дать ему два постоянных места, а не спрашивать – для кого? Вы только и держитесь прессой, пресса создает вам успех, а вы спрашиваете – для кого?
Через пять минут мы сидели в креслах третьего ряда.
Первое действие Костя просмотрел с пренебрежительной гримасой, мрачно, а в середине второго действия возмутился.
– Черт знает что! – громко воскликнул он. – Какую дрянь преподносят публике… Только деньги даром берут.
– Замолчи, – прошептал я. – Ну чего там…
– Не замолчу я! Хор отвратительный, режиссерская часть хромает, и певицы безголосые… Да у нас бы в Одессе пяти минут не прожила такая оперетка!
В третьем акте Костя выразил еще более недвусмысленное неудовольствие и даже попытался намекнуть, что мы можем потребовать возврата напрасно брошенных денег.
– Да ведь мы не платили, – возразил я.
– Мало что – не платили… Так они этим и пользуются?
Зрители после Костиной критики, вероятно, нашли, что никогда им не случалось видеть более шикарного, изысканного посетителя, чем Костя…
* * *Прожил Костя у меня неделю. Денег у меня он брал мало – на самое необходимое – и тратил их с таким вкусом, что все относились к нему подобострастно и почтительно, а на меня не обращали никакого внимания… Он был так ослепителен, что я все время являлся серым, однотонным контрастом ему.
Уезжая, взял у меня на дорогу.
– Были деньги, – небрежно улыбнулся он своими прекрасными губами, – да вчера как раз просвистел их все в «Аквариуме». Безобразие, в сущности. Посмотри-ка, счет какой!..
Он вынул из кармана измятый счет и показал итог: 242 р. 40 к.
Меня удивило, что отдельные строчки, когда я бросил на счет быстрый взгляд, были такого содержания:
Шницель по гамбур. – 1 р.
Водка и бутер. – 70 к.
Папирос. – 20 к.
Сифон. – 50 к.
И, кроме того, мне показалось, что первые две цифры итога – 242 р. 40 к. – были написаны более темными чернилами, чем последующие три.
Но я ничего не сказал, сочувственно покачал головой, обнял на прощанье Костю Зиберова, сердечно простился с ним, и он уехал в свою веселую Одессу.
Очень часто вспоминал я Костю Зиберова и, сказать ли правду, частенько скучаю по Косте Зиберове…
Незнакомец
(Борис Флит)
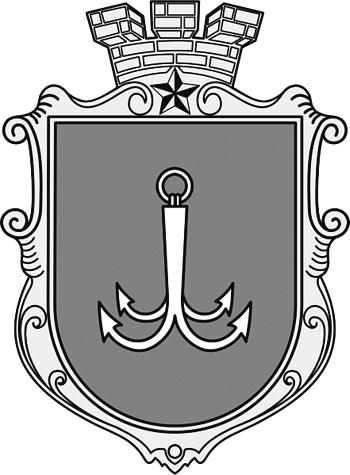
Веселая прогулка

