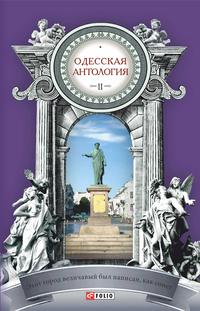
Одесская антология в 2-х томах. Том 2. Этот город величавый был написан, как сонет… ХХ век
«Что ж я мог бы сделать? Что сделать? – и Санька топнул ногой, и нога дернулась и подкинула Саньку. – Фу, черт!» – Санька отошел от окна, шагнул шаг и снова круто повернул к окну.
– Пойду, пойду! – громко заговорил Санька. – Есть ход? Есть? – дергал он швейцара за плечо.
Швейцар глядел.
– Чего это?
– Ход, ход! Ну, черный ход, есть? Есть же? Я не могу, понимаешь?
– Насчет чего идти? – Швейцар мигал глазами. – Куда же идти?
– Пошли! – Санька схватил швейцара под локоть.
– Ну-ну… чего? Не надо.
Они вышли на лестницу, снизу подымался густой говор, крик, и колкой икотой всхлипывала женщина:
– Айп!.. айп!
Санька рвался за швейцаром через людей, сквозь слова и крики, мимо этого вопля женского.
– Да здесь, здесь, в двух шагах, на Круглом базарчике убивают! – губами выпихивает слова совсем белый человек. – Пойдите, – мотнул вверх головой, – от меня видно, – и сверху втек холод в Саньку, но он рвался за швейцаром.
– Да не лезь так, – и швейцар в узком коридорчике рвал пальцем за крахмальный воротник, и Санька срывал, выпутывал воротник, галстук. Остановился, обрывал манжеты.
– Стой! Картуз, сейчас картуз! Стой тут! – и швейцар бросился бегом назад. Санька чувствовал, как руки то слабели, то рвали полотно, как бумажку; швейцар уже надевал картуз Саньке на голову.
– Ворот вздыми – так! Хорош! – Швейцар отомкнул дверку, ступенька вверх, вот дворик, и вон через забор высокий дом в проулке и люди во дворике вверху – там балкон, и люди мечутся на балконе в четвертом этаже, в высоте. Санька подошел к воротам, и вся кучка людей присунулась к нему, вцепилась глазами. И дворник, с бляхой – дворник.
– Кто есть?
– Пусти, по делу, велено! – Швейцар, должно быть, кричит. Санька смотрел только на ворота, и дух колом стоял в горле. Дворник лез ключом в замок и прицеленным взглядом держал Саньку. – Пущай смело, свой человек!
Они!
Ворота чуть приоткрылись, и Санька ступил в проулок. И в ту же минуту сверху с балкона напротив:
«Дап! дап!» – стукнули револьверные выстрелы. Санька видел, как человек совсем присел к балкону и стрелял через решетку, руку вбок. Стреляли туда, где стояли у городского сада казаки. И толпа отхлынула за угол. Санька сделал несколько шагов под стенкой, и вдруг сзади громом в проулке ударили, лопались выстрелы. Санька вжался в стенку, в дом. Он видел краем глаза, как стреляли с коней казаки, в проулок, вверх, в окна, вдоль улицы. Санька видел ворота напротив. Старик-еврей, с белой бородой, белыми худыми пальцами царапал железные ворота, скреб судорожно щелку и вот затряс головой и тычет, тычет пальцем в замочную дырку и вертит, как ключом, и бьется на месте всем телом о ворота – насквозь, насквозь хочет. Заклацали подковы, казак едет, карабин в руке, увидит, сейчас увидит. Санька вжал затылок в камень, глядел на старика, старик замер, лицом в ворота.
– Что стоишь? Жид, что ли? Эй! – Саньке это кричит и карабин поднял. – Крестись, такая мать, коли не жид!
Санька смотрел в самые глаза казаку, за десять шагов видел, как рядом, серые глаза со смешком:
– Жид?
Санька перекрестился. И без веса рука, как воздухом обмахнул себя Санька. Казак повернул на месте, все лицом к Саньке и рысью тронул назад. Санька глянул на ворота, еле увидал недвижно черное пятно на черных воротах.
Санька глядел вслед казаку. Толпа снова стояла против проулка. Офицер торчал над толпой, избочился на коне. Вон несут, тычут что-то вверх офицеру. Санька видел, как блеснул большой будильник. Офицер взял в руки и вдруг замахнулся и с размаху шаркнул будильник.
– Го! – крикнуло, покатилось по толпе, все смотрели на офицера. Санька отстал от стены, засунул в карманы руки и пошел по проулку прочь. И спина ловила все звуки сзади – до угла бы, до поворота! – думала голова, и глаза знали, какой ногой ступит за угол.
Санька уж подходил к углу – четыре раза ступить, и не в ухо, во все тело сразу ударил крик оттуда, из-за угла, рык с кровью в глотках, и оступилась нога. И вдруг топот дробный за углом, и вылетел человек без шапки, и глаза, как вставленные, одним мигом его видел Санька, и следом вразброд, кучей топали, свистели, пронеслись. Санька отвернулся и быстро шагнул дальше, дальше, за угол. Бросают что-то с балкона, валят кучами и внизу ревут, скачут – чего это скачут на одной ноге? Это брюки валят из «готового платья» – надевают брюки, скачут. И вдруг глаза упали вбок, на край тротуара – человек лежит, тушей вмяк в камни. Искал лица – из кровавого кома торчали волосы – борода, и вон белая ладонь из лоскутьев. У Саньки глаза хотели втянуться назад, в голову, пятились и не могли отойти от крови. Идет какой-то, шатается, раскорячился, тугие ноги: штанов много, и вдруг стал над этим. Санька видел, как мигом вздернула лицо ярость.
– А, жидовская морда! Жидера, твою в кровь – веру, – и железной трубой с двух рук с размаху ударил в кровавое мясо, где была голова, и молотил, и брызгало красное, вздрагивало тело. – У! Твою в смерть…
Санька глядел, куда, куда выйти и рука вздрагивала под подбородком, где держал воротник.
– Стой, где ты такой достал, твою в петуха!
Кто-то дернул сзади за локоть. Санька не оглянулся, высвободил руку и шел, шел наискосок, вон, туда, в улицу, вон с Круглого базара, и ноги спешили большими шагами. Нет! затор, не пролезть – кучей у магазина, машут, орут – ух, рев какой! – в разбитое окно прут. Санька выворачивался из толпы, горячим потом сперло вокруг, и рядом кричал хрипло в ухо:
– Уй, угара! Поклал жиденят у корыто, толчет прямо, ей-бога, у капусту – двоих.
Трох! Ой, и работа ж! Толкеть! Толкеть! – заорал впереди, и вдруг все зашатались, кричат сверху – свист, и все шарахнулись. Санька побежал, и следом за ним черное махнуло в воздухе. Санька успел увидеть пианино, и грохнуло сзади, как взрыв, и неистовый крик и свист в толпе, и сразу треск и стекольный всхлип пошел по площади.
«Не бежать, не бежать, – твердил себе Санька, – только не бежать и скорей вон», – и борода из кровавого мяса торчала и шаталась тут, как полоса через глаза, и вот в пустой, совсем пустой улице, и по свободному тротуару шагают ноги, и все быстрей и быстрей, и рука прилипла под воротом, как приклеенная. Кто это? Кто они? – из-за угла, навстречу. Студенты? Ну да! Сумасшедшие! У Саньки нога уже дернула вбок, на другую сторону. Идут быстро, гуськом, по двое, по трое. Санька стал в сторону – красные лица какие – вон впереди в расстегнутой шинели, всеми глазами смотрит вперед – и револьвер, огромный револьвер вниз опустил в руке, чуть не до пола.
И Санька крикнул:
– Рыбаков!
И студент глянул – очень похож, как будто снят с Рыбакова, но красный и глаза… И Рыбаков мотнул головой назад, а глаза все те же – выставлены вперед.
Там казаки у городского сада, – говорил Санька и не слышал своего голоса – горло само хрипело и слова сухие чиркали по воздуху. Санька шел со студентами, все молчали, шли туда, откуда свернул Санька.
Все красные, будто не идут, а суются ногами. Свернули, и как ветром, дунуло из улицы навстречу треском кромешным, свистом, ревом, дребезгом. Рыбаков пошел, пошел, вобрал голову в поднятый ворот, через улицу, наискосок. Вон уж видно – машется все, ревет как полымя, и студенты гуськом за Рыбаковым косой линией через улицу, и вон поднял руку Рыбаков, сейчас выстрелит. Готово! Дымок дунул из револьвера – не слышно выстрела за ревом – и все, все пошли палить – прямо в толпу, в орево, в треск. И как ничего – все круче будто завертелось.
«Гух!» – с балкона грохнуло тяжелое. Еще, еще валят. Увидали! Увидали студентов – кинулось несколько, бегут. И дымки, дымки – упали двое – и вдруг другой голос пошел от толпы – бросятся? Санька стоял, как приклеился к мостовой. Часто, дробно – слышно, как щелкают выстрелы, уж покрыли рев, поверх крика бьют, и завыло, заголосило тонко, и уже нет впереди никого. Санька перевел дух – нет, бежит Рыбаков вперед, к углу, к площади, и студенты. Вон стал один – тычет рукой, заряжает, и вон Рыбаков уж за углом, и Санька двинулся и вдруг побежал туда за угол. Рыбаков под балконом, на обломках, на досках. Санька не понял, что делает он, толкнул с разбега Рыбакова, он полетел, скатился с рухляди и сзади крикнуло и разорвалось осколками зеркало. Рыбаков вскочил, озирался и вдруг крик хриплый – «Казаки!» – и вон по площади, из проулка, не могут по лому вскачь.
«Назад!» – Рыбаков взмахнул рукой и в тот же миг грохнули выстрелы – громом рвались, рассыпались в домах. Рыбаков махал рукой назад, – студенты бегом гнали в улицу, за угол, направо, – какие-то прохожие, ворохи шапок в руках, Санька плохо видел их. Теперь налево, – студенты прятали на ходу револьверы, – руку за борт, в пазуху. Что это? У Рыбакова, у Рыбакова! Голубой околыш черный весь сзади – кровь! Ничего – идет, широко идет впереди. Слышно сзади в той улице подковы по мостовой, – бегом! за угол – Соборная площадь – вразброд всякие ходят.
– Они! Они! – кричит кто-то. Санька оглянулся, узнал: дворник тот самый, Андрей, где товар вывозили – тычет, тычет вперед пальцем, пробивается меж людей и все оборачивается. И вдруг Рыбаков перебежал через угол на тот тротуар и за ним в гуще все, и уж на том тротуаре. Санька видел, как сбился народ сзади.
– Бей! Бей их! Жидов!
И вдруг Рыбаков выхватил из-за пазухи револьвер, махнул – все вынули, все студенты – и пятятся, все попятилось назад, и студенты отходят задом к домам. Но – что это все вбок глядят, не на них, а вбок? Санька увидал, как бежали серые шинели, сбоку, с площади. Вдруг стали – шарахнулась вбок толпа. Целятся солдаты – студенты дернулись куда-то, где они, где? Санька озирался и вдруг опрометью бросился назад к дому, влетел в открытые ворота за выступ. Дверь какая-то, человек в белом, в халате каком-то, дернул Саньку за рукав, втолкнул в дверь, втащил куда- то, темно – Санька не понимал, куда его тащит человек.
– Сюда, сюда! – шептал человек.
Вот светло, комната. Женщины какие-то тоже в белом – и банки, банки по стенам – перевязывают. Всех перевязывают. Санька тяжело дышал, а его толкал человек на табурет, и вон уже быстро, быстро крутят на голову бинт, и что говорят, не понять, не по-русски, быстро, быстро – по-польски, что ли. Вон из белого глаза торчат, точно остановились, как воткнулись.
– Где это, где это? – сухим горлом говорил Санька.
– Аптека Лозиньского, здесь аптека. Ложитесь – прямо на пол под стенкой, скорее.
Саньку за руку вела к углу барышня в белом, крепкой ручкой, нахмуренная, красная.
Санька лег на белую простыню на пол, и вдруг за окном шарахнули два выстрела.
– В аптеку не стреляют! – и человек в белом помотал головой. – Не! Пугают. Они знают, где можно. Лежите! – крикнул и быстро вышел в дверь.
Рядом с Санькой лежал человек в штатском, голова как шар, в бинтах. Он хрипел, и дергалось все тело. И вдруг он вскочил, как пружина, заскакал ногами – как в мешке и – Ва! Ва! – пронзительно вскрикивал, звенело в ушах – все дернулись, из дверей выскочил фармацевт в белом, он ловил человека, а тот дергался вверх – взлетал на пол-аршина, взметывал руками. Санька бросился – человек с неимоверной силой изгибался, как огромная рыба, – его держали на воздухе, он вырывался у пятерых.
Санька отрясывал голову от крика и все сильнее, сильнее сдавливал больного отчаянными руками.
Руки
<…> Тайка была уж на площади, трясла головой, стряхивала слезы – скорей в городской сад, чтоб не видели. Тайка не замечала, что густо, очень густо толпился народ; она пробивалась в ворота сада, – в саду никого не бывает. А в саду народ, гимназисты какие-то – полным-полно. Нет, хоть не глядят. Все глядят вон туда. Тайка достала платок, сморкалась и слезы заодно – тайком, незаметно вытирала. Что это? Торчит какой-то. Гимназист на скамейку, что ли, встал. И все туда глядят. Скажите, каким барином стал и руками, руками-то как. Подумаешь! Но сзади напирали – о! и семинаристы. Гимназистки, хохотушки противные, и Тайке боязно было, что глядеть станут, что ревела, и пудра вся пропала. Чего это он?
– Что ж нам предлагает царское правительство? – слышала Тайка высокий голос в сыром глухом воздухе. – Оно предлагает нам не Учредительное собрание, которого…
«Да это Кузнецов, – вдруг узнала Тайка, – Сережка Кузнецов, он в эту… в Любимцеву-Райскую влюблен, букеты на сцену кидал и все в оркестр попадал. Выгоняли, говорят, из гимназии».
– Что такое, что такое? – громко говорила Тая, на нее шикнула гимназистка – ух, злая какая! Фу! злая! – и Тайка старалась выбраться из толпы и осторожно сверлила плечом, как бывало в церкви.
«Началось, а вдруг началось».
Не дотискаться к воротам, и прут, прут навстречу, сбивают назад, и уж по траве, по кустам, как попало, ломят прямо. Закричали там чего-то. Тайка оглянулась: на месте Сережи уже какой-то бородатый. Фу! не узнала – доктор! доктор Селезнев, и все в ладоши забили. Тайка снова рванулась к выходу – ох, наконец! Свободней на площади. Ой, давка какая у театра. Ничего, через артистическую дверь, ничего, пожарный там, он знает, пропустит, и Тайка бегом перебежала свободный кусок площади. Дернула дверь – заперто. Тайка дернула еще раз ручку, рванула еще. Идет – вон в каске уже – пожарный, началось, значит, если в каске, а то в фуражке он с синим околышем, с кокардой – говорит за стеклом, не слышно.
– Пустите, ради Бога, на минуту! – кричала Тайка в самое стекло, стукала пальчиками. – Пожалуйста! Очень! Миленький, золотой!
«Отмыкает, отмыкает! – нет, приоткрыл только».
– Барышня, – говорит в щелку, – не надо, идите домой, домой ступайте. Нехорошее сегодня.
– Ничего, на минутку, я сейчас назад, домой, ради Бога, миленький. – И Тайка ухватилась за створку дверей, вцепилась пальчиками – пусть прищемит.
Пустил!
– На один момент, – кричит вдогонку, – эй!
А Тайка бежала уж по лестнице, и вот он, коридор, – пусто, слава Богу! – вот дверь, французский замок, а там уж за дверью гул, так и бурлит, так и барабанит в дверь – народу- то, должно, и Тайка повернула замок, с трудом пихнула дверь – и яркий плеск голосов обхватил голову. Тайка захлопнула за собой дверь. Гуща! Вот гуща – как никогда. Вяльцева приезжала, и то такого не было – и не сидят, все вплотную стоят в партере. А в ложах-то! Вывалятся сейчас через край. Тайка вспотела, раскраснелась от давки, от толчеи. В зале все в пальто, в шапках. Тайка пробивалась к барьеру оркестра. Что это? Там тоже полно и тоже в шапках, шляпы, фуражки, и все головы шевелятся, вертятся – и нет, совсем нет музыкантов. Тайку придавили к барьеру, а она все вглядывалась в головы внизу – может быть, он тоже в шляпе, как все. Тая искала котелок, тщательно просматривала по кускам, будто искала на ковре копейку. И вдруг все захлопали. Тайка увидела, как поднялся занавес.
На сцене стол с красным сукном, и сидят вокруг, как на экзамене, – и вдруг встали все за столом, и в театре все хлопают, хлопают, и кто-то кричит за Тайкой зычно, по слогам:
– До-лой са-мо-дер-жа-ви-е! До-лой! – как стреляет.
Один за столом поднял руку – стали замолкать, тише, тише.
А этот вдруг по тишине зыкнул:
– Долой са-мо-державие!
И тот с рукой со сцены улыбнулся весело и снисходительно в его сторону.
– Господа! – крикнул со сцены и опустил руку. – Господа! Первым долгом я считаю нужным огласить акт… то есть манифест, данный семнадцатого октября…
Известно всем! – гаркнул за Тайкой опять этот зыкало, и все закричали. Ух, шум какой невообразимый. Нет, нет котелка, или не нашла. Стихли опять.
Господа! – опять крикнул со сцены – кто это? Тайка глянула – знакомый будто? Да, да, из управских, из земской управы, как его – статистик! – вспомнила Тая. – Гос-по-да! Объявляю митинг открытым. Слово принадлежит товарищу Кунцевичу.
Вышел худой из-за стола вперед, высокий, с бородочкой. – Громче! громче! – орут все. А он краснеет. Что же это?
…свобода союзов!.. – услыхала Тайка. – Свобода объединяться…
«Вон! вон котелок, вон там за серой шляпой». – Тайка дернулась вправо, протискивалась вдоль барьера.
– Куда несет? Да стойте на месте! – и Тайку спирали, не пускали, и прямо уж перед нею надрывался хриплый голос Кунцевича:
– Мы требовали самодержавия народа! Народоправство!., царь… правительство…
Тайка уж видела, что это он, он – крохотный кусочек щеки увидала меж голов – он! он! – Тайка вдавилась в толстого по дороге, его бы только перейти. Тайка не спускала глаз с Израиля.
Мигнуло электричество. Еще раз – притухло – можно было просчитать три. И что это кричит кто-то сверху? И вон со сцены все глядят вверх, на галерку, кто-то машет руками: всех как срезало голосом этим; все обернулись, и только шелест на миг – и вот крик сверху:
…а в городском саду конные стражники! Избивают! Нагайками детей!
Гулом дохнул театр, и крик поверх гула:
– На площади полиция! Конные жандармы! Театр хотят! поджечь!!
Крикнул он со всей силы. И сразу вой набил весь театр, вой рвался, бился под куполом.
Тайке казалось, что сейчас не выдержит, оборвется и грохнет вниз огромная люстра под потолком, ей казалось, что свет задергался, задрожал от крика. Она видела, как дернулись все там, внизу, в оркестре, черной массой сбились вправо и в маленьких дверках вон, вон, душат, душат человека, спиной к косяку. Мотает головой, рот открыл, глаза вырвутся! Тайка заметалась глазами, где Израиль? Что это? Израиль выше всех, под стенкой, под самой рампой. Встал на что-то, на стул, что ли. Стоит и футлярчик под мышкой. Но в это время Тайку сзади прижали к барьеру, совсем сейчас перережут пополам – впились перила. Израиль смотрит прямо на нее, брови поднял и машет рукой, каким-то заворотом показывает. Тайка со всей силы старалась улыбнуться – Израиль что-то говорит – одни губы шевелятся и усы – ничего не слышно – но ей! ей! Тайке говорит, Тайке рукой показывает. Ух, какой он! Приказательный, как папа прямо. И вдруг отпустило сзади на миг, и Тайка дернулась – ноги онемевшие, как отрезанные, и все-таки ноги поддали, и Тайка боком вскарабкалась на барьер и перевалилась. И вдруг за ней следом, сбоку, справа, слева, полезли люди, бросились, будто вдруг открылось, распахнулось спасение – они бросались вниз, прямо на головы, на сбившуюся гущу людей, топтали сверху ногами, потом проваливались и руками взмахивали, как тонут в реке. Тайка держалась за барьер, ноги нащупали карниз, на той стороне – Израиль! Израиль!
Израиль рукой, ладонью и футлярчиком оттирает от себя, будто прижимает ее к барьеру, притискивает через воздух, через дикий вой и говорит, говорит, широко говорит, ртом – скоро, скоро. Тайка глядела, держалась глазами за Израиля, а он выставил вперед руки, будто придерживал ее, чтоб не упала сверху. У Тайки немели руки, кто-то наступил на пальцы сапогом. Громадный мужчина ворочался внизу, он был уж без шапки и тяжелыми ручищами рвал соседей за лица, прорывался вперед к узкой дверке оркестра – красная шея, совсем красная, мясная, он вертел головой, потом вскинул руки, стал бить себя по темени, неистово, со всей силы. И вдруг вмиг стало темно – как лопнул, не выдержал свет. Крик притих на мгновение и взорвал последним оглушительным ревом – у Тайки задрожали руки. Она смотрела в темноту, в ту самую точку, где был Израиль, смотрела со всей силы, чтоб не потерять направления. Тайка не чувствовала рук, но руки держали, как деревянные, а внизу будто кипит, ревет огонь – сорвусь – конец, как в пламя, а там, на той стороне, – Израиль, и казалось, что видит, как он руками придерживает воздух, чтоб она не упала.
Мамиканян
Санька забыл снять с головы повязку, так и ходил в ней, как привезли его в университет, в клинику. Санька с жаром и с болью хватался за дело – вырывал носилки, чтоб тащить раненого. В дверях операционной хмурился профессор – руки высоко держал на отлете. Саньке хотелось скорей, скорей забить, заколотить муть.
«Не бежал же я, не бежал, не бежал!» – твердил в уме Санька и все что-то хотел отработать носилками – и вдруг Рыбаков бежит снизу по лестнице, ткнул в бок – «Ты что водолазом-то все ходишь?» – и кивнул на повязку. Санька вдруг вцепился руками в бинты и рвал, драл со всей силы. На него глядели, и вдруг все бросились к дверям, к окнам – все, кто был в вестибюле, и хозяева-медики в белых халатах. И Санька слышал:
– Оборонщики еврейские городовых повели, глядите, глядите!
Санька вбежал во второй этаж и с площадки в окно увидал: человек двадцать мужиков, бледных, и кругом – ух, какие черные, какие серьезные, с револьверами. Головами как поворачивают – будто косят направо-налево. Вон студенты с винтовками – винтовок-то пять, кажется. Повели, повели – в подвал! В мертвецкую! Пошли, гуськом пошли в ворота оборонщики. И опять екнуло в душе – не мог бы, не мог бы, ни за что не мог бы, как они. Санька пошел вниз и сжал губы – отвратительно, как вздрагивают на ходу коленки.
– Этого не будет, сейчас не будет! – и неверно топала нога о ступеньку, и Санька отмахивался головой. – Не будет, говорю! – и коленки дергались.
И вот опять острый рожок «скорой помощи».
– Я пойду! Сам пойду, – вон ведут внизу, а он отмахивается рукой, без шапки, вся голова в крови и все говорит, говорит. Санька не мог отвести глаз от этого человека: кто, кто это? Филипп! Надькин Филипп, и Санька сбежал оставшиеся ступеньки, и уж Филипп увидал, и глаза, как в лихорадке.
– А, да-да! Слышь! Как тебя! Санька, что ли. Я только, понимаешь, рванул этого, что впереди, – Филипп дернул рукой в толпе студентов, – да дай ты мне сказать! Я его раз! И тут этот справа маханул железиной, и я все равно, опять же… а он, понимаешь, я этого, да стойте, братцы, не тащите, куда идти? Куда идти-то теперь? – И Филипп оглядывал всех вокруг. – Дайте скажу!
Санька все глядел, не отрываясь, и задыхался.
– Да ведите вы его, вы! – толкал кто-то Саньку.
– Да-да! – говорил Санька. – Как, как говоришь? – и он взял Филиппа под руку.
– Да я говорю, понимаешь, этого суку, что впереди, я раз! И сюда – он брык.
Санька вел Филиппа все ближе, ближе к операционной, и Филипп не умолкал, он вошел, все глядя на Саньку, он не чувствовал, как профессор щупал голову, садился, куда толкали, не чуял, когда подбривал студент наспех волосы.
Санька зажмурил глаза, когда профессор стал долбить Филиппу череп.
– Ничего, ничего, говорите, он ничего не чувствует… без всяких… хлороформов, – стукал профессор, – к чертям тут хлороформ… шок, а вы… – и профессор стукал, – хлороформы.
Санька не мог смотреть, и его мутило, как будто от переплета Филипповых слов. Санька вышел в коридор, на лестницу, и крик, крик пронзительный ахал эхом в гулкой лестнице. В дверях столпились у носилок.
Была ночь, и в полутемном коридоре, в пустом, каменном, глухо урчали голоса в углу у окна. Студенты-армяне. И голоса то поднимались до темного потолка, то снова забивались в угол. Санька медленно подходил. Говорили непонятно, по-армянски. А за окнами улица пустая, без фонарей, и только черным поблескивала грязь против окон клиники.
Может, еще будут, и я пойду. Непременно, может быть, пойду, – шептал Санька. – Если б видел, как уходил Рыбаков с оборонщиками, я б… Во дворе видел – мог же догнать. Бегом, на улице догнал бы. – Санька топнул ногой, затряс головой и повернул назад. И вдруг армяне всей кучей двинулись, и Саньку обогнали двое. Один шел в бурке вперед, а тот его ловил за плечо и что-то громко говорил. И вдруг из полутьмы русский голос навстречу – Рыбаков!
– Ей-богу, никуда, никуда не пройдете. Я сейчас со Слободки, честное слово: патрули, патрули, заставы солдат – и палят чуть что. Охраняют. Погром охраняют. Вот там на углу чуть не застрелили, два раза стреляли, пока сюда добежал. Никуда! Да-да! Громят у Московской заставы. Дайте покурить, у кого есть?
Санька быстро полез в карман, совал Рыбакову последнюю папиросу, боялся, что другие успеют сунуть.
– Мамиканян! Мамиканян! – двое бросились за студентом в бурке.
Рыбаков обернулся.
– У него мать в Баку татары зарезали, так он хочет идти, – студенты кивали на Мамиканяна.
– Ерунда! – кричал вслед Рыбаков. – Ни за понюх пропасть. – Пыхая папироской, Рыбаков бегом нагнал Мамиканяна, повернул к себе. – Ну зачем? – Зачем?
Все замолкли.
– Не могу. Надо. Мне надо, – сдавленно сказал вполголоса и дернул чем-то под буркой.
– Карабин у него, – и студенты тыкали пальцами в бурку, взглядывали на Рыбакова.
Мамиканян отвернул плечом и быстро зашагал по каменному полу. Его отпустили и через секунду бросились за ним. Санька бежал с кучкой студентов, он слышал, как в темноте быстро шаркали ноги, а за этими ногами поспеть! поспеть! Сейчас же! – хлопнула внизу дверь, и Санька бежал следом и еще поддал перед дверью, чтоб скорей, срыву вытолкнуть себя – проклятого себя! – на улицу.
Тихой сыростью дохнул навстречу двор, а Санька не сбавил ходу, он видал при свете фонаря у ворот, как черная бурка свернула вправо. Трое студентов догнали Саньку. Они тихо шли под стенкой. Мамиканян громко шагал посреди панели. И вон на углу фонарь – мутный шар над подъездом. И вон они – солдаты. Штук пять.

