
Интервью у собственного сердца. Том 1
Урал! Строгий, прекрасный, дорогой моему сердцу Урал! Сколько я бродил по твоим лесам и чащобам с корзинкой для грибов и туеском для ягод на лямке через плечо… К скольким ледяным и прозрачнейшим родникам припадал пересохшими губами, сколько богатырских, гигантских кедров облазил, сбивая тяжелые шишки, на каких ночевал ароматнейших сеновалах и в каких сказочных лесных речушках купался! Об этом, наверное, стоит написать когда-нибудь целую книгу! Не знаю как теперь, но в пору моего мальчишества таежные дебри вокруг Серова были воистину первозданно волшебными. И тут никаких преувеличений нет. Но к рассказу об Урале я еще вернусь, а сейчас еще несколько слов о моей родне.
Пятым по счету ребенком стала Лидия Ивановна – моя мама. Для каждого сына его мама и самая ласковая, и самая красивая. Ну, а как объективно? Самой ласковой на свете я бы свою маму, пожалуй, не назвал. Она была очень добрая, но строгая. Профессиональный педагог присутствовал в ней не только в школе, но и дома. Однако, не будь она требовательной и строгой, неизвестно, вышло бы из меня что-то стоящее и нужное людям. Жизнь все-таки подтверждает, что доброта без требовательной строгости сколько-нибудь заметных результатов не дает. Ну, это я так, к слову. Что же касается красоты, то тут просто достаточно посмотреть на любую из маминых фотографий, чтобы сказать, что красота ей дана была редкая. И многие женщины, если бы судьба их наделила такой красотой, жили бы, что называется, безбедно и припеваючи. Многие, но не моя мама. Она была совсем иным человеком. Но о ней еще я скажу несколько слов позже. Самым младшим в семье был Борис. В детстве он тяжело болел, да и став взрослым, закаленным и сильным не сделался и, прожив меньше тридцати лет, умер, оставив двух сыновей: Юрия и Владислава. Когда умерла моя бабушка Мария Васильевна и дедушка мой, которому одному подымать шестерых детей было делом непосильным, женился во второй раз, Вера Андреевна вместе с младшей своей дочерью Верой покинула дом моего деда и поселилась навечно в маленьком уральском городе Кыштыме. Городок этот стоит в самом центре уральской красоты. Две горы Егоза и Сугомак, вокруг сказочная тайга, а посредине огромные озера редкостной чистоты – Синее озеро и Увильды.
Здесь, в Кыштыме, Вера Андреевна и умерла. И вот тут произошла, честное же слово, удивительная и трогательная вещь. Вера Андреевна была более пятнадцати лет невенчанной женой лорда Нормана. Но благородного звания леди не имела никогда. И вот ее дети и внуки решили, так сказать, восстановить справедливость хотя бы посмертно. И на гранитном памятнике над ее могилой была высечена надпись: «ВЕРА АНДРЕЕВНА АНДРЕЕВА. ЛЕДИ-БАБУШКА». И пусть спустя годы многим посетителям кладбища надпись эта покажется странной. Что за беда! Главное, что справедливость хоть и поздно, но все-таки к ней пришла… Думаю, что главными инициаторами этой трогательной надписи выступили дочка Веры Андреевны Вера Васильевна и дядя Витя, который горячо ее любил и был очень добрым человеком. Помните: тот самый, которого женщины не обходили своим вниманием и которым он платил в этом плане от полноты души. С тетей Галей он все-таки расстался. Думаю, что немаловажной причиной тому послужила ее бездетность, а Виктор Иванович детей любил, и даже очень. Знаю это по себе. У себя на работе присмотрел он тихую провинциальную барышню, счетовода Лидочку, Лидию Васильевну. Но на отчество она как-то тянула мало, так как была маленькой, пухленькой и кукольно миленькой. Под руку дядя Витя ходить с ней не мог, так как она была почти вдвое ниже его. И если они выходили куда-то в кино или в гости, то она всегда шла впереди, а он, высокий и грузный, – сзади. У Лидочки был тихий голосок (совсем не как у тети Гали). Она была сентиментальна, мужа звала Витусик и двигалась почти бесшумно. Так же тихо и неприметно родила она «Витусику» пятерых детей: Юру, Веру, Витю, Леву и Риту. Я ее в шутку называл за спиной «Лидусиком». Но хотя мама была и тихая, ребята выросли боевыми. Старший, Юра, пошел в рабочие и проработал на серовском металлургическом заводе 30 лет на прокатке. Второй брат, Лева, и посейчас работает в горячем цеху нагревальщиком печи. Вера тоже работала на заводе. Остальные разлетелись кто куда.
Господи, как же хорошо помню я Серов тех далеких довоенных лет! Узенькая, но быстрая и говорливая речушка со смешным названием Каква, утонувшие в палисадниках деревянные дома, дощатые тротуары, заросшие зеленой травкой тихие улочки с привязанными к колышкам на длинных веревках козами, из-за каждого забора – черемуха и сирень… Каменные дома только в центре. Превосходно помню и тот двухэтажный дом возле Каквы, где в одной из квартир внизу жил Виктор Иванович с тетей Галей и Виолкой. И где я объедался до окаменения живота в лесу черемухой и бултыхался в Какве. И второй, тоже деревянный, одноэтажный домик, где жил он уже с Лидочкой на улице Ленина. Если за весь день по улице пройдет хотя бы один грузовик, то это событие. Да и лошадка с телегой проскрипит не чаще, чем трижды в день. Зеленые цветники, огороды, кудахтанье кур да жующие у ворот козы. Ну, а еще тишина, патриархальная тишина. Тишина по всему городу. Нет, о заводах я не говорю. Там шла своя напряженная и горячая жизнь. Но вот на городские улочки она не выплескивалась никак. Улицы жили своей задумчивой и неторопливой жизнью. Сегодня Серов абсолютно другой. Теперь это небольшой, но современный индустриальный город. Многоэтажные здания, асфальт, телевизоры, «Жигули» и «Волги», огромные дворцы культуры, кинотеатры, рестораны, гостиницы. Короче говоря, «Приезжайте к нам в Серов!». Дружба моя с этим городом не оборвалась. И когда я приезжаю в Серов читать свои стихи, залы, где мне доводится выступать, всегда полны народа. И я глубочайше благодарен городу за ту честь, которую он мне оказал. На том месте, где стоял когда-то дом моего дяди, улица Ленина, дом 149, высится многоэтажный дом. На стене его установлена бронзовая мемориальная доска с моим барельефом и выгравированными датами моего пребывания в Серове. Здесь по установившейся традиции выпускникам десятых классов и школ ПТУ вручались комсомольские билеты. В 1986 году и я был удостоен чести вручить – вместе с первым секретарем горкома комсомола – билеты членов ВЛКСМ юным горожанам рабочего города Серова.
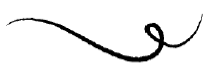
«Исторический дедушка» и другие
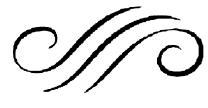
О своем дедушке Иване (Ованесе) Калустовиче Курдове мне уже не раз доводилось писать в предисловиях к своим книгам. Однако говорить сейчас о моей родословной и пройти мимо Ивана Калустовича только потому, что уже писал о нем когда-то, было бы абсолютной несправедливостью. Тем более что и на мою маму, и на меня он оказал достаточно большое влияние. Еще и потому, что это был характер уникальнейший, единственный в своем роде. Во всяком случае, я подобных характеров в своей жизни никогда больше не встречал.
Дедушка мой по национальности был армянин. Почему фамилия у него Курдов, я точно не знаю. В семье нашей существовало что-то вроде предания о том, что когда-то, во время армяно-курдской вражды, после какой-то заварухи курдский мальчик попал в плен к армянам. А точнее, его нашли заблудившимся в горах. Был он совсем маленький и имени своего назвать не мог или от страха забыл. Ну, раз он был курдом, то и дали ему фамилию Курдян. Найденыша приютили, выкормили, воспитали. Он абсолютно «обармянился», вырос и женился на армянке. Его сын тоже выбрал в жены армянку, их дети тоже и так далее. Поколения менялись, а фамилия Курдян так и переходила от отца к сыну. В Астрахани, куда переехал дед Ивана Калустовича и где основное население было русским, фамилия эта для удобства произношения трансформировалась в Курдов. Так это было или не так, с полной ответственностью я сказать не могу. Рассказываю как слышал. Во всяком случае, версия эта кажется мне достоверной. Что было дальше? А дальше было вот что…
В 1885 году из далекого Вилюя после двадцатилетней ссылки в Астрахань вернулся знаменитый писатель, революционер и демократ Николай Гаврилович Чернышевский. Возвратился и горячо принялся за работу. Ольга Сократовна, занятая детьми и домашними делами, серьезной помощи в работе оказывать ему не могла. Срочно нужен был секретарь. И тогда друзья порекомендовали Николаю Гавриловичу выпускника старших классов гимназии Ивана Курдова. Для такого человека, как Чернышевский, Курдов обладал, без всяких преувеличений, целым рядом достоинств. Во-первых, он был тесно связан с тайными революционными студенческими кружками. Во-вторых, владел великолепным каллиграфическим почерком, а в-третьих, был скромен и с гранитной твердостью умел хранить тайны. Дедушка рассказывал мне впоследствии, что, прежде чем они с Николаем Гавриловичем садились за работу, Ольга Сократовна непременно усаживала его за стакан чая с неизменными бутербродами. Однако чаепитие всегда было коротким, так как Чернышевский рабочим временем дорожил чрезвычайно. Чтобы поддержать его материальное положение, различные издательства либерального толка заказывали ему переводы. Николай Гаврилович, набросив на плечи шерстяной плед, расхаживал обычно по комнате и диктовал, а Ваня Курдов быстро писал, стараясь не пропустить ни одного звука. Так, «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» Вебера, которую переводил в те дни Чернышевский, почти целиком была переписана рукой моего деда. Чернышевский был в жизни исключительно пунктуальным и обязательным человеком. Во время работы не любил отвлекаться на какие-либо разговоры. Особенно неприятны были ему расспросы о тяжелых и мрачных годах, проведенных в вилюйском остроге. Однажды, по свидетельству моего деда, между ними произошел такой диалог:
– Николай Гаврилович, можно мне задать вам один вопрос?
– Не надо, Ваня, я этого не хочу.
– Но откуда вы знаете, какой я хочу задать вам вопрос?
– Знаю, Ваня, знаю. Только задавать этого вопроса не надо. Давай работать.
С первого дня знакомства и до последних своих дней дедушка мой горячо любил Чернышевского, восхищался им и жадно впитывал его идеи, мысли, советы. Мысли Чернышевского, его идеи, идеи народных демократов стали отныне главным смыслом его жизни.
Сегодня в этом доме музей Чернышевского. В 1985 году, ровно через 100 лет, по приглашению Астраханской филармонии, я выступал в различных концертных залах города. Посетил и дом-музей Чернышевского.
Водил меня по залам этого музея самый крупный специалист по Чернышевскому и автор множества монографий о нем профессор Травушкин Николай Сергеевич. Мне и моей жене Галине Валентиновне он показал стенд, над которым висел портрет моего дедушки и где лежали его рабочие врачебные инструменты. А затем подвел нас к большому дубовому столу и не без торжественности сказал:
– А вот это, Эдуард Аркадьевич, стол, за которым работал Николай Гаврилович. Вот здесь сидел Чернышевский, а вот тут – ваш дедушка.
Удивительное это было ощущение – прикасаться рукой к столу, за которым сидел Чернышевский, а рядом с ним мой дедушка… Словно бы прикоснулся к живому кусочку истории! Не забуду этого ощущения никогда! И, стоя у этого исторического стола, я как бы заново ощутил, почувствовал, услышал, как разговаривают в этой комнате два человека, Николай Гаврилович и мой дед.
– Николай Гаврилович, – говорит мой дед, а тогда еще совсем юный Ваня Курдов, – я внимательно прочел все, что вы написали. Роман «Что делать?» я знаю почти наизусть. Но скажите, скажите, как мне жить дальше, что делать, чтобы принести как можно больше пользы народу?
И в ответ тихое покашливание и чуть хрипловатый голос Чернышевского:
– Видишь ли, Ваня, стать счастливым – это естественное стремление человека. Но счастье можно понимать по-разному. Один счастлив, добившись для себя определенных благ, духовных или экономических. Назовем это эгоизмом. А есть иной эгоизм. Тоже эгоизм, но разумный. Что это значит? А значит это следующее: я приношу радость другим, я делаю счастливыми окружающих и от этого счастлив сам. Ты удивлен? При чем же тут эгоизм? А при том, что я, доставляя радость другим, доставляю радость самому себе, значит, я эгоист. Да, вот именно, разумный эгоист. Впрочем, назвать это можно иначе. Дело не в названии. Главное, служить большому делу… Открывать глаза нашему крестьянину на его бесправное угнетенное положение. Но для того чтобы с максимальной пользой служить своему народу, надо многое знать. И тебе, Ваня, нужно учиться, непременно нужно учиться. И вот тебе прекрасный источник знаний: Казанский университет. Настоятельно рекомендую тебе туда поступить. У тебя это непременно должно получиться. Никогда не останавливайся на половине пути. Всякое дело доводи до конца!
Итак, после двух лет секретарства у Чернышевского, а точнее, его интеллектуальной школы (и какой школы!), дедушка мой осенью 1887 года шагнул на мраморный порог Казанского университета. Думаю, что двухлетнего общения с таким ярчайшим человеком, как Чернышевский, вполне достаточно для того, чтобы Ивана Калустовича можно было бы назвать «историческим» и без всяческих кавычек! Но так уж сложилась его судьба, что здесь, в стенах Казанского университета, ему довелось познакомиться с другим редчайшим человеком, который произведет на него неизгладимое впечатление. Думаю, вы уже догадались, что имя этого необыкновенного человека – Владимир Ульянов! Только Ленин учился на юридическом факультете, а мой дедушка – на естественном. Согласитесь, что быть на протяжении одной жизни знакомым с двумя такими корифеями мысли – случай уникальный! Единственный в своем роде!
С первых же дней учебных занятий сама собой произошла своеобразная политическая поляризация студенческих сил: по одну сторону – революционно настроенное студенчество, по другую – все инертные и консервативные силы. И совершенно естественно, что Ваня Курдов, который, что называется, был взращен и вскормлен идеями Чернышевского, оказался в одном лагере с Володей Ульяновым. С самого начала их увлекло большое и очень важное дело: организация нелегальных студенческих библиотек. Впоследствии я спросил у моего дедушки о том, какое впечатление произвел тогда на него Владимир Ильич. Если не ошибаюсь, разговор этот произошел в 1936 году в Свердловске. Сидя в глубоком кресле и закутанный полосатым пледом, дедушка чем-то напоминал усталого старого беркута: белоснежные волосы и усы, правильный, с легкой горбинкой нос, большие, чуть навыкате глаза – мудрые и спокойные. Дед страдал тяжелой формой одышки и говорил медленно, часто переводя дыхание. На мой вопрос он ответил примерно так:
– Ты спрашиваешь, какое он на меня произвел впечатление? Хорошее впечатление. Не думай только, что я так говорю потому, что это Ленин, – он чуть заметно улыбнулся и перевел взгляд на книжный шкаф, где на верхней полке в белом супере аккуратной шеренгой выстроились все 46 томов Собрания сочинений Владимира Ильича. – Ты же знаешь, что я говорю только правду. А кроме того, разве мог кто-нибудь тогда знать о том, что этот юноша станет когда-нибудь вождем пролетариата и главой страны? Разумеется, нет. Каким он запомнился мне тогда? Невысокого роста, рыжеватый. Ну, это ты знаешь и без меня. Очень энергичный. Кстати, взгляд у него был такой же неожиданный, прямой и быстрый. Он, как мне казалось, не переводил этот взгляд равнодушно от одного человека к другому, а смотрел на собеседника то серьезно, то весело, но всегда с интересом. В вожаки он не рвался. Но как-то само собой получалось так, что к нему прислушивались, с ним считались, и он, словно бы и не делая никаких усилий, каким-то образом всегда был как бы на острие событий. На нелегальных собраниях с многословными речами не выступал, а говорил коротко, но всегда аргументированно и веско. На собраниях сидел, как правило, где-нибудь в стороне и, покусывая ноготь, внимательно слушал ораторов. Однажды так случилось, что молодой Ульянов сидел вполоборота очень близко от меня. Было хорошо видно, как живо и выразительно менялось его лицо в зависимости от того, нравились ему слова очередного оратора или нет. Лицо его то гневно хмурилось, то на этом лице появлялась ироническая улыбка, а то он вдруг удовлетворенно кивал головой и смеялся заразительно и горячо. Впрочем, он не просто слушал выступления других. Из своего угла по временам вставлял замечания или выстреливал репликой такой точной и меткой, что зачастую напрочь сражал противника и вызывал веселые аплодисменты товарищей. Я был старше Володи Ульянова на два года и всякий раз не переставал удивляться тому, что этот юноша, которому едва исполнилось семнадцать лет, обладает таким острым и почти афористичным умом. Не то он тоже заметил меня, не то ему что-то обо мне сказали, но после одного из нелегальных собраний он подошел сам и спросил:
– Скажите, пожалуйста, вы действительно были секретарем у Чернышевского? – и когда я подтвердил, он пошел рядом по коридору и горячо заговорил: – Это архиинтересно! Я думаю, что было бы хорошо и полезно, если бы в ближайшее время вы рассказали о Николае Гавриловиче всем, кто этого захочет. Я уверен, что в желающих недостатка не будет!
Однако идее этой осуществиться не удалось. В декабре того же 1887 года произошел бунт, а точнее, знаменитая студенческая сходка в актовом зале университета, которая, как тебе известно, закончилась исключением Владимира Ульянова из университета. Исключили в те дни и его, и большинство революционно настроенных студентов, в том числе и твоего деда.
Я не запомнил точной даты этого диалога. Но зато смысл разговора помню отлично. Было мне тогда лет 13–14, и воспринимал я в ту пору все уже совсем как взрослый.
Трижды исключали моего деда из университета за революционную деятельность. И трижды все-таки принимали обратно, правда, порой со значительными интервалами. Окончив университет, Иван Калустович стал земским врачом и на протяжении многих лет находился под негласным полицейским надзором.
Есть на Урале небольшой городок – Михайловский Завод, где, кстати, родилась моя мама. Если вам доведется когда-нибудь там побывать, то непременно зайдите в краеведческий музей, где на видном месте висит портрет моего деда. За что ему оказано такое уважение? За большую общественную и самоотверженную врачебную деятельность, ну а в конечном счете – за служение людям и горячую к ним любовь. Добавлю, кстати, что в Свердловске есть музей истории медицины, где тоже висит портрет Ивана Калустовича Курдова как большого общественного деятеля и врача. В Свердловске он последние годы заведовал лечебным отделом облздрава.
Итак, первым местом работы молодого земского врача был Михайловский Завод, а через несколько лет – Пермь.
Как известно, в 1905 году в связи с осложнившейся политической обстановкой в стране Николай II выпустил так называемый «Манифест о свободе». В Перми этот манифест был торжественно зачитан в Дворянском собрании. После чтения манифеста на сцену вышел молодой врач Иван Калустович Курдов, отстранил зачитавшего манифест обер-полицмейстера и, обратившись к залу, стал говорить о манифесте то, что говорили социал-демократы. За подобную дерзость дедушка мой через несколько дней был арестован. Любопытно отметить, какая порой существовала тогда в среде интеллигенции благородная солидарность. Врач, который был назначен на место Ивана Калустовича, половину своего жалованья отдавал жене и детям арестованного коллеги. И делал он это не раз и не два, а постоянно, вплоть до того момента, когда под давлением общественности Ивана Калустовича охранка вынуждена была выпустить на свободу. А просидел он там практически около года.
Мой «исторический дедушка» был необычайно волевым человеком, не позволявшим себе никаких слабостей. Он не пил, не курил, не признавал веселых беззаботных компаний. Никогда и ни при каких обстоятельствах не повышал голоса. И вообще не говорил ничего лишнего, а только то, что необходимо в данном случае для дела. Не признавал рукопожатий. Никогда в жизни не сказал ни одного лживого слова. Говоря это, я подчеркиваю и повторяю: не то что не лгал, но и просто не хитрил и не привирал никогда и ни при каких условиях. В его кабинете на рабочем столе все лежало в абсолютном порядке и на своем определенном месте. Если, например, кто-нибудь решался передвинуть на его столе карандаш, он немедленно это замечал и был недоволен. Еще одно качество, которое свойственно, к сожалению, далеко не многим, – почти астрономическая точность. Он ни разу и никуда не опоздал, не нарушил данного кому-либо слова. Рассказывали, что в пору, когда радио у людей в доме было редкостью, некоторые его товарищи по работе даже проверяли по нему часы. Например, доктор Перец говорил по утрам своей жене:
– Доктор Курдов прошел под окнами. Ставь часы на полвосьмого!
И говорилось это на полном серьезе. Работая земским врачом, он приходил в бурное негодование, почти в ярость, если кто-нибудь пытался «отблагодарить» доктора не только словом, но и какой-то мздой в виде денег, курицы или какого-то подарка. Он так же был кристально бескорыстен, как и кристально честен. Он ни разу в жизни не ударил ни одного из своих детей. Но они его не только уважали, любили, но и боялись. Причем совершенно взрослые, когда у многих были уже дети, собравшись, например, за праздничным столом, где позванивали не только тарелки, но и рюмки, они приходили чуть ли не в ужас, когда кто-то из окна увидит идущего к ним через двор Ивана Калустовича:
– Товарищи! Идет папа! Убирайте скорее бутылки!
И вот все взрослые и солидные люди, как школьники, кидались к столу, хватали бутылки, рюмки, рассовывали их куда придется, проветривали от табачного дыма комнаты, и когда Иван Калустович, по причине одышки, медленно подымался на их этаж, все «следы преступления» были уничтожены и взрослые дети сидели мирно за самоваром и беседовали о житье-бытье… Знавшие его довольно хорошо люди порой шутили:
– Главным недостатком Ивана Калустовича является то, что у него нет недостатков.
И практически это было действительно так. Став взрослым, я много думал о своем дедушке: откуда и каким образом определились в нем эти черты? Может быть, он таким был рожден? Или каким-то удивительным образом их все приобрел? И вдруг я вспомнил… Вспомнил портрет над креслом в его кабинете! Портрет Николая Гавриловича Чернышевского, которого он не просто любил всю свою жизнь, а, без всяких преувеличений, попросту боготворил. И это относилось в равной степени как к нему самому, так и к его произведениям. И тут меня осенило: Рахметов! Живой Рахметов! Ну как же я этого не понял сразу?! Когда-то в юности он был влюблен в этот образ. И до такой степени считал его превосходным, что вольно или невольно стал ему подражать. А так как Иван Калустович и сам был человеком самобытным и обладал большой волей, то образ любимого героя стал все больше и больше сливаться с внутренним обликом молодого студента и процесс этот продолжался до тех пор, пока не слились они воедино и не стал ученик Чернышевского, волею судьбы, его ожившим героем!
Я говорил уже о том, что после смерти моей бабушки, Марии Васильевны, дедушка мой вскоре женился на второй Марии – Марии Павловне из рода Новгородцевых. Это была молодая провинциальная учительница, не очень красивая и никакими сколько-нибудь приметными качествами не обладавшая. Любила ли она Ивана Калустовича? Вероятно, да, ибо, к чести ее будь сказано, согласилась пойти замуж несмотря на шестерых детей. К мужу она относилась с робким благоговением, называла по имени-отчеству и не возражала никогда и ни в чем. Была она тиха, незаметна и бережлива до скупости. Качество, которое она передала потом и родным своим детям. А детей у нее было трое: Валентин, Зинаида и Лев. Со временем Валентин Иванович Курдов, перебравшись в Ленинград, стал довольно авторитетным человеком, народным художником РСФСР, лауреатом премии им. Репина. Зинаида Ивановна и Лев Иванович переехали в Москву, выучились и получили кандидатские звания. Зинаида Ивановна по медицинской части, как врач, а Лев Иванович по линии радиотехнической.
В послереволюционные годы дедушка мой переехал из Перми в Свердловск, где и жил до последних своих дней на улице Карла Либкнехта в доме, где была всегда, да и находится по сей день, аптека. Мальчуганом я частенько приходил к нему в гости. Во-первых, потому, что деду нравились мои приходы. Будучи не очень разговорчивым и даже суровым, дед наружно своего удовольствия не показывал никак, но я это отлично чувствовал и по выражению его глаз, и по интонациям, и по другим, известным лишь мне, приметам. Разговаривать с Иваном Калустовичем было всегда интересно. И хотя, как я уже говорил, был он немногословен, но и то немногое сказанное им за вечер всегда запоминалось и хранилось в памяти долго. Ну, а во-вторых, я любил навещать дедушку из-за Ханса Кристиана Андерсена. На третьей полке книжного шкафа всегда помещался у него огромный том сказок Андерсена. Это было великолепное старинное издание на блестящей бумаге и с огромными яркими рисунками. Отличный перевод, крупный и четкий шрифт, короче говоря, книга, которой, и по нынешнему моему мнению, просто не было цены! Следует сказать, что к книгам дедушка относился уважительно, бережно, как к живым людям. Он никогда не разрешал перегибать книгу, класть ее на колени (только на стол), слюнить пальцы при перелистывании и, Боже сохрани, загибать углы на страницах! Он всегда сам мастерил закладки из картона и конфетных бумажек, которые приклеивал к картонкам молоком. Я любил читать у него книги, их у него было много, но чаще всего я просил все-таки Андерсена.