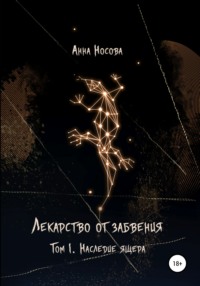
Лекарство от забвения. Том 1. Наследие Ящера
Собеседнику, сраженному в этой словесной баталии, оставалось лишь беспомощно развести руками.
– Да к чему мне тащиться в таверну и к добрым хархи приставать, когда ты мне все карты прям тут и раскрыл? Видать, теперь жителям Подгорья меня ничем не удивить…
А все же удивить недоверчивого Нурхана словоохотливые обитатели приморской местности могли, да еще как! Ведь разговор, подобный тому, который завел болтливый Водрих, частенько вился над муравейником черных каменных домишек Подгорья. Вился-завивался причудливыми кольцами правды и вымысла, щедро сдобренный гнилостно-сладким душком сплетен. Ветер на своих растрепанных крыльях разносил их вдоль всего побережья. Обрывки наблюдений и каркающее эхо слухов стали вожделенными крошками хлеба для изголодавшейся стаи голубей-попрошаек.
И не насытившись аппетитным мякишем пересудов и кривотолков, они начали клевать трактирщика прямо в голову.
Если в одном конце Подгорья утром рябая сукновальщица, стуча внушительным кулаком по своему кожаному фартуку, утверждала, что-де Куримар посещал Святилище, только лишь чтобы выучить его потолочную роспись, то через пару дней, на другом конце, он уже «ни во что не ставил Огненного бога и думал, будто кабак достоин такого же украшения, как и Святилище».
– Грех, грех-то какой! – склоняя седые головы под треугольниками из трясущихся пальцев, вторили старики хриплым хором.
– Не возгордись, подобно трактирщику из «Хмельной чаши», а то не видать тебе воинской службы как своих ушей! – вразумляли матери своих строптивых чад, в глубине души радуясь такому показательному примеру.
Пролетая над прибрежными поселениями, этот слух постепенно обрастал павлиньим хвостом выдуманных подробностей. Слава Куримара стремительно неслась впереди него.
Кто он такой? Что сталось с его жизнью? Как он вообще дошел до нынешнего положения? Спросите – и вам расскажут!
Расскажут, что-де презренный кабатчик, видимо, увлекшись дегустацией своих напитков, ни с того ни с сего возомнил себя не меньше чем членом королевского совета и посчитал уместным ставить бутыли будто бы на потолок Святилища. То есть предложить своим гостям выпивать прямо на священной для хархи символике, а то и сплевывать на нее застрявшие между зубов виноградные и рыбные косточки. Перенес возвышенное, божественное – вниз. Святыня, к коей устремлялись молитвы, благодарности, немые вопросы, просьбы о защите живых и жаркие заклинания о лучшей доле для усопших, оказалась под чашами с маругой, под тарелками с обглоданными свиными ребрышками.
Грех, грех-то какой.
А как трижды нечестивый трактирщик, дошедший в хмельных бреднях до святотатства, сумел воплотить в жизнь этот лукавый план? Ясное дело как! Всем ведь известно, что он и в обычные дни, и уж тем более по праздникам, не вылезал из Святилища; якобы весь из себя богопослушный и смиренный, что твоя овца. Ею он и был, по крайней мере снаружи. Этакий добродушный бесхитростный бурдюк с салом – вперится ягнячьим взглядом в потолок, изукрашенный янтарными многогранниками, и глаз бессовестных с него не сводит! Коли не знаешь всего, можно и взаправду подумать, что молится с усердием, да не за себя – за весь свой род куримарский грехи замаливает. Чтоб отца, нечистого на руку, Огненный из своего чертога не прогонял, чтоб сестре зрение вернулось, чтоб жена наконец родила ему сына, а малая его, Медиз то бишь, чтоб выросла красавицей и попала бы в гарем к одному из этих толстосумов гильдейских.
Оно, конечно, хорошо, коли бы из этого нового торгового союза муженек-то ее будущий оказался. Тогда, глядишь, на резном том прилавке выстроился бы ряд редких восточных вин с экзотическими пряностями! Да и ядреных настоек на северных ягодах ажно из-за самого Убракка было бы в достатке… Хотя, чего скрывать, родство с выходцем из ювелирной гильдии устроило бы наверняка алчного кабатчика не меньше. Уж тогда бы, небось, этот прилавок расцветили бы мерцающие самоцветы и драгоценные металлы – не то,что какой-то там янтарь.
Да, об этом, видать, молился набожный трактирщик, а сам глазами едва дырку в потолке Святилища не просверлил. Нет, вы это видели? Все, шельма такая, запомнил, до единой черточки, до мельчайшей детали: где какая фигура, где завиток, где крошечная линия, что и как в этих многогранниках расположено. А они ведь страсть какие сложные – позаковыристей наплечных татуировок лучших воинов королевской армии! Если долго на них смотреть, а потом резко закрыть глаза, начнут яркими узорчатыми дисками прямо в темноте перед тобой вращаться, словно хитрый механизм какой. Только там, в рисунках этих с потолка, все сложнее любого механизма устроено. А этот взял и запомнил. Не иначе как в голове у себя записал! Будто подталкивал кто, подсказывал, нашептывал. Может, сам рыбий царь? Да, вот уж он-то (или она, поди их, бледное отродье, разбери) мог до такого додуматься – даром, что ли, в нем и мужик, и баба вместе уживаются? Тьфу ты, водится же в этом ихнем Вигари такое…
Грех, грех-то какой.
А дальше как дело было? А как бы ни было, ясно одно: без мастера тут никак, ибо у самого Куримара руки только вино в чашу подливать приспособлены, да и то бывало, что мимо нее. Ну, вы знаете эту его неповоротливость. С мастером, надо сказать, все больно непросто оказалось. Оно понятно, что ремесленники – народ не шибко умный, да и к медовухе, знамо дело, неравнодушный, а никто за дело богопротивное браться не хотел. Зачем, спрашивается? Чтоб в сговоре сбрендившего кабатчика с рыбьим царем свою долю греха заиметь? Так недолго и на Стене отверженных оказаться. Спасибо, уж лучше в гильдию податься: там хоть свяжут по рукам и ногам, но, по крайней мере, таким заказом не наградят.
А вот опустившийся Гудхар не избежал заказа этого, хоть и пытался уж под конец на дне морском от назойливого толстяка запрятаться. Говорят ведь, что резчик тоже тот еще «подарок» был: у самого руки не из того места – вот уж наказание отцу-мастеру! – да еще и завистливый дальше некуда. Глядел-глядел, как у брата и отца все складно из-под резца выходило, а сам при этом только дерево портил да инструмент затуплял. Ну и утешался маругой, как водится. В «Дурманящем кубке», само собой, – там, где подешевле да подальше от дома, чтоб отец с братом не нашли и по затылку киянкой не настучали. А Куримару только того и надо: вот он, тут как тут с халявной выпивкой. Кабатчики – они свое дело знают. Сначала умаслят гостя дармовым пойлом с разогретыми в котелке объедками со вчерашнего ужина, а потом давай в размякший разум свои шкурные интересы пропихивать! Вот он и так, и сяк подъезжал к захмелевшему Герхану – и на рыжей кобыле, и на пегой: «Упроси, – говорит, – брата старшего или, лучше, отца, пусть прилавок мой на манер потолка в Святилище разукрасят! Заплачу хорошо железными пластинами новой чеканки! А уж как принимать у себя в «Пьяной чарке» буду – все равно, что королей! Все, что здесь подается, вовек всей семье твоей бесплатно будет!»
Градхир пить-то пил, а согласия на заманчивые предложения Куримару не давал. Ясно как день: зависть уже так его душу прогрызла, что не желал он ничем пособлять ни отцу, ни брату. Не хватало самому на блюдечке этим «золотым рукам Подгорья» новые заказы притаскивать! Добряк Куримар ему и без того от души знай наливает, так чего ради против своей воли идти? Это ж… как там в Наставлениях толкуется?.. «Все, что ты делаешь вопреки своей истинной воле, – делаешь наперекор своей судьбе, что вершится в неисповедимом танце искр». Слова эти все с младых годков назубок помнят! А нарушить их…
…грех, грех-то какой.
Эдак какое-то время и тянулось, пока Куримар так горе-резчика не допек, что тот ровно в силках охотничьих оказался: по правую руку – семья со своими упреками, по левую – трактирщик клещами вцепился да, кажись, еще и подмешивать что-то дурманящее в пойло начал. Тут-то разум Градхиров окончательно и затуманился. И куда бедолаге от этих напастей деваться, как не на дно Вигари! Вот и решил он, душа грешная, к рыбьему царю с горя податься, ибо Огненный за слабость и праздность его теперь уж и близко к своему чертогу не подпустит. Кто знает, может, там, в пучине, его лучшая судьба дожидалась, а длинноволосые острозубые сирены из-за красных кварцитовых валунников давно уж Гаммира к себе зазывали? Вот он и пошел как миленький. А кабатчик неугомонный снова тут как тут: «Куда собрался? Погоди, – кричит, – у тебя еще на огненной земле дела остались: покуда родню свою мне прилавок вырезать не пришлешь, никуда не пущу!»
Да и плюх прямо в волны за ним.
Чуть не располовинил несчастного, деля с сиренами его, нахлебавшегося воды! Еще немного, и только руки его трактирщику бы достались. А что с них толку? Они и при живом-то хозяине не больно искусно резцом владели. Так что Гамхир нужен весь, целиком. Поэтому-то Куримар зубцами разбитой бутыли тем девицам хвостатым личики так разукрасил, что свеженький утопленник потерял для них всякую привлекательность.
Ну, вытащил на берег тело – глядь, а оно уж бездыханно, хоть сразу на Пепелище его. Тут у Куримара поджилки-то и затряслись: остатки трактирщиковой храбрости еще там, в пене морской, закончились, а мужества в помутненном разуме и жировых складках отродясь не водилось. Пялится на мертвеца, на берег вытащенного: кровь вся от лица отхлынула, уж сам на него сделался похожим, как припомнил, что с вечера опять к нему в кабак Цогдаш из лекарской гильдии пожаловал. Вот удача! Утопленника на плечо, как мешок с картошкой, взвалил и диким кабаном помчался обратно в питейную обитель, сшибая все на своем пути. Хархи добрые на это смотрят: «Никак совсем умом тронулся! Лучше б сразу кабак подпалил с собой вместе, чем окаянство такое совершать!»
Грех, грех-то какой.
Влетел он в трактир и сходу тело прямо на стол с маругой и закусками свалил, а сам сзади встал и собой, будто пивным бочонком, выход гостям перегородил. Да еще пригрозил им, что если не выживет резчик, то со всех присутствующих будет клятва огненная взята раскаленными щипцами для углей. Придется, дескать, поклясться, что ничего в тот день в трактире не произошло и никто в его стенах не думал помирать! Ну, тут отважный лекарь Цогдаш и вызвался на подмогу, хоть другие на него цыкали, чтоб молча сидел: молодой ведь еще совсем! А ну как обезумевший Куримар ему пальцы своей кочергой прижжет, если пьяница не очухается? Но на то он и лекарь, самого Аннума ученик, чтобы не оставить страждущего в его мучениях! Ниспошли, Матерь звезд, лучи благоденствия на его голову! Подошел молодой целитель к Гиддиру да и начал руками по нему колдовать, а трактирщик тесак для разделки мясных туш прям возле горла его держал. «Вытаскивай его с небесного свода сюда к нам! – рычал ему прямо в ухо. – Мы тут с ним еще не закончили! А не вытащишь – за ним следом быстрехонько отправишься!»
Грех, грех-то какой!
Цогдаш-то вытащил. И разбрелись все, не помня себя от страха, по домам. Шли из проклятого трактира и думали про себя: а вдруг на какое-то время резчик все-таки помер, а бесстрашный лекарь его и правда прям оттуда достал? Тогда получается, что все они пили тем вечером с мертвецом! Милосердная Матерь, что же теперь делать? Какими молитвами и жертвоприношениями исправлять такой страшный проступок?
Грех, грех-то какой!!!
Крепко задумались гости Куримарова кабака, и, хоть ровно ничего богопротивного в нем тем вечером не произошло, завелось в народе восьмое «наставление» – обходить окаянный трактир за три версты. Не сказать, правда, что с тех пор никто к Куримару не захаживал. Ему удавалось кое-как сводить концы с концами благодаря особо отчаянным огненным воинам, что повадились бросать в «Хмельной чаше» вызов собственному страху. Доказать что-то себе и Огненному богу: вот, мол, ставим на кон собственную загробную жизнь, лишь бы снискать твою похвалу за отвагу! Не боимся, дескать, дремучих народных поверий, а слушаем только священные Наставления Прародителя. На этой почве в воинских частях Подгорья родился обычай: на спор выпивать чашу маруги за столом, на котором тем роковым вечером лежал утопленник. Поборовшему себя и смертельно расстроившему свою семью воину полагался новый знак в кольцо наплечной татуировки, напоминающий глаз, охваченный пламенем. «Взгляд смерти в глаза», – окрестили воины этот новый символ, нашедший не так уж много желающих украсить им свое плечо.
Наиболее любопытные и наименее суеверные хархи из других городов острова, особенно по ту сторону опаловых гор, время от времени тоже жаловали трактир своим присутствием. Приходили сравнить узоры в Святилище и на прилавке Куримара…
И действительно не находили отличий.
Вымышленное и истинное, словно не замечая своей несовместимости, сплетались все теснее. Их связь крепла, образуя чудовищный полумифический гибрид, который наступил своей великаньей ступней на Куримара. Даже ничего не почувствовав при этом, он изломал трактирщика как снаружи, так и изнутри. Крошки слухов, брошенные голубям, проросли хищным плотоядными цветами-мухоловками, что, не подавившись, пожрали огонь сердца трактирщика, оставив в нем зияющую пустоту.
Куримар протер увлажненные воспоминаниями глаза тряпицей, которой надраивал столешницу. В нос ударил резкий кислый запах, а глаза только сильнее защипало от спиртовых испарений и въевшихся в холщовую ткань специй. Похудевший почти вдвое трактирщик на мгновение вернул себе тень былой расторопности, метнувшись в сторону кадки из бурового вяза, дабы плеснуть в лицо прохладной водой.
Плюх. Кап-кап-кап…
Струйки приятно стекали по истощавшему лицу и задерживались тяжелыми каплями на всклокоченной бороде. Легкое дуновение морского ветра, долетевшее до Куримара сквозь крошечные окошки каменного помещения «Хмельной чаши», проскользило по этим мокрым дорожкам и на прощание оставило на лице след из мелких мурашек.
Нет! Это уже ни в какие ворота…
Нужно скорее обтереться полой хлопкового фартука, чтобы десятилетняя Медиз, вернувшись с рынка, не приведи Огненный, не застала его в таком размякшем виде. Да и подкрепиться не помешает: с утра крошки во рту не было, хотя всякой снеди на кухне предостаточно. Несмотря на полное отсутствие аппетита, ему, Куримару, следует хотя бы сделать вид, что он поел, а не то Медиз снова начнет браниться. И – вот ведь причуды судьбы! – с точно такой же интонацией, что и ее мать Хигдая. Помнится, давно – почитай, уже как вечность назад – жена то и дело упрекала его за чревоугодие. А сама-то уж, наверно, теперь на восточных сластях и винах с нездешними пряностями тоже не легкой бабочкой порхает. Или что она там вкушает с новым мужем за опаловыми горами?
Эти мысли, будь они неладны, тоже нужно гнать прочь.
– Пш-ш-шли-и! – Куримар с силой ударил кулаком по цветным янтарным дорожкам своего прилавка, глядя куда-то сквозь него. Непрошенные слезы все так же застилали глаза.
Другой рукой трактирщик извлек из кармана фартука огрызок вчерашнего яблока и начал без аппетита его жевать.
«Ничего, – уговаривал себя Куримар, – надо только дотянуть до вечера». Слишком давно он не ходил к Двурогому холму оракула за исцеляющими душу историями. Ну, как исцеляющими… Их действия, разумеется, всегда хватало ненадолго; после них порой было еще сложнее возвращаться в свой опостылевший мир, словно в беспощадном похмелье. И да, на следующий день волны реальности еще грубее будут шваркать исхудавшее лицо Куримара об острые края тех самых стеклянных осколков, в которых когда-то лежал здесь несчастный Гивдар.
И в этом следующем дне его снова ждет укор в глазах дочери, его малышки Медиз… Что поделать, коли она поверила кружащему вокруг ее рыжей кудрявой головки воронью, до сих пор посыпающему побережье пережеванными крошками слухов?.. Куда деться от упрекающего взгляда? В то же время ее по-детски упрямое каждодневное ожидание возвращения матери попросту сводило трактирщика с ума. Имел ли он право открыто поведать дочке, что именно ее появление на свет и заставило когда-то Хигдаю отбросить мечты о муже-воине и пойти за него, Куримара, замуж? И что все эти созвездия Хигдая только и ждала повода, чтобы снять с себя семейное ярмо и устроить собственную жизнь получше… Прикинув так и эдак, Куримар рассудил, что такого права у него нет. Ибо понимал, что, развенчав образ Хигдаи в глазах дочери, он лишит ее согревающей сердце иллюзии. Заставит почувствовать себя нелюбимым, ненужным ребенком. К чему это и без того настрадавшейся по его милости малышке?
Так что Медиз оставалась насчет матери при своем мнении, а именно: матушка была слишком праведна и религиозна, чтобы оставаться в этом греховном месте, куда ее ополоумевший муж своими руками притащил мертвеца и угрожал всем посетителям!
Успокой свой измученный, растерзанный разум, дружище Куримар. Не сегодня. Уже вечером ты будешь сидеть на мягком зеленом ковре у подножия холма в окружении сиреневого клевера и россыпи мелких голубоватых ромашек, будто бы воспарив над стаей этого брызжущего ядом воронья. Нега травяного медового аромата проникнет прямо в твои мысли вместе с неторопливым повествованием Тихха о далеких звездах, костяных островах далеко за горизонтом Вигари и мудрецах, ведающих о нас то, чего не знаем мы сами. Убаюкивающий голос оракула на крылатом коне унесет тебя далеко, очень далеко отсюда. И сегодня, хотя бы сегодня, ты уснешь спокойно.
Только дождаться бы вечера.
Глава 7 Переосмысленное молчание
Яллир придирчиво сощурил глаза и еще раз внимательно оглядел Елуама, словно желая убедиться в неоспоримости своей победы. Удалось ли ему, умелому переговорщику, развеять страхи и сомнения будущего пилигрима? Сильны ли, достаточны ли были доводы? Не зря ли, слегка увлекшись этой игрой, он раскрыл некоторые, скажем так, личные подробности своих торговых паломничеств?
«Все-таки годы делают дружбу с риском все более натянутой…» – некстати подумалось Яллиру.
Первое впечатление, увы, не слишком обнадежило старого купца: лицо юноши выражало полное отсутствие каких бы то ни было мыслей. А если они и были, то блуждали где-то бесконечно далеко от окраины Чернового круга. Ни осознанностью, ни воодушевлением, что называется, и не пахло. Да что там – парень выглядел еще более потерянным, чем до их «доверительной беседы»! Наверное, впервые в своей жизни Яллир в буквальном смысле ощутил, как почва уходит из-под ног – медленно, песчинка за песчинкой. Устоишь тут на ногах, когда старые приемы и средства уже не действуют, а новые не спешат им на замену!..
Легкий толчок в бок прервал внутреннее ворчание купца и заставил вновь поднять глаза на своего преемника. Что там хотел показать ему Лиммах? Неужто засвидетельствовать его, Яллира, запоздалый триумф?
Старый пилигрим медленно поднял усталые, полные недоверия глаза.
Нет, все же есть еще порох в пороховницах, а старые приемы не так уж и плохи: лицо юноши просветлело облегчением. Наконец-то исчезло затравленное выражение, таившееся в аквамариновой глубине взгляда молодого вига. Предательски выступающие приметы эмоциональной незрелости сменились первыми признаками уверенности в себе.
Яллир, однако, не спешил торжествовать. «Надолго ли это?..» – только и хмыкнул он про себя.
Что ж, это лучше, чем ничего. «Будем, – заключил бывалый пилигрим, – довольствоваться тем, что есть». Временное забытье так или иначе окажет свое целительное воздействие на эо23 юноши. Оно наложит ему успокаивающий травяной компресс на разгоряченный лоб, терпеливо распределит по своим местам восемь жидкостей его сосуда и не даст им снова смешаться в зловеще булькающее варево страха. Чтобы стало в точности как на потертой от времени оригинальной иллюстрации к «Учению об эо: корневой системе психики вига» – строгий порядок и равные пропорции. А что до выданных сгоряча тайн Черторга вместе с секретными деталями странствий – да семеро искусников с ними! Не жалко, по крайней мере теперь. Это молодому и залихватски бесстрашному «морскому черту» Ялу, коим он был много светооборотов назад, бесконечно льстила та мантия таинственности со вшитыми в нее чужестранными загадками, что гордо развевалась за спиной при каждом шаге. В ее темных складках было все: мистерия Расщелины, не разбавленный водой кислород, вулканическая черная пыль, рисунки из звезд, бессмысленная жестокость турниров и публичных казней, королевские сады каменных цветов, пряные благовония из Святилища, звон браслетов горделиво шествующего мимо гарема, соленый привкус ветра, хоровод примет и суеверий, горький сорх24 в чашах с наперсток, три сросшиеся клином горы из драгоценного опала, капли пота воинов в пыли тренировочных полигонов, первобытный экстаз Горидукха, корично-цитрусовый аромат шицуба в меду, первая горсть вселекаря в дрожащих от волнения серебристых руках… Все это тот лихой пилигрим Ял долгое время носил на себе, ревниво скрывая содержимое складок невидимой мантии не то что от посторонних, а даже от собственной семьи – родителей, жены и двоих сыновей.
Теперь же он был только рад укрыть ею Елуама от сонма черных мотыльков, несущего на лохмотьях иссушенных крыльев отравленную пыльцу страха. Яллир, награжденный не только сединами, но и мудростью, отчетливо выкристаллизовавшейся из остывшей смеси лихачества и амбиций, все сделал верно. Подбросил крупное полено в очаг внутреннего тепла юноши и не чувствовал ни йоты жертвенности в совершенном поступке. Да будет так! Жизнеутверждающего потрескивания этого пламени и фейерверка рассыпающихся золотых искр должно хватить на весь долгий путь до Расщелины, а если повезет, то и до окончания самой инициации. Пусть себе отвлекает растревоженные мысли Елуама. Пусть мягко, но настойчиво уводит их по хладнокровному течению логики, вовремя оттаскивает за растрепанную косу от штурвала тощую истеричную девку-плакальщицу и заменяет ее матерым морским волком.
Да разгорится этот пламень назло темной магии трех изгнанниц!
Все трое собратьев крепко уцепились за невзначай брошенные Яллиром соломинки уверенности, взяли себя в руки и вполне бодрой походкой направились к призывно поблескивающим стенам гигантского прозрачного куба. Им и впрямь стоило поторопиться, ведь их ждали. Еще в середине своей проникновенной речи старый купеческий пилигрим выхватил взглядом знакомую фигуру в длинном сером рубище напротив входа в аквариум. Яллир – спасибо выдающейся зрительной памяти! – совершенно точно знал, кому принадлежал этот скромный силуэт. И не ошибся: то и в самом деле был мастер ихтиогипноза Офлиан, который, как видно, уже все подготовил для их дальнего странствия.
Успешно решив деликатный вопрос с настроем Елуама, Яллир теперь был рад сделать небольшой перерыв. Он с радостным предвкушением вынырнул из темных вод чужого эо, готовый хлебнуть свежего кислородного раствора. Пилигрим знал: встреча со значительнейшей фигурой сферы научно-прикладных искусств Вига сможет отвлечь его от тяжких дум. Яллира, к слову, вовсе не смущало, что внешний облик Офлиана не соответствовал его высокому званию. Ни облачение, ни походка, ни мимика – ничто не выдавало истинный статус молодого вига. Последняя так и вовсе служила воплощением самой искренней юношеской расторопности – ни дать ни взять подмастерье перед наставником. Подойдя ближе и учтиво склонив голову в приветствии перед Офлианом, по возрасту годившимся ему в сыновья, Яллир в который раз подивился скромности мастера. Купеческий пилигрим будто бы немного пристыженно покосился на свои руки. Чего стоил один крупный перстень, царственно оплетавший средний палец левой руки тройным обручем белого золота, перехваченный по диагонали гравированной пластиной из черного хархского опала: она имитировала денежную единицу огненной земли!.. А браслеты-спирали, представлявшие собой собрание редких драгоценных камней Харх… Пожалуй, все это следовало бы оставить дома или, по крайней мере, на время припрятать в недрах дорожного плаща.
Яллир нервно пощелкал пальцами и, сцепив их в замок, спрятал за спину. Хотя, если подумать, с чего бы ему кого-то стесняться? Эти богатые украшения – награда за сложное, опасное ремесло, которому он посвятил жизнь. Не просто предметы роскоши, а заслуженные отличительные знаки, и носить их следует с достоинством! Старый пилигрим разжал пальцы, положил руки на пряжку ремня и перевел взгляд на Офлиана.
Мастер нисколько не изменился с их последней встречи, а ведь с тех пор прошло почитай уж семь светооборотов. Он все так же, завидев Яллира, без тени превосходства скромно склонил голову к своей худой груди и приложил к правому виску ребро распрямленной ладони – древнейший ритуал, которым магистры, мастера и искусники Вига приветствуют представителей других сословий. Развернутая к торговцу фаланга мизинца была отмечена двумя темно-синими, вертикально расположенными знаками: параллельными волнистыми линиями сверху (общий знак всех магистров факультета естественных наук) и парой пересекающихся окружностей снизу (знак мастера ихтиогипноза). На безымянном пальце красовалось свидетельство того, что Офлиан имел, помимо прочего, магистерскую степень в области тонких материй. Прямо напротив «естественно-научных» линий виднелась нательная печать в виде широко открытого глаза. Яллиру в который раз стало слегка не по себе: как бы ни расположил Офлиан свою руку, это иссиня-черное око продолжало в упор смотреть на старого купца. «Очень недипломатично», – пытался он с помощью неловкой шутки отогнать неприятный зуд между плавниками. Разумеется, не вслух.

