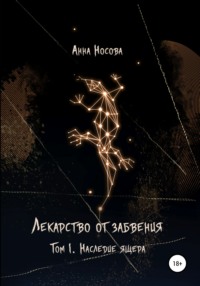
Лекарство от забвения. Том 1. Наследие Ящера
– Здравия тебе, почтенный Яллир! Светокруги летят быстрее моих скороходов-фицци в день идеальной ментальной симметрии, а ты все так же пунктуален! – стирая рукавом своего рубища капельку светло-голубой крови с запястья, непринужденно проговорил мастер.
«Видимо, кто-то из питомцев уже «поцеловал» мастера острой чешуей с утра пораньше», – промелькнула догадка в голове торговца.
– Рад, искренне рад встрече с тобой, мастер Офлиан, – поспешил он поддержать дружелюбную тональность беседы. – Еще только подходя к месту встречи с моими собратьями, я заприметил новых особей в твоем личном стеклянном Лабораториуме. Могу ли поздравить с пополнением? Прости уж мне мое просторечие; ты ведь знаешь, что я так и не осилил этот талмуд с естественно-научными терминами, который ты мне как-то вручил за мои обывательские вопросы.
На несколько секунд Офлиан напряженно замер в приветственной позе – так, словно Яллир вдруг заговорил с ним на древнехархском. Впрочем, для мастера приблизительно так оно и было. Пополнение? Он поправился? Его субтильная фигура не менялась с университетской скамьи, а регулярные пешие походы до Ученого круга и обратно, вкупе с энергозатратным уходом за своенравными созданиями фицци, только способствовали ее сохранению. Издалека Офлиан так и вовсе смахивал на студента, если не на зеленого созреванца25.
Тут эксцентричного мастера осенило. Видимо, недавняя встреча с Балоахом, главой Черторга, немного натренировала ученого в ведении светских бесед.
– Ах, да! Пополнение у Моэ и Нэлхи! – хлопнув себя по лбу, изрек он. – Да, слава искусникам, это свершилось! Теперь могу спать спокойно: пять светокругов безустанного изучения и в прямом смысле бесплодных попыток репродукции южноводных фицци в неволе не прошли даром, – затараторил Офлиан. В его синих глазах зажегся огонь подлинной страсти, который дарят успехи в любимом деле. – Ты ведь знаешь, как редки стали эти создания еще в VIII световехе, как не хотели я и часть моих коллег коверкать разум и изнашивать тела сохранившихся фицци в угоду «прогрессивной» политике Ингэ! Когда я под давлением его прихвостней из Обители согласился практиковать ихтиогипноз в якобы благих целях укрепления связи Нуа с другими городами и местностями Вига, то поклялся себе использовать все открывающиеся передо мной привилегии для повышения демографических показателей популяции фицци.
Разоткровенничавшись, мастер окончательно вышел за границы сухого академического языка и перешел к стилю, недопустимому даже для самых демократичных научно-популярных изданий. Проще говоря, он стал самим собой.
Все это время Лиммах и Елуам скромно стояли чуть поодаль, ловя каждое слово диалога двух легенд Вига. Лим уже предвкушал, как дома он с гордостью разложит перед своими скатерть-самобранку «подковровья» Университета и Обители хранителя. Этот сомнительного благозвучия термин проводник караванов изобрел сам, достигнув таким образом предела своих ономатологических26 способностей. Данная лексическая единица по понятным причинам не прижилась в высшем обществе Нуа, однако стала расхожим выражением в торгово-купеческой среде. Непритязательному Лиму этого было предостаточно. Елуам же, в свою очередь, попросту отдался во власть юношеского восторга.
– Ведаю, ведаю об этом, мой друг, – отечески закивал Яллир.
Его белесые, слегка волнистые пряди, вторя такту кивков, чуть запаздывающими движениями неторопливо колыхались в лазурной бездне Вига. Не закрывать лицо торговца им помогал плоский черный обруч с тончайшим серебристым венком арабески.
– И поверь старому пилигриму, – Яллир изобразил самый что ни на есть понимающий взгляд, – я всегда чувствовал твой неодобрительный взгляд перед тем, как ты закрывал глаза и сливался с сознанием своих питомцев. Когда мы по одному пролезали в их распахнутые глотки, ты обычно находился уже далеко отсюда, во всяком случае разумная часть тебя. И знаешь, мне ведь всякий раз думалось: «Да уж, вот мним мы себя высшими существами, щеки раздуваем, а порой ведь чистой воды варвары, ничем не лучше этих рыжеголовых дикарей… Одно утешает: Офлиан сейчас не видит, как мы набились, точно икринки, в рыбье чрево и ждем, когда зашевелятся плавники в сторону огненной земли или Расщелины».
«Ох, закручивает свои басни старый черт, – подумал Лиммах. – Не иначе как молодчик Елуам ему о былых подвигах напомнил и язык наконец-то куда надо подвесил. А то ишь растерял, разменял на спокойную старость свою торгашескую натуру: дом знай все украшает диковинами хархскими (конечно, столько добра оттуда напер, не все же Ингэ под ноги вываливать!), в Черторг ни ногой, а спросишь чего – ни гу-гу! Еще и поглядывать стал свысока. Это хорошо, что Балоах его наставником на инициацию нового купца определил. Как только он уговорил эту угрюмую, отошедшую от дел «легенду»? Ну на то он и Балоах. Известное дело – в горло тебе вгрызется, эо из тебя хлеще морского монаха высосет, а своего добьется да ни гроша не уступит. Истинно – мастер! Вот кто должен молодым купцам примером быть! Особенно тем, которые трусливо дрожат перед Расщелиной. Тьфу ты, совсем измельчали выходцы из школы прославленного Черторга! Это ж еще самый что ни есть достойный, Елуам этот; выбирали-то аж полсветооборота всей купеческой братией. Да уж, выбрали, нечего сказать! Не боялся я за него, а теперь вижу, что придется…»
Тем временем мастер одного из величайших на Вига искусств и обладатель парадоксально простосердечного эо, Офлиан, не усмотрел во внешней солидарности Яллира ни тени его прославленного дипломатического хитроумия. С родительской гордостью поглядывая на двух огромных прозрачных существ, нависших в правом нижнем углу аквариума над стайкой своих уменьшенных копий, мастер увлеченно зачастил:
– Конечно, варварство! А как еще можно назвать такой способ обращения с исчезающим видом? Сколько их вообще осталось в нашем государстве? Страшно подумать – всего три аквариума: у нас, в Лагеппе и в Инма. Все, больше ни единой особи на весь Вига.
– А как же водораздолье? – Сохраняя искреннюю заинтересованность на лице, Яллир поспешил щегольнуть островками знаний о географии миграции фицци. – Я имею в виду то из них, куда покамест не дотянулись «прогрессивные» длани Ингэ.
Все трое, включая недоумевающего Офлиана, вопросительно уставились на седого пилигрима. Его, в свою очередь, это изрядно рассердило: с каких это пор именитые представители Университета и Черторга позволяют себе такие пробелы в знаниях? Ведь сейчас он им не раскрыл ровным счетом ничего нового. В особенности маху дал, конечно, господин мастер ихтиогипноза. Ибо спроси сейчас любого созреванца-естественнонаучника – тот без запинки тебе отбарабанит, что-де «фицци южноводные на пороге фатальной депопуляции развили в себе мощный инстинкт продолжения рода и, следуя ему, совершили глобальную миграцию в Восточное водораздолье между городами Ямэ и Гифу, в то время как из южных и западных независимых вод этот вид был полностью выловлен и функционально распределен по университетским аквариумам согласно приказу хранителя Ингэ».
Между собеседниками повисла физически ощущаемая тяжелая пауза. Никто не хотел брать на себя неприятную роль гонца с дурными вестями. Даже с поправкой на то, что для довольно-таки широкого круга посвященных никакие это уже были не новости, а неосведомленность Яллира – лишь следствие его полуотшельнического образа жизни. Как и следовало ожидать, «гонцом» стал толстокожий Лиммах. Он сощурил левый глаз, потеребил дорожку черных турмалиновых колец в своем ухе и просипел:
– Морские монахи.
Яллир ничего не ответил, вопреки ожиданиям всех троих. Он продолжал стоять как вкопанный, переводя взгляд с одной фигуры на другую. Он будто бы ждал, что ну вот сейчас… сейчас кто-нибудь первый сломается, не выдержит и засмеется в голос. Да так заразительно, что и остальные без промедления подхватят. А уж потом и он, провалившись в мягкий пух перины облегчения, непременно поддержит их своим искренним хохотом. А пока заслуженный пилигрим определенно не намерен демонстрировать, что поверил легендам этого сатирического ансамбля. Притихли-то как! Ох и потеря для факультета художественного мастерства! Какие таланты, оказывается, прозябают в стенах Черторга и Университета! Да, именно так он бы потом им и сказал. Думают, его так легко провести? Не дождутся!
Часовик отмерил своими цветными счетами еще одну минуту затянувшегося молчания, ставшего откровенно неловким.
Никто так и не засмеялся.
Лиммах прикусил язык и исподлобья взирал на эффект, вызванный словосочетанием, только что растревожившим безмятежную утреннюю лазурь окраины Нуа.
Морские монахи.
«Нет, – продолжал мысленно сопротивляться Яллир, – это не более чем издержки фантазии театральных драматургов Нуа, объединенных склонностью к мистификации и жаждущих освежить классику жанра противоестественными образами из своих дурных снов. Или, что более вероятно, плод порочной связи событийного вакуума столицы и темного фольклора, дотянувшегося сюда своим нечистым языком из самой глухомани Вига. Он, видимо, преодолел высокий барьер образования, науки, культа знаний, отрицания иррациональных материй и каким-то непостижимым образом заполз в эо жителей Нуа, чтобы постепенно отравлять восемь жидкостей их внутренних сосудов. Дожили. Браво, Университет! Низкий поклон тебе, Черторг! Вот уж правда стоило впервые за долгое время покинуть родной дом, чтобы воочию узреть, как этот язык обвил интеллектуальный и торговый цвет Нуа. Как с ними дальше работать – ума не приложу: совсем ведь спятили! С огненной земли, что ли, сюда суеверий и портовых трактирных баек недобрым течением занесло?» Набегая одна на другую, волны гнева шипели, путая обычно размеренные мысли Яллира.
Общее ритуальное молчание было громче дружного хора разъяснений и доказательств.
Верить этому молчанию или нет, Яллир пока не знал. Что бы там ни происходило за пределами его домашнего очага, он определенно был не тем вига, который в порыве бездумного энтузиазма импульсивно хватается за брошенный ему канат, туго сплетенный из материалов неизвестной природы. Что, если его пеньковые волокна пропитаны не смолой, а ядом? Долгая, насыщенная событиями жизнь дала Яллиру ценный урок: не устремлять свое эо в темные воды, особенно по воле других. У тех других, вполне может статься, на обратной стороне языка пришиты собственные мотивы, личная заинтересованность в выдаче тебе проклятых координат. Когда бросишь якорь в мрачную бездну этих вод, поддавшись чужому влиянию, – поздно будет осмыслять, да и жалеть о чем-либо. Поминай как звали! Если бы он, Яллир, не соблюдал свой собственный завет, возможно, не развевались бы сейчас волны его волос здесь, в мире живых… Вполне вероятно, что они уже давно были бы рассеяны жестоким суховеем по выгоревшей земле одного из хархских Пепелищ.
«Нет, по всему выходит, что призвание не торопится отпускать меня на покой. Не желает, чтобы я нашел умиротворение и утешение за жемчужными плитами своего дома. И никак не хочет принять обратно мою мантию с секретами огненной земли, чтобы передать ее новому поколению торговых пилигримов», – рассуждал про себя Яллир, всеми силами пытаясь стряхнуть липкие обрывки «фольклорных» историй, долетевших теперь и до его ушей из забытого искусниками подводного захолустья.
«Вот он, новый вызов. И теперь моя обязанность в другом. Нынче она не в том, чтобы любой ценой доставить на Вига необходимые товары. На сей раз задача моя гораздо сложнее. Я должен, обязан любой ценой защищать себя, свое эо, свой пока еще не замутненный разум от плодов извращенного воображения провинциальных бездельников! Это вовсе не удивительно, что те, кто оставил пустыми седьмой и восьмой фрагменты своего сосуда и бросил свое призвание на произвол судьбы, теперь заполняют их чем попало. Кто пестованием своих пороков, кто распущенностью бескостного языка, а кто и чудовищными образами, являющимися им в сгустках переработанного лихриана27. Да так оно и есть, чтоб меня! Вот что значит вернуться в русло логики! Вот чему я должен обучить Елуама, пока остальные отдают дань новой моде воскрешения фольклорных рудиментов! Пусть делают что хотят, а я не для того всю свою жизнь – и в минуты внутреннего штиля, и на гребне искушений – как заправский эквилибрист, удерживал баланс своего эо, чтобы сейчас бездарно расплескать его! Не дождутся!»
Отбросив призраков из глухоманей Вига на безопасное для своего разума расстояние, Яллир снова взял себя в руки.
– Юмор, однако, у вас, друзья… – с напускной небрежностью проговорил он. – Друг на друге в столичных кругах, небось, уже давно эту хохму опробовали, а теперь вот она и до меня добралась. Остро, остро… Признаться, я чуть было в нее не поверил. Но все же, друзья, – окончательно вернувшись к своей назидательной интонации, купец легонько пригрозил пальцем собеседникам, – будьте осторожней с подобными шутками. Не мне вам рассказывать, как в Обители относятся к заигрыванию с мифами и перевиранию древних преданий. Да и оказаться заподозренными в следах лихриана на плавниках – а откуда еще взяться подобным бредням? – я бы вам тоже не желал.
Елуам, Офлиан и Лиммах, словно связанные круговой порукой заговора, все так же стояли тремя окаменевшими безъязыкими фигурами. Каждый из них по-своему жалел о необдуманном словосочетании, слетевшем с губ Лиммаха. Больше всех жалел сам виновник нежданной смуты: проводник караванов крепко отругал себя за врожденную несдержанность, которая чуть было не рассорила их с консервативным Яллиром – закоренелым противником любых «варварских верований». Достаточно одного взгляда на старого пилигрима, чтобы раз и навсегда это уразуметь. Еле сдерживаемый праведный гнев на его лице, раздраженное передергивание плечами, менторский тон – все это указывало на глубокое отвращение старика к «россказням» и «небылицам». В особенности к тем из них, что подразумевали проникновение в воды Вига. Хватит с Яллира и Расщелины – этого «уродливого, но одновременно необходимого шрама на благородном теле нашего государства», как говорил о ней седой торговец.
«Этот шрам истязает Вига смрадом своего черного гноя, но нельзя отрицать, что это справедливая цена за возможность следовать нашему призванию», – обязательно добавил бы кто-нибудь из купеческих пилигримов старой закалки.
«И как ты, старина Ял, не кривись, а все же в эту цену включены еще и тысячи жизней вига, спасенных вселекарем», – напомнил бы ему еще кто-нибудь из собратьев. И, пожалуй, на этом бы не остановился: «А скажи на милость, это иноземное лекарство попало бы в наши воды, коли бы не этот самый «шрам»? Ну да, да, косвенно. Разумеется, косвенно! Какой же ты иногда сноб и зануда! Никто здесь не умаляет твоих караванных подвигов, красноречия и легендарной дипломатии; тебе чуть ли не сам Ингэ в ноги кланяется, о великий доставщик вселекаря! Но ты бы все же не забывал, откуда растут корни этих твоих подвигов. Мудрость, которую ты так превозносишь над прочими качествами, – это синоним целостности как жидкостей эо, так и оценки происходящего. А в твоей картине позорной прорехой зияет пресловутая Расщелина, которую ты, дружище, видишь только одним глазом, а раскрыть второй упрямо не желаешь. Удивительное ты создание!»
Оборвавшийся на «монахах» светский диалог Яллира и Офлиана безнадежно разошелся по швам. А вместе с ним испортился и внутренний настрой, который старый торговец мастерски наладил в себе перед встречей с собратьями. Результат кропотливой духовной работы разбился вдребезги о противоестественные призрачные видения, которые якобы рвутся материализоваться в подводной цитадели разума и логики.
Нервно порывшись в карманах мантии, Яллир резким движением извлек крошечную колбу с часовиком. О великие искусники! Ее прозрачные грани уже переливались зеленым цветом. И вовсе не тем неуверенным оттенком, свойственным молодому первотравью, а насыщенной глубиной изумруда. Прекрасно – еще и задержка с отправкой! По расчетам Яллира, их купеческий отряд должен был уже вовсю держать курс на границу миров, подпирая бока друг друга в эластичном желудке фицци. Ну вот, они еще и опаздывают. Неизвестно теперь, как встретят их там. Может, конечно, гурилии их и не ждут вовсе. А если ждут?
Все определенно пошло не по плану, скрупулезно вычерченному в уме бывалого пилигрима. И если схемы этого плана и содержали в себе ряд погрешностей и допущений, то подобная непунктуальность в них уж точно не значилась. «До чего же банально!» – злился на себя и всех вокруг Яллир. Обыденная издержка общей безответственности – «извечного проклятия любых коллективных деяний», как еще во времена лихой молодости окрестил он ее про себя. Потому и любил уединенные вояжи на огненную землю в компании, ограниченной проводником караванов и встречными рыбьими стаями. Тем паче что такой расклад исключал необходимость делить потом с кем-либо пьянящий нектар почестей. Беря на себя все риски и всю ответственность, Ял по возвращении на Вига до одури упивался славой. Вопреки предостережениям и увещеваниям Черторга.
А может, даже и назло.
Что ни говори, а это действительно было счастливое время. И, увы, оно безвозвратно ушло, прихватив с собой былые победы и наслаждения. Теперь же все – абсолютно все! – шло не так: и пустые никчемные глухоманные сплетни, и этот защитник бедных исчезающих фицци (или кораблеплавов, как втайне от Офлиана зовут их в Черторге). И, наконец… хотя нет, это, пожалуй, самое главное: неслыханное в торгово-караванной практике Яллира нарушение его личного фирменного этикета: они опаздывают!
Не успев покинуть окраину Нуа, не успев забраться в фицци, они уже опаздывают!
Седой купец старательно скрывал склонность верить в приметы, которая при всей своей противоречивости прекрасно соседствовала в его эо со здравомыслием и рациональностью. Яллир глубоко вздохнул: опоздать еще до начала пути всегда было дурным знаком – проверенным на опыте, доказанным многочисленными примерами.
Еще один тяжкий вздох, последний горький взгляд в сторону теперь уже ярко подсвеченных дневными лучами очертаний родного города. И вот он – первый шаг Яллира в сторону прозрачных стен аквариума, где уже готовится к дальней дороге устрашающе огромная фицци.
Ее зовут Ахха. И в ее круглых бордовых глазах будто бы тоже застыл ужас – глубокий и непостижимый.
Глава 8 Огненный корабль
Силуэты принца Бадирта и жрицы Йанги растворились в проеме высоких каменных арок, слившись с полумраком Святилища. Массивные створки дверей очень медленно, словно блюдя предписанную торжественность, сошлись, чтобы отделить мир сакрального от греховной сферы мирских страстей. Окайра не спешила покидать некогда горделиво поблескивающую сусальным золотом, а теперь начисто протертую хитонами брусчатку входа в храм Огненного бога.
Королеве было мучительно больно в который раз отпускать руку своего сына именно в тот момент, когда он вот-вот был готов снова стать ее. Ведь юный Бадирт – королева могла поклясться! – уже хотел опуститься перед ней на колени и в незамысловатой детской исповеди вручить ей ключ от секретных каморок своей души. Вот и сейчас в по-прежнему раскрытой ладони Окайры еще хранилось тепло сыновьей руки, но ее обостренное материнское восприятие уже улавливало малейшие движения воздуха, беззастенчиво расхищавшие это бесценное сокровище.
Ничего удивительного в том, что разгоревшееся с новой силой беспокойство королевы заставляло ее раздражаться даже на ветер – «эхо благого дыхания Огненного бога». Осталось лишь добавить щедрую порцию самобичевания за такие кощунственные мысли в котел закипающих эмоций. Как следует перемешать. Приправить щепоткой жгучей ревности к верховной жрице. И на поверхности этого кипящего варева проступят перекошенные черты королевы, от которых с отвращением отпрянет она сама.
Затуманенный взгляд Окайры, уже потерявший фигуры Бадирта и Йанги, неподвижно застыл на филигранном барельефе воссоединенных дверей-близнецов, что пару мгновений назад закрылись за ними. Эти превосходные образцы художественного литья обычно не только эстетически восхищали монархиню, но и вызывали в ней благоговейный трепет. Поднимаясь по широким ступеням к Святилищу, она, по обыкновению, еще издалека силилась разглядеть исполинское звездное тело, покоящееся на самом верху громадных дверных створок. Его выпуклое изображение, искусно покрытое красным золотом и узорами из цитриновой пудры, было симметрично впаяно в гладкий иссиня-черный мрамор храмовых дверей. В зависимости от угла падения лучей сияло оно всегда по-разному: то грозно и воинственно, то умиротворенно и безмятежно. В любом случае Окайра всегда чувствовала – нет, она знала, – что рукотворная Матерь звезд приветствует ее и показывает, что готова озарять своим священным светом духовный путь королевы.
Теперь же Окайре казалось, что светило, к которому она изо дня в день безустанно устремляла тонкие энергии своих молитв, отвернулось от своей смиренной подданной. Багряные отблески красного золота, отмечающие место встречи величественного изваяния с лучами настоящей Матери звезд, вдруг изменились. Греющие душу язычки пламени уступили место равнодушным кровавым всполохам. Как неотвратимость предзнаменования. Как заходящий с почерневшего морского горизонта зловещий вихрь смерча. Как дьявольский сухой скрежет Скарабея по небесному своду.
Соединенные половинки металлической Матери звезд на дверных створках и взметнувшиеся алебарды воинов личной армии верховной жрицы, казалось, непоправимо разделили мать и сына.
Окайру предал даже ветер. В этот раз «благое дыхание» не дотянулось до входа в храм, хотя его норовистые игры нередко разрежали клубы жреческих благовоний. Ветер замер, словно затаил обиду – так же как и Бадирт. По левому виску Окайры пробежала ледяная капля пота, а по тонкой змейке пересохших губ – мелкая нервическая дрожь. Лицо королевы потеряло одухотворенность, проступили мимические свидетельства страдания и беспомощности.
Бронзовая Матерь звезд – вещественный образ ее безусловной веры – с обжигающей жестокостью и ядовитым презрением смотрит прямо в слезящиеся глаза Окайры.
Мир заволокло серыми клочьями слепой, подрагивающей пелены, даже ярость и отчаяние притупились, обточенные ее колыханием. Эти волны заволокли кипенно-белой пеной даже металлическое кровавое мерцание Матери звезд. Они растворили в себе и овальные купола Святилища.
Окайре стало дурно, она с тихим стоном медленно сползла по шершавой храмовой колонне на нагретые плиты с полинялой от времени позолотой.
Этого не видели и не слышали королевские стражники, которым в преддверии важного разговора было строго приказано «сохранять расстояние в пятнадцать шагов и держаться за пределами внутреннего двора Святилища».
Начальник стражи замка-горы Рубб хоть накануне и отметил некую эксцентричность требования обычно скромной Окайры, но все же не нашел веских доводов для возражения. «В любом случае храмовые стены – едва ли не самое безопасное место на всем Харх, – мысленно рассудил он. – Пусть себе общаются без посторонних глаз и ушей. Все-таки Бадирт входит в интересный возраст… А Святилище – вполне подходящее место для духовно-воспитательных бесед. Своих-то солдат уж я сам как-нибудь воспитаю, а здесь мать и сын – совсем другое дело. Нужно понимать. Да и когда я отказывал нашей святой королеве, которая денно и нощно молится о грешных душах своих подданных?»
Именно поэтому четверо стражников, сопровождавших Окайру, со всей ответственностью продолжали выполнять приказ Рубба, выдерживая указанную дистанцию. Дистанцию, которой, разумеется, оказалось достаточно, чтобы сквозь их шлемы не просочился ее тихий стон. Стражники горделиво сохраняли свою помпезную стойку за воротами Святилища, любуясь живописным морским пейзажем и мечтая каждый о своем.
А вот воины в черных доспехах, отмеченных нагрудными золотыми треугольниками, воины, что грозно возвышались напротив храмовых дверей, не были королевскими стражниками. Они не относились ни к одной из многочисленных воинских частей острова Харх.
Сквозь узкие прорези забрал они прекрасно видели, что случилось с подлинной королевой, законной женой короля Каффа. Долетел до их ушей и приглушенный страдальческий вздох.
Ни один страж не пошевелился.
Бадирт пребывал в прекрасном расположении духа. Во всяком случае, с того самого момента, как, пересчитывая фигурки на цитриновой чаше во время беседы с матерью, услышал за спиной знакомый голос. В его хрипловатых вибрациях принц уловил целую симфонию значений и смыслов. Он уверенно выхватил из ее ритмического рисунка важные для себя ноты: сдержанное жрицей слово об их уединенной встрече, особое к нему, Бадирту, отношение и, конечно, почтение к его королевской особе. А самое главное – в этой музыке отчетливо слышалось обещание избавить принца от скучных и утомительных бесед с матушкой.
Определенно никакой иной голос – скажем, Убраха, строгого наставника в боевых искусствах, или Шиффи, старой няни принца, или даже звучный бас Каффа – не заключал подобной силы. Заслышав любой из них, королева уж точно не прервала бы свою родительскую проповедь.

