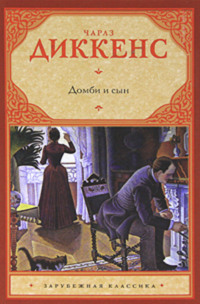
Домби и сын
Вряд ли нужно упоминать о том, что ни один намек на это качество никогда не доходил до сведения величественного мистера Домби. Было бы поистине замечательно, если бы случилось иначе, поскольку никто в доме – не исключая миссис Чик и мисс Токс – не осмеливался даже шепнуть ему по какому бы то ни было поводу, что есть хоть малейшее основание для беспокойства о маленьком Поле. Он решил про себя, что ребенок неизбежно должен, по заведенному порядку, перенести некоторые легкие болезни, и чем скорее, тем лучше. Если бы он мог его выкупить или найти заместителя, как находят такового для вынувшего несчастливый ополченский жребий, он сделал бы это с радостью и не скупясь. Но так как это было неосуществимо, он лишь изредка недоумевал со свойственным ему высокомерием, что, в сущности, хочет этим сказать Природа; и утешался мыслью, что еще одна придорожная веха осталась позади и великая цель путешествия значительно приблизилась. Ибо преобладавшим у него чувством, все время усиливавшимся по мере того, как подрастал Поль, было нетерпение. Нетерпеливое ожидание момента, когда мечта его об их объединенном влиянии и величии осуществится с триумфом.
Некоторые философы говорят, что эгоизм лежит в основе самой горячей нашей любви и привязанностей. Сынишка мистера Домби с самого начала имел такое значение для него, – как часть его собственного величия или (что то же самое) величия Домби и Сына, – что несомненно можно было без труда проникнуть до самых глубин фундамента, на котором зиждилась его родительская любовь, как можно проникнуть до фундамента многих красивых построек, пользующихся доброй славой. Тем не менее он любил сына, насколько вообще способен был любить. Если был теплый уголок в его холодном сердце, то этот уголок был занят сыном; если на твердой его поверхности можно было запечатлеть чей-то образ, то на ней был запечатлен образ сына; но не столько образ младенца или мальчика, сколько взрослого человека – «Сына» фирмы. Поэтому ему не терпелось приблизить будущее и побыстрее миновать промежуточные стадии его роста. Поэтому о них он беспокоился мало или же вовсе не беспокоился, несмотря на свою любовь; он чувствовал, что мальчик как бы живет зачарованной жизнью и должен стать мужчиной, с которым он мысленно поддерживал постоянное общение и для которого ежедневно строил планы и проекты, словно тот уже существовал реально.
Так Поль приблизился к шестому году жизни. Он был хорошенький мальчуган, хотя в его личике было нечто болезненное и напряженное, что побуждало миссис Уикем многозначительно покачивать головой и вызывало у миссис Уикем много протяжных вздохов. Были все основания предполагать, что в последующей жизни характер у него будет властный; и он в такой мере предчувствовал свое собственное значение и право на подчинение ему всего и всех, как только можно было пожелать. Порой он бывал ребячлив, не прочь поиграть и вообще угрюмостью не отличался; но была у него странная привычка сидеть иногда в своем детском креслице и сосредоточенно раздумывать; в эти моменты он становился похож (и начинал изъясняться соответственно) на одно из тех ужасных маленьких созданий в сказке, которые в возрасте ста пятидесяти или двухсот лет разыгрывают странную роль подмененных ими детей. Эта несвойственная ребенку задумчивость часто посещала его наверху в детской; иногда он впадал в нее внезапно, объявляя, что устал, – даже когда резвился с Флоренс или играл в лошадки с мисс Токс. Но никогда не погружался он в нее с такою неизбежностью, как в то время, когда его креслице переносили в комнату отца и он сидел там с ним после обеда у камина. Это была самая странная пара, какую когда-либо освещало пламя камина. Мистер Домби, такой прямой и торжественный, глядит на огонь; его маленькая копия со старческим, старческим лицом, всматривается в красные дали с напряженным и сосредоточенным вниманием мудреца. Мистер Домби занят сложными мирскими планами и проектами; маленькая копия занята бог весть какими сумасбродными фантазиями, неоформившимися мыслями и неясными соображениями. Мистер Домби одеревенел от крахмала и высокомерия; маленькая копия – в силу наследственности и вследствие бессознательного подражания. Один является подобием другого, и тем не менее они чудовищно непохожи.
Однажды, когда они оба долго сидели в глубокой тишине и мистер Домби знал, что ребенок не спит только потому, что изредка смотрел ему в глаза, где яркий огонь сверкал, как драгоценный камень, маленький Поль нарушил молчание:
– Папа, что такое деньги?
Неожиданный вопрос имел такое непосредственное отношение к мыслям мистера Домби, что мистер Домби пришел в полное замешательство.
– Что такое деньги, Поль? – повторил он. – Деньги?
– Да, – сказал ребенок, опуская руки на подлокотники своего креслица и поворачивая старческое лицо к мистеру Домби, – что такое деньги?
Мистер Домби был в затруднении. Он не прочь был дать сыну какое-нибудь объяснение, включающее такие термины, как средство обмена, валюта, обесценивание валюты, ценные бумаги, золотое обеспечение, биржевые цены, рыночная цена драгоценных металлов и так далее, но, взглянув вниз на маленькое креслице и увидев, как до него далеко, он ответил:
– Золото, серебро, медь. Гинеи, шиллинги, полупенсы. Ты знаешь, что это такое?
– О да, я знаю, что это такое, – сказал Поль. – Я не об этом спрашиваю. Я спрашиваю: что такое сами деньги?
О, небеса, каким старым было его лицо, когда он снова поднял его к отцу!
– Что такое сами деньги? – повторил мистер Домби, в изумлении отодвигая стул, чтобы лучше разглядеть самонадеянный атом, предложивший такой вопрос.
– Я спрашиваю, папа: что они могут сделать? – продолжал Поль, скрестив на груди руки (для этого они были едва ли достаточно длинны) и переводя взгляд с огня на отца, и снова на огонь, и снова на отца.
Мистер Домби подвинул стул на прежнее место и погладил его по голове.
– Скоро ты это будешь лучше знать, мой мальчик, – сказал он. – Деньги, Поль, могут сделать что угодно. – С этими словами он взял маленькую ручку и тихонько похлопал ею по своей руке.
Но Поль постарался как можно скорее освободить руку и, слегка потирая ею подлокотник кресла, словно ум его находился в ладони, а он его оттачивал, и снова глядя на огонь, как будто огонь был его советчиком и суфлером, повторил после короткой паузы:
– Что угодно, папа?
– Да. Что угодно. Почти, – сказал мистер Домби.
– Что угодно – значит, все? Да, папа? – спросил сын, не замечая или, быть может, не понимая сделанной оговорки.
– Это одно и то же. Да, – сказал мистер Домби.
– Почему деньги не спасли мою маму? – возразил ребенок. – Они жестокие, правда?
– Жестокие? – повторил мистер Домби, поправляя галстук и как бы обиженный этой мыслью. – Нет. Хорошее не может быть жестоким.
– Если они хорошие и могут делать что угодно, – задумчиво сказал мальчуган, глядя на огонь, – я не понимаю, почему они не спасли мою маму.
Сейчас он не обращался с вопросом к отцу. Быть может, с детской проницательностью он понял, что его вопрос уже привел отца в смущение. Но он вслух повторил свою мысль, словно для него она была совсем не новой и очень беспокоила его; и он сидел, подперев подбородок рукой, по-прежнему размышляя и отыскивая объяснение в камине.
Мистер Домби, оправившись от изумленья, чтобы не сказать тревоги (ибо это был первый случай, когда ребенок заговорил с ним о матери, хотя точно так же сидел возле него каждый вечер), подробно разъяснил ему, что деньги – весьма могущественный дух, которым никогда и ни при каких обстоятельствах пренебрегать не следует, однако они не могут сохранить жизнь тем, кому пришло время умереть; и что мы все, даже в Сити, должны, к несчастью, умереть, как бы мы ни были богаты; он разъяснил, каким образом деньги являются причиной того, что нас почитают, боятся, уважают, заискивают перед нами и восхищаются нами, как они делают нас влиятельными и великими в глазах всех людей и как они могут очень часто отдалять даже смерть на долгое время. Как, например, они обеспечили его маме услуги мистера Пилкинса, коими часто пользовался и он, Поль, а также великого док тора Паркера Пепса, которого он никогда не видел. И как они могут сделать все, что только может быть сделано. Все это и еще кое-что в таком же духе мистер Домби внушал своему сыну, который слушал внимательно и как будто понимал большую часть того, что ему говорили.
– Но они не могут сделать меня сильным и совсем здоровым, верно, папа? – спросил Поль после недолгого молчания, потирая ручонки.
– Ты и так силен и совсем здоров, – возразил мистер Домби. – Не правда ли?
О, какое старческое лицо снова обратилось к нему, выражая и печаль и лукавство!
– Ты такой же сильный и здоровый, какими обычно бывают малыши, а? – продолжал мистер Домби.
– Флоренс старше меня, но я не такой сильный и здоровый, как Флоренс, я это знаю, – отвечал ребенок. – И я думаю, что, когда Флоренс была такой, как я, она могла играть гораздо дольше не уставая. Иногда я так устаю, – сказал маленький Поль, грея руки и глядя сквозь прутья каминной решетки, словно какой-то призрачный театр марионеток давал там представление, – и кости у меня болят (Уикем говорит – это болят кости), и я не знаю, что делать.
– Да, но это бывает по вечерам, – сказал мистер Домби, придвигая свое кресло к креслицу сына и ласково кладя руку ему на спину. – Малыши должны к вечеру уставать, тогда они лучше спят.
– О, это бывает не вечером, папа, – возразил ребенок, – это бывает днем; и я ложусь на колени к Флоренс, а она мне поет. Ночью мне снятся такие стра-а-ан-ные вещи!
И снова он стал греть руки и размышлять об этих вещах, точно старик или юный гном.
Мистер Домби был так изумлен, так встревожен и так растерян, не зная, как продолжать разговор, что мог только сидеть, глядя при свете камина на своего мальчика и не отнимая руки от его спины, как будто ее удерживало какое-то магнитное притяжение. Потом он протянул другую руку и на секунду повернул к себе задумчивое личико сына. Но оно снова обратилось к камину, как только он его освободил, и не отрывалось от колеблющегося пламени, покуда не пришла нянька укладывать мальчика спать.
– Я хочу, чтобы за мной пришла Флоренс, – сказал Поль.
– Вы не хотите идти со своей бедной няней Уикем, мистер Поль? – с большим пафосом осведомилась она.
– Не хочу, – ответил Поль, снова располагаясь в своем креслице, как хозяин дома.
Благословляя его невинность, миссис Уикем удалилась, и вскоре вместо нее вошла Флоренс. Ребенок тотчас вскочил с живостью и готовностью и, желая отцу спокойной ночи, поднял к нему такое повеселевшее, такое помолодевшее и такое совсем детское лицо, что мистер Домби, хотя и успокоенный этим превращением, был крайне озадачен.
Когда они вместе вышли из комнаты, ему послышалось тихое пение; и, вспомнив, как Поль говорил, что сестра поет ему, он полюбопытствовал открыть дверь, чтобы послушать и посмотреть им вслед. Она медленно поднималась по большой широкой лестнице, держа его на руках; голова его лежала у нее на плече, одна рука небрежно обвилась вокруг ее шеи. Так поднимались они – медленно, медленно; она все время пела, и иногда Поль мурлыкал, тихонько ей подпевая. Мистер Домби смотрел им вслед, пока они не поднялись на верхнюю площадку лестницы, – впрочем, не раз останавливаясь отдохнуть, – и не скрылись из виду; но и тогда он продолжал стоять и смотреть, пока бледные лучи луны, меланхолически мерцавшей сквозь тусклое окно в потолке, не прогнали его обратно, в его комнату.
На следующий день миссис Чик и мисс Токс были приглашены к обеду на совет; когда убрали со стола, мистер Домби открыл заседание, потребовав, чтобы ему сообщили без смягчения и умолчания, все ли благополучно с Полем и что говорит о нем мистер Пилкинс.
– Ребенок, – заметил мистер Домби, – не так крепок, как мне бы хотелось.
– Со свойственной вам удивительной наблюдательностью, дорогой мой Поль, – отвечала миссис Чик, – вы сразу попали в точку. Наш любимец, пожалуй, не так крепок, как нам бы хотелось. Дело в том, что его дух не по силам ему. Душа его слишком велика для своей оболочки. Ах, как рассуждает этот прелестный ребенок! – продолжала миссис Чик, покачивая головой. – Никто бы этому не поверил. Вот, например, вчера, Лукреция, замечания его на тему о похоронах…
– Боюсь, – сказал мистер Домби, сердито перебивая ее, – что кто-то из этих особ там, наверху, говорит с ребенком на неподобающие темы. Вчера вечером он заговорил со мной о своих… о своих костях, – сказал мистер Домби, с раздражением подчеркивая это слово. – Кому какое дело до… до костей моего сына? Полагаю, он не какой-нибудь живой скелет.
– Отнюдь нет, – сказала миссис Чик с неописуемым выражением.
– Надеюсь, – отозвался ее брат. – Затем – похороны! Кто говорит ребенку о похоронах? Полагаю, мы – не гробовщики, не наемные немые плакальщики, не могильщики?
– Отнюдь нет, – вставила миссис Чик с тем же многозначительным выражением.
– Так кто же вбивает ему в голову такие мысли? – спросил мистер Домби. – Право же, вчера вечером я был крайне опечален и возмущен. Кто вбивает ему в голову такие мысли, Луиза?
– Дорогой мой Поль, – сказала миссис Чик, помолчав секунду, – не имеет смысла производить расследование. Скажу вам откровенно: я не думаю, чтобы Уикем была особой, отличающейся веселым нравом, которую можно было бы назвать…
– Дочерью Мома[18], – тихонько подсказала мисс Токс.
– Вот именно, – сказала миссис Чик, – но она очень внимательна, услужлива и вовсе не самонадеянна; право же, я никогда еще не встречала такой сговорчивой женщины. Если милый ребенок, – продолжала миссис Чик таким тоном, словно подводила итог тому, о чем предварительно уже говорилось, хотя все это она высказывала впервые, – немножко ослаблен этим последним приступом болезни и отличается не таким завидным здоровьем, как было бы нам желательно, и если организм его временно ослабел и иногда ему трудно пользоваться своими…
Миссис Чик побоялась сказать «членами» после недавнего выпада мистера Домби против костей и посему ждала помощи от мисс Токс, которая, оставаясь верной своим обязанностям, подсказала: «конечностями».
– Конечностями! – повторил мистер Домби.
– Кажется, уважаемый врач упомянул сегодня утром о ногах, не так ли, дорогая моя Луиза? – сказала мисс Токс.
– Ну, конечно, упомянул, моя милая, – отвечала миссис Чик с кроткой укоризной. – Зачем вы меня об этом спрашиваете? Вы сами слышали. Итак, я говорю, что если бы наш милый Поль временно потерял способность пользоваться ногами, то это заболевание свойственно многим детям в его возрасте и его нельзя предотвратить никакими заботами и уходом. Чем скорее вы это поймете и с этим согласитесь, Поль, тем лучше.
– Разумеется, вы должны знать, Луиза, – сказал мистер Домби, – что я не подвергаю сомнению вашу родственную привязанность и вполне понятную заботу о будущем главе моей фирмы. Мистер Пилкинс, полагаю, осматривал сегодня утром Поля? – спросил мистер Домби.
– Да, осматривал, – отвечала сестра. – Мисс Токс и я присутствовали. Мисс Токс и я всегда присутствуем. Мы считаем это совершенно необходимым. Мистер Пилкинс осматривал его несколько дней тому назад, и я его считаю очень умным человеком. Он говорит: «Это пустяки!» Я могу подтвердить его слова, если это имеет значение, а сегодня он посоветовал морской воздух. Очень разумно, Поль, в этом я убеждена.
– Морской воздух, – повторил мистер Домби, глядя на сестру.
– Никакого основания для беспокойства, – сказала миссис Чик. – Моим Джорджу и Фредерику обоим прописывали морской воздух, когда они были приблизительно в таком же возрасте; и мне самой его прописывали великое множество раз. Я совершенно согласна с вами, Поль, что, быть может, там, наверху, неосторожно заговаривают при нем о таких вещах, о которых его маленькой головке лучше не задумываться; но, право же, я не знаю, как этому помочь, когда имеешь дело с таким сообразительным ребенком. Будь он обыкновенный ребенок, это не имело бы никакого значения. Кажется, я должна сказать вместе с мисс Токс, что временная перемена места, воздух Брайтона и физическое и духовное воспитание, порученное такой благоразумной особе, как, например, миссис Пипчин…
– Кто такая миссис Пипчин, Луиза? – спросил мистер Домби, испуганный этим упоминанием имени, которого он никогда еще не слыхал.
– Миссис Пипчин, дорогой мой Поль, – отвечала сестра, – пожилая леди, – мисс Токс знает историю всей ее жизни, – которая с некоторого времени посвятила с большим успехом всю свою душевную энергию изучению малюток и уходу за ними и у которой прекрасные связи. Муж ее умер от разрыва сердца при… Как вы сказали, милая моя, при каких обстоятельствах ее муж умер от разрыва сердца? Я забыла точные данные.
– При выкачивании воды из Перуанских копей, – отозвалась мисс Токс.
– Конечно, сам он не занимался выкачиванием, – сказала миссис Чик, взглянув на брата, и действительно, это объяснение было необходимо, ибо мисс Токс высказалась о покойном мистере Пипчине так, словно он умер у ручки насоса, – а вложил деньги в предприятие, которое обанкротилось. Я считаю, что миссис Пипчин поистине изумительно обращается с детьми. Я слышала, как ее хвалили в избранном кругу еще в те времена, когда я была… ах, Боже мой, какого же роста? – Взгляд миссис Чик блуждал по книжному шкафу и бюсту мистера Питта, находившемуся на высоте примерно десяти футов от пола.
– Быть может, дорогой мой сэр, – заметила мисс Токс, залившись румянцем, – поскольку на меня столь определенно ссылаются, я обязана сказать о миссис Пипчин, что похвала, с которой отозвалась о ней ваша милая сестра, вполне заслуженна. Многие леди и джентльмены, ныне ставшие важными членами общества, были поручены ее заботам. Смиренная особа, которая сейчас беседует с вами, некогда находилась на ее попечении. Думаю, что даже знатная молодежь знакома с ее заведением.
– Насколько я понимаю, эта почтенная особа руководит учебным заведением, мисс Токс? – снисходительно осведомился мистер Домби.
– Ах, не знаю, – ответила та, – вправе ли я употребить такое название. Это отнюдь не приготовительная школа. Быть может, я верно выражу свою мысль, – с особой слащавостью продолжала мисс Токс, – если назову это детским пансионом для особо избранных.
– Отбор чрезвычайно строгий и тщательный, – добавила миссис Чик, бросив взгляд на брата.
– О, исключительно! – сказала мисс Токс.
Все это имело значение. Хорошо было, что муж миссис Пипчин умер от разрыва сердца из-за Перуанских копей. Это говорило о богатстве. Вдобавок мистер Домби готов был впасть в отчаяние при мысли о том, что Поль остается здесь хотя бы еще на один час после того, как врач посоветовал его увезти. Это была остановка и задержка в пути, который ребенку предстояло, в лучшем случае, медленно пройти, прежде чем будет достигнута цель. Рекомендация, данная миссис Пипчин его сестрой и мисс Токс, имела для него большой вес, ибо он знал, что они ревниво относятся ко всякому вмешательству в их обязанности, и ни на секунду не допускал мысли, что, быть может, они стремятся разделить ответственность, о которой он, как было только что показано, имел свое установившееся мнение. Умер от разрыва сердца из-за Перуанских копей, размышлял мистер Домби. Что ж, весьма респектабельная смерть.
– Если мы решим, наведя завтра справки, отправить Поля в Брайтон к этой леди, кто поехал бы с ним? – подумав, спросил мистер Домби.
– В настоящее время вряд ли можно послать ребенка куда бы то ни было без Флоренс, дорогой мой Поль, – нерешительно ответила сестра. – Он просто без ума от нее. Он, конечно, очень мал, и у него свои причуды.
Мистер Домби отвернулся, медленно подошел к книжному шкафу и, открыв его, достал книгу.
– Еще кто-нибудь, Луиза? – спросил он, не поднимая глаз и перелистывая книгу.
– Конечно, Уикем. Я бы сказала, что одной Уикем вполне достаточно, – ответила сестра. – Если Поль попадет к такой особе, как миссис Пипчин, вряд ли нужно посылать кого-то, кто бы за нею наблюдал. Конечно, вы сами будете ездить туда по крайней мере раз в неделю.
– Разумеется, – сказал мистер Домби и затем в течение часа сидел, глядя на одну и ту же страницу и не прочтя ни слова.
Эта знаменитая миссис Пипчин была удивительно некрасивая, зловредная старая леди, сутулая, с лицом пятнистым, как плохой мрамор, с крючковатым носом и жесткими серыми глазами, по которым, казалось, можно было бить молотом как по наковальне, не нанося им никакого ущерба. По крайней мере сорок лет прошло с тех пор, как Перуанские копи свели в могилу мистера Пипчина, однако вдова его все еще носила черный бомбазин такого тусклого, густого, мертвого и мрачного тона, что даже газ не мог ее осветить с наступлением темноты, и присутствие ее действовало как гаситель на все свечи, сколько бы их ни было. Все ее называли «превосходной воспитательницей»; а тайна ее воспитания заключалась в том, чтобы давать детям все, чего они не любят, и не давать того, что они любят: нашли, что этот прием оказывает чрезвычайно благотворное воздействие на их нравы. Она была такой злющей старой леди, что был соблазн предположить, не произошла ли какая-то ошибка в применении перуанских насосов, и не из копей, а из нее были выкачаны досуха все воды радости и млеко человеческой нежности.
Замок этой людоедки и укротительницы детей находился в крутом переулке Брайтона, где почва была еще более, чем в других местах, кремнистой и бесплодной, а дома – еще более, чем в других местах, ветхими и жалкими; где маленькие палисадники отличались необъяснимым свойством не рождать ничего, кроме ноготков, что бы ни было там посеяно, и где улитки постоянно присасывались к парадным дверям и другим местам, которые им не полагалось украшать, с цепкостью медицинских банок. Зимой воздух не мог вырваться из замка, летом – не мог проникнуть в него. Ветер вечно пробуждал эхо, гудевшее, как огромная раковина, которую обитатели замка должны были днем и ночью держать у своего уха, нравилось им это или нет. Запахи в доме, естественно, не отличались свежестью, а на окне в гостиной, которое никогда не открывалось, миссис Пипчин держала коллекцию растений в горшках, примешивавших свой собственный землистый запах к запахам помещения. Эти растения – в своем роде отборные экземпляры – были из породы, удивительно подходившей к обители миссис Пипчин, здесь находилось с полдюжины кактусов, корчившихся около своих подпорок, как волосатые змеи; затем экземпляр, выпускающий широкие клешни, точно зеленый омар; несколько ползучих растений с клейкими и цепкими листьями и несуразный цветочный горшок, который был подвешен к потолку и как будто перекипал и переливал через край своими длинными зелеными побегами и, задевая и щекоча проходивших под ним, напоминал им о пауках, каковые водились в изобилии в жилище миссис Пипчин, хотя в определенное время года оно могло с еще большим успехом конкурировать по части уховерток.
Так как миссис Пипчин брала высокую плату со всех, кто мог платить, и так как миссис Пипчин очень редко смягчала свой неизменно желчный нрав ради кого бы то ни было, ее считали старой леди с удивительно твердым характером, обладающей вполне научным знанием детской природы. Опираясь на эту репутацию и на разрыв сердца мистера Пипчина, она ухитрялась после смерти своего супруга выколачивать год за годом вполне приличные средства к жизни. Через три дня после первого упоминания о ней миссис Чик эта превосходная старая леди имела удовольствие получить в виде задатка из кармана мистера Домби прекрасное добавление к постоянным своим доходам и принять Флоренс и ее маленького брата Поля в число обитателей замка.
Миссис Чик и мисс Токс, которые привезли их накануне вечером (все они провели эту ночь в гостинице), только что отъехали от дома, отправившись в обратный путь; и миссис Пипчин, стоя спиной к камину, разглядывала вновь прибывших, словно старый солдат. Племянница миссис Пипчин, особа средних лет, добродушная и верная ее раба, но тощая, на вид неприступная и чрезвычайно страдавшая от чирьев на носу, освобождала юного мистера Байтерстона от чистого воротничка, надетого по случаю парада. Вторая – и последняя в то время – маленькая пансионерка, мисс Пэнки, была уведена в тот момент в темницу замка (пустую комнату в глубине дома, предназначенную для исправительных целей) за то, что она три раза фыркнула в присутствии гостей.
– Ну, сэр, – сказала миссис Пипчин Полю, – как вы думаете, будете ли вы меня любить?
– Не думаю, чтобы я хоть немножко вас полюбил, – ответил Поль. – Я хочу уйти. Это не мой дом.
– Да. Это мой, – ответила миссис Пипчин.
– Очень гадкий дом, – сказал Поль.
– А в нем есть местечко похуже этого, – сказала миссис Пипчин, – куда мы запираем наших нехороших мальчиков.
– Он когда-нибудь был там? – спросил Поль, указывая на юного Байтерстона.
Миссис Пипчин утвердительно кивнула головой; и Поль нашел себе занятие на целый день, осматривая мистера Байтерстона с головы до ног и следя за всеми изменениями его физиономии с интересом, которого заслуживали таинственные и ужасные испытания, перенесенные этим мальчиком.

