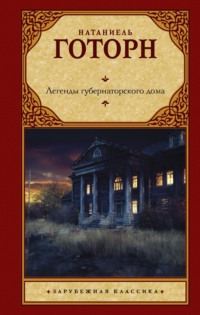
Легенды губернаторского дома
– Какую еще забаву вы нам приготовили, ваше превосходительство? – спросил преподобный Мэзер Байдз, чьи пресвитерианские принципы не помешали ему принять участие в увеселении. – Верьте слову, сэр, я уже насмеялся больше, чем подобает моему сану, вашим уморительным переговорам с мятежным генералом-оборванцем. Еще одна такая шутка, и мне придется снять сановное облачение.
– Вы не правы, дорогой мой доктор Байлз, – ответил сэр Уильям Хау. – Будь веселье прегрешением, вы никогда бы не стали доктором теологии. Что же до новой забавы, то я знаю о ней не больше, чем вы, возможно, даже меньше. А если честно, доктор, уж не вы ли подвигли некоторых своих воздержанных земляков, чтобы те разыграли на маскараде какую-нибудь сцену?
– Возможно, – лукаво заметила внучка полковника Джолиффа, чье самолюбие было уязвлено многочисленными насмешками над жителями Новой Англии, – возможно, нам предстанет шествие аллегорических фигур: Победы с трофеями из Лексингтона и Банкер-Хилла, Изобилия с переполненным рогом, символа нынешнего богатства нашего дивного города, и Победы с венком на челе вашего превосходительства.
Сэр Уильям Хау улыбнулся, услышав эти слова, на которые бы он ответил, грозно нахмурив брови, если бы их произнесли губы, под которыми красовалась борода. Случившееся следом избавило его от необходимости парировать подобную насмешку. Снаружи послышалась музыка, словно на улице заиграл военный оркестр, но вступил он не с приличествующей случаю праздничной мелодией, а с медленным похоронным маршем. Барабаны ударили приглушенно, трубы жалобно запричитали, отчего веселье гостей сразу улетучилось и собравшиеся ощутили удивление пополам с дурным предчувствием. Многие решили, что у входа в резиденцию остановилась похоронная процессия, провожающая в последний путь какого-то великого человека, или что в парадные двери вот-вот внесут отделанный бархатом и пышно украшенный гроб. На мгновение прислушавшись, сэр Уильям Хау строгим голосом подозвал капельмейстера, который до того развлекал общество веселыми легкими мелодиями. Капельмейстер был тамбурмажором[2] одного из британских полков.
– Дайтон, – сурово спросил он, – что это за дурачество? Немедленно прекратите похоронный марш, иначе, даю слово, мои гости и вправду впадут в уныние. Прекратить, и сейчас же!
– Покорнейше прошу прощения, ваше превосходительство, – ответил тамбурмажор, чье румяное лицо моментально побледнело, – я не виноват. Мой оркестр здесь в полном составе, и я сомневаюсь, что хотя бы один из музыкантов смог сыграть этот марш без нот. Я слышал его лишь однажды – на похоронах Его Величества покойного короля Георга Второго.
– Так, так! – проговорил сэр Уильям Хау, беря себя в руки. – Это, наверное, прелюдия к какой-то маскарадной сцене. Пусть играют.
В зале появилась еще одна фигура, но никто из множества одетых в самые фантастические костюмы и маски не мог точно сказать, откуда она взялась. Человек в старомодном наряде из черной саржи с лицом и осанкой дворецкого или мажордома приблизился к парадному входу, настежь распахнул двустворчатую дверь, отошел чуть в сторону и оглянулся на широкую лестницу, словно ожидая выхода важной особы. В то же время музыка взлетела ввысь в громком скорбном призыве. Взгляды сэра Уильяма Хау и его гостей были прикованы к лестнице, и вот с верхней площадки, которая хорошо просматривалась снизу, начали спускаться несколько фигур. Впереди шел мрачный человек в остроконечной шляпе, надетой поверх скуфьи, в темном плаще и больших сапогах со складками выше колен. Под мышкой он нес знамя, похожее на британский флаг, но странно продырявленное и оборванное. В правой руке он держал шпагу, в левой – Библию. За ним следовал другой с лицом менее суровым, но не уступавшим первому в величественности, одетый в мантию из тканого бархата, черный бархатный камзол и панталоны в обтяжку. Борода его свисала на широкий плоеный воротник, в руке он держал рукописный свиток. Сразу за ними спускался молодой человек, резко выделявшийся манерами. На челе у него лежала печать глубоких раздумий, глаза то и дело вспыхивали восторженным сиянием. Одежда у него, как и у шедших впереди, была старинная, а на плоеном воротнике алело пятно крови. За ними шло еще трое или четверо, все с величественными властными лицами, ведшие себя так, словно привыкли к взглядам толпы. Глядевшие на них гости губернатора решили, что эти люди собираются присоединиться к загадочной похоронной процессии, остановившейся у дверей. Однако эта догадка противоречила выражению торжества, с которым они помахали руками, прежде чем вышли за порог и скрылись из виду.
– Черт подери, это что еще такое? – пробормотал сэр Уильям Хау, обращаясь к стоявшему рядом господину. – Парад судей-цареубийц, обрекших на смерть короля-мученика Карла Первого?
– Это, – проговорил полковник Джолифф, едва ли не впервые за весь вечер нарушив молчание, – если я правильно понимаю, пуританские губернаторы Массачусетса, правители-родоначальники демократической колонии. Эндикотт со знаменем, с которого он сорвал символ папского владычества, Уинтроп и сэр Генри Вейн, Дадли, Хейнс, Беллингем и Леверетт.
– А почему у молодого человека кровь на воротнике? – спросила мисс Джолифф.
– Потому что впоследствии, – ответил ей дед, – он положил мудрейшую в Англии голову на плаху во имя свободы.
– Не прикажет ли ваше превосходительство вызвать караул? – прошептал лорд Перси, который вместе с другими британскими офицерами подошел к генералу. – За этим лицедейством может скрываться заговор.
– Чушь! Нам нечего бояться, – беспечно ответил сэр Уильям Хау. – В этом балагане измены не больше, чем шутки, и шутки глупейшей. Будь она даже острой и язвительной, нам лучше всего над ней посмеяться. Смотрите! Вон еще какая-то братия идет.
По лестнице спускалась еще одна группа. Впереди шел почтенный седобородый старец, осторожно щупавший дорогу посохом. Следом торопливо шагал, вытянув руку в перчатке, словно пытаясь ухватить старика за плечо, высокий, похожий на воина человек в стальном шлеме с плюмажем, в сверкающем нагруднике и с длинной, грохотавшей по ступенькам шпагой. За ним следовал плотный мужчина в богатой одежде придворного, но не с придворными манерами. Он шел вразвалку, как матрос, и, случайно споткнувшись на лестнице, вдруг посуровел лицом и отчетливо выругался. Затем стал спускаться человек с благородным лицом в завитом парике, какие можно увидеть на портретах времен королевы Анны и чуть раньше, грудь его камзола украшала вышитая звезда. Идя к двери, он изящно и подобострастно кланялся направо и налево, но, ступив за порог, в отличие от губернаторов-пуритан, в отчаянии заломил руки.
– Почтенный доктор Байлз, прошу вас внести лепту, – произнес сэр Уильям Хау. – Кто эти достойные господа?
– С позволения вашего превосходительства, они жили до меня, – ответил доктор. – Однако наш друг полковник, несомненно, был близко с ними знаком.
– При жизни я никого из них не знал, – мрачно проговорил полковник Джолифф, – хотя и лично говорил со многими правителями земли нашей. Думаю, старческой рукой благословить еще одного из них, прежде чем умру. Но речь идет об этих фигурах. Полагаю, что почтенный старец – это Брэдстрит, последний из пуритан, бывший губернатором где-то в девяносто лет. Следом шагает сэр Эдмунд Андрос, тиран, известный в Новой Англии каждому школьнику. За это его и скинули с вершин власти и бросили в темницу. За ним идет сэр Уильям Фиппс, пастух, бондарь, шкипер и губернатор. Дай Бог многим его землякам подняться так же высоко из самых низов! И наконец, вы видели благородного графа Белламонта, правившего нами при короле Вильгельме Оранском.
– Но что это все означает? – спросил лорд Перси.
– Будь я мятежницей, – вполголоса сказала мисс Джолифф, – решила бы, что тени прежних губернаторов вызваны сюда для того, чтобы составить процессию на похоронах королевского владычества над Новой Англией.
Теперь на площадке лестницы появились еще несколько фигур. У шедшей впереди было задумчивое, встревоженное и хитроватое лицо, свидетельствовавшее о том, что его обладатель вполне способен пресмыкаться перед теми, кто выше него. Через несколько ступенек от него шагал офицер в расшитом алом мундире старинного покроя, который, вероятно, носил еще герцог Мальборо. Его розоватый нос в сочетании с блестящими глазами характеризовал хозяина как любителя выпить с веселыми собутыльниками. Однако его явно что-то беспокоило: он то и дело озирался по сторонам, словно боясь тайных интриг. Затем шел дородный господин в сюртуке из ворсистой ткани с подбоем из тонко выделанного бархата. Лицо у него было умное, хитроватое и веселое, под мышкой он держал толстую книгу. Но в то же время казалось, словно он чуть ли не до смерти доведен неустанными и мучительными размышлениями. Он торопливо спустился, и за ним последовал статный мужчина в костюме из пурпурного бархата с чрезвычайно богатой вышивкой. Он выглядел бы еще величественнее, если бы не сильная подагра, из-за которой он еле ковылял по ступеням, то и дело содрогаясь всем телом и морщась от боли. Увидев на лестнице эту фигуру, доктор Байлз затрясся, будто в лихорадке, но продолжал неотступно следить за подагрическим господином, пока тот не дошел до порога, тоскливо и отчаянно взмахнув рукой, и не скрылся в темноте, куда звала его траурная музыка.
– Губернатор Белчер, мой былой благодетель, прямо как живой! – ахнул доктор Байлз. – Какое жуткое глумление.
– Скорее пошлая выходка, – с равнодушным видом заметил сэр Уильям Хау. – Но кто же трое предшественников?
– Губернатор Дадли, коварный политик, однако собственное интриганство довело его до тюрьмы, – ответил полковник Джолифф. – Губернатор Шют, прежде служивший полковником у герцога Мальборо. Народ вынудил его бежать отсюда. И, наконец, ученый губернатор Бернетт, которого непомерные труды на ниве закона довели до лихорадки и свели в могилу.
– Мне думается, что все эти королевские губернаторы Массачусетса были убогими и несчастными людьми, – заметила мисс Джолифф. – Боже праведный! Как быстро гаснет свет!
И действительно, освещавшая лестницу большая люстра горела теперь блекло, отчего несколько фигур, торопливо спустившихся по ступенькам и исчезнувших за порогом, больше походили на призраков, нежели на людей из плоти и крови.
Сэр Уильям Хау и его гости стояли у дверей примыкавших к залу апартаментов и наблюдали за этой пышной процессией со смешанными чувствами: злобой, отвращением и смутно ощущаемым страхом, но все без исключения – с тревожным любопытством. Фигуры, похоже, заторопившиеся присоединиться к таинственной процессии, теперь узнавали только по поразительным отличиям в одежде или бросавшимся в глаза особенностям поведения, а не по портретному сходству с их прототипами. Лица всех без исключения скрывались в густой тени, но доктор Байлз и другие господа, знавшие сменявших друг друга правителей Новой Англии, шепотом называли имена Ширли, Паунэлла, сэра Френсиса Бернарда и недоброй памяти Хатчисона, тем самым признавая, что актеры, кто бы они ни были, в этой призрачной череде губернаторов сумели достичь сходства, пусть и отдаленного, с реальными людьми. Когда они исчезали за дверью, их тени продолжали горестно вскидывать руки к небу. Вслед за изображавшей Хатчисона фигурой появился военный, прикрывавший лицо снятой с напудренного парика треуголкой, однако эполеты и другие знаки отличия говорили о том, что это генерал-майор, и что-то в его наружности напоминало о человеке, который недавно был хозяином губернаторского дома и правителем окружающих земель.
– Это же Гейдж, прямо как живой! – бледнея, воскликнул лорд Перси.
– Конечно же нет! – с истерическим смехом вскричала мисс Джолифф. – Это не Гейдж, иначе сэр Уильям обязательно бы поприветствовал давнего товарища по оружию. Возможно, следующего он не обделит вниманием.
– В этом будьте уверены, барышня, – ответил сэр Уильям Хау, впившись многозначительным взглядом в застывшее лицо ее деда. – Я достаточно долго пренебрегал долгом хозяина по отношению к уходящим гостям, и следующий, кто вознамерится откланяться, удостоится этой чести.
В открытую дверь ворвалась мрачная, безотрадная музыка. Казалось, медленно собиравшаяся процессия вот-вот тронется, и это громкое завывание труб и глухая барабанная дробь призывают поторопиться кого-то замешкавшегося наверху. Многие взгляды, следуя неодолимому порыву, обратились на сэра Уильяма Хау, словно именно его печальная музыка звала на похороны ушедшей в мир иной власти.
– Смотрите! Вот последний идет! – прошептала мисс Джолифф, дрожащим пальцем показывая на лестницу.
Появилась будто бы шагавшая вниз по ступеням фигура, однако там, откуда она явилась, царила такая мгла, что некоторым показалось, словно она возникла из темноты. Фигура спускалась вниз четким строевым шагом, и когда она дошла до последней ступени, то все увидели высокого мужчину, закутанного в военный плащ, доходивший до ворсованных полей обшитой галуном шляпы и поэтому полностью скрывавший лицо. Но британские офицеры решили, что раньше уже видели этот плащ, и даже узнали обтрепанную вышивку на воротнике, как и позолоченные ножны шпаги, выбивавшиеся из-под складок и блестевшие в лучах света. Но помимо этих малозначительных признаков были еще походка и манера держаться, которые заставили изумленных гостей перевести взгляды с закутанной фигуры на сэра Уильяма Хау, словно чтобы удостовериться, что хозяин внезапно не исчез со своего места. Они увидели, как генерал с потемневшим от злости лицом вытащил шпагу и шагнул к фигуре в плаще, прежде чем та успела сделать шаг вперед.
– Открой лицо, негодяй! – вскричал он. – И ни шагу дальше!
Фигура даже не шевельнулась при виде устремленной ей в грудь шпаги. Торжественно выдержав паузу, она опустила верх плаща, закрывавшего лицо, но недостаточно для того, чтобы его разглядели зрители. Однако сэр Уильям Хау наверняка увидел, сколько нужно. Суровость на его лице сменилась изумлением, если не страхом, когда он отступил на несколько шагов и уронил шпагу. Человек в военном одеянии снова прикрыл лицо плащом и двинулся дальше, оставаясь спиной к собравшимся, но, дойдя до порога, топнул ногой и потряс в воздухе кулаками. Позднее утверждалось, что сэр Уильям Хау повторил этот полный ярости и отчаяния жест, когда он как последний королевский губернатор покидал резиденцию.
– Слушайте! Процессия двинулась, – сказала мисс Джолифф.
Музыка на улице стала затихать, и ее печальные аккорды сливались с полночным боем часов на башне Старой Южной церкви и с грохотом орудий, возвещавшим о том, что осаждавшая город армия Вашингтона подошла к его стенам так близко, как никогда раньше. Когда гром пальбы достиг ушей полковника Джолиффа, он не без усилия выпрямился и мрачно улыбнулся британскому генералу.
– Вашему превосходительству угодно еще глубже вникнуть в тайну этого маскарадного действа? – спросил он.
– Побереги седую голову! – яростно вскричал сэр Уильям Хау, пусть и дрожащим голосом. – Она слишком долго держалась на плечах предателя.
– Тогда вам нужно поторопиться ее отрубить, – спокойно ответил полковник, – поскольку не пройдет и нескольких часов, как власти сэра Уильяма Хау или его короля не достанет на то, чтобы с этой седой головы упал хотя бы один волос. Сегодня вечером Британская империя находится в своей старой колонии при последнем издыхании. И когда я говорю эти слова, она уже труп. Сдается мне, что тени прежних губернаторов – подходящие плакальщики на ее похоронах.
С этими словами полковник Джолифф набросил плащ и, взяв под руку внучку, покинул последний праздник, устроенный британским наместником провинции Массачусетс-Бэй. Полагали, что полковник с внучкой обладают некими секретными сведениями о загадочном представлении, разыгранном тем вечером. Но как бы то ни было, эти сведения так и не стали достоянием широкой публики. Участвовавшие в живых картинах актеры исчезли даже вернее, чем переодевшиеся индейцами горожане, побросавшие в воды залива груз чая с кораблей, но так и оставшиеся неизвестными. Однако одна из легенд, связанных с этим особняком, упорно твердит, что каждую ночь перед годовщиной окончания британского владычества в Массачусетсе тени прежних губернаторов выходят из парадного подъезда резиденции. И последней в их череде появляется фигура, закутанная в генеральский плащ, потрясающая воздетыми к небу кулаками и топающая обутой в кованый сапог ногой на широкой лестнице из красного песчаника, не издавая при этом ни единого звука.
Когда смолк говоривший «сущую правду» голос пожилого господина, я глубоко вздохнул и оглядел зал, изо всех сил пытаясь силою воображения придать окружавшей меня действительности оттенок романтичности и прошлого великолепия. Но в ноздри мне ударил запах табачного дыма, облака которого обильно пускал рассказчик, как я полагаю, в знак того, что его история овеяна флером неясности и расплывчатости. Более того, мои дивные фантазии были горестно нарушены позвякиванием ложечки в бокале с пуншем, который мистер Уэйтс готовил для очередного посетителя. Не добавляла романтики деревянным стенным панелям и висевшая на одной из них вместо геральдического щита одного из родовитых губернаторов грифельная доска с расписанием почтовых дилижансов до Бруклина. У окошка сидел кучер такого дилижанса и читал свежую дешевую газетку «Бостон Таймс». Он являл собой типичный образец горожанина, портрет которого вполне мог красоваться на первой полосе лет семьдесят или сто назад. На подоконнике лежал аккуратный сверток из коричневой бумаги, на котором я из чистого любопытства прочел надпись: «Мисс Сюзан Хаггинс, гостиница “Губернаторский дом”». Несомненно, какая-нибудь хорошенькая горничная. По правде говоря, чрезвычайно трудно придать ореол старины вещам, которые связаны с нашей жизнью и которые мы видим каждый день. И все же, когда я смотрел на величественную лестницу, по которой спускалась процессия губернаторов, и когда выходил из парадных дверей, из которых до меня прошествовали их тени, я с радостью ощутил благоговейный трепет. Затем я нырнул под узкую арку, сделал несколько шагов и вскоре оказался на оживленной Вашингтон-стрит.
Портрет Эдуарда Рэндолфа
Почтенный завсегдатай губернаторского дома, чей рассказ так поразил мое воображение, с лета до самого января не выходил у меня из головы. Как-то в середине зимы, в свободный от всяких дел вечер, я решился нанести ему повторный визит, полагая, что застану его, как обычно, в самом уютном уголке гостиничного бара. Не утаю, что я при этом льстил себя надеждой заслужить признательность отечества, воскресив для потомков еще какой-нибудь позабытый эпизод его истории. Погода стояла сырая и холодная: яростные порывы ветра со свистом проносились по Вашингтон-стрит, и пламя газовых фонарей то замирало, то вспыхивало. Я торопливо шел вперед, сравнивая в своем воображении нынешний вид улицы с тем, какой она, вероятно, имела в давно минувшие дни, когда дом, куда я теперь направлялся, был еще официальной резиденцией английских губернаторов. Каменные строения в те времена были чрезвычайно редки: их начали возводить лишь после того, как бо`льшая часть деревянных домов и складов в самой населенной части города несколько раз кряду выгорела дотла. Здания стояли тогда далеко друг от друга и строились каждое на свой манер: их физиономии не сливались, как теперь, в сплошной ряд утомительно одинаковых фасадов – напротив, каждый дом обладал особенными, неповторимыми чертами, сообразно со вкусом владельца, и вся улица являла собою зрелище, пленявшее живописной прихотливостью, отсутствие которой не возместится никакими красотами нашей новейшей архитектуры. Как непохожа была улица тех времен, окутанная мглою, сквозь которую лишь кое-где пробивался слабый свет сальной свечи, мерцавшей за частым оконным переплетом, на нынешнюю Вашингтон-стрит, где было светло как днем, – столько газовых фонарей горело на перекрестках, столько огней сверкало за огромными стеклами витрин.
Но, подняв глаза, я решил, что черное, низко нависшее небо, должно быть, так же хмуро глядело на обитателей Новой Англии колониальной поры и точно так же свистел у них в ушах пронизывающий зимний ветер. Древняя колокольня Старой Южной церкви, как и прежде, уходила в темноту, теряясь между небом и землей, и, приблизившись, я услышал бой церковных часов, которые многим поколениям до меня твердили о бренности земного существования, а теперь веско и медленно повторили и мне свою извечную, столь часто оставляемую без внимания проповедь. «Еще только семь часов, – подумал я. – Хорошо, если бы рассказы моего приятеля помогли мне скоротать время до сна».
Я прошел под узкой аркой и пересек закрытый двор при свете фонаря, подвешенного над парадным крыльцом губернаторского дома. Как и ожидал, первый, кого я увидел, переступив порог общего зала, был мой старый знакомец. Хранитель преданий сидел перед камином, в котором ярко пылал антрацит, и курил внушительных размеров сигару, пуская клубы дыма. Он приветствовал меня с нескрываемым удовольствием: благодаря редкостному дару терпеливого слушателя я неизменно пользуюсь расположением пожилых джентльменов и словоохотливых дам. Придвинув кресло поближе к огню, я попросил хозяина приготовить нам два стакана крепкого пунша, каковой напиток и был незамедлительно подан – почти кипящий, с ломтиком лимона на дне, с тонким слоем темно-красного портвейна сверху, щедро сдобренный тертым мускатным орехом. Мы чокнулись, и мой рассказчик наконец отрекомендовался мне как мистер Бела Тиффани; странное звучание этого имени пришлось мне по душе – в моем представлении оно сообщало облику и характеру особы, носившей его, нечто весьма своеобразное. Горячий пунш, казалось, растопил его воспоминания – и полились повести, легенды и истории, связанные с именами знаменитых людей, давно покойных; одни из этих рассказов были по-детски наивны, как колыбельная песенка, иные же могли бы оказаться достойными внимания ученого историка. Сильнее прочих впечатлила меня история таинственного черного портрета, когда-то висевшего в губернаторском доме, как раз над той комнатой, где сидели теперь мы оба. Читатель едва ли отыщет в других источниках более достоверную версию этой истории, чем та, которую я решаюсь предложить его благосклонному вниманию, – хотя, без сомнения, кое-кому моя повесть может показаться чересчур романтической и даже похожей на сказку.
В одном из покоев губернаторского дома на протяжении многих лет находилась старинная картина: рамы ее казались вырезанными из черного дерева, а самое полотно так потемнело от времени, дыма и сырости, что на нем нельзя было различить даже самого слабого следа кисти художника. Годы задернули картину непроницаемой завесой; что же касается предмета изображения, то на сей счет существовали самые смутные толки, предания и домыслы. Губернаторы сменяли друг друга, а картина, словно в силу какой-то неоспоримой привилегии, висела все там же, над камином; продолжала она оставаться на прежнем месте и при губернаторе Хатчинсоне, который принял управление провинцией после отъезда сэра Фрэнсиса Бернарда, переведенного в Виргинию.
Однажды на исходе дня Хатчинсон сидел в своем парадном кресле, прислонившись головой к его резной спинке и вперив задумчивый взор в черную пустоту картины. Между тем время для подобных праздных мечтаний было вовсе не подходящее: события величайшей важности требовали от губернатора безотлагательных действий, ибо не далее как час назад он получил известие о том, что в Бостон прибыла флотилия британских кораблей, доставивших из Галифакса три полка солдат для подавления беспорядков среди жителей. Войска ожидали разрешения губернатора, чтобы занять Форт-Уильям, а затем и самый город. Однако же вместо того чтобы скрепить своей подписью официальный приказ, губернатор продолжал сидеть в кресле и так старательно изучал пустую черноту висевшей перед ним картины, что его поведение привлекло внимание двух людей, находившихся в той же комнате. Один из них, молодой человек в желтом военном мундире, был дальний родственник губернатора, капитан Фрэнсис Линколн, комендант Форт-Уильяма; другая, юная девушка, сидевшая на низкой скамеечке рядом с креслом Хатчинсона, была его любимая племянница, Элис Вейн.
В облике этой хрупкой бледной девушки, одетой во все белое, сквозило что-то неземное: уроженка Новой Англии, она получила образование в Европе, и теперь казалась не просто гостьей из чужой страны, но почти существом из иного мира. Много лет, до кончины ее отца, она прожила вместе с ним в солнечной Италии и там приобрела вкус и склонность к ваянию и живописи – склонность, которую редко можно было удовлетворить в холодной и аскетической обстановке жилищ провинциальной знати. Говорили, что ее собственные первые опыты показывали недюжинное дарование, однако суровая атмосфера Новой Англии неизбежно сковывала ей руку и лишала блеска многоцветную палитру ее воображения. Но сейчас упорный взгляд губернатора, который, казалось, стремился пробиться сквозь туман долгих лет, окутывавший картину, и обнаружить предмет, на ней изображенный, пробудил любопытство молодой девушки.

