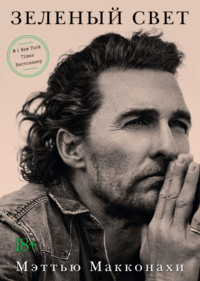
Зеленый свет
После ужина я, как обычно, посмотрел очередную серию «Невероятного Халка», а потом мы с отцом пожелали друг другу спокойной ночи. Я лег в кровать и задумался, сколько придется ждать, пока я смогу улизнуть через окно. Было хорошо слышно, как отец возится в противоположном конце трейлера. Когда все звуки смолкли, я на всякий случай выждал еще час, тихонько встал с кровати, повязал на пояс фланелевую рубаху, оставил кеды в чулане, схватил воздушку, фонарик и кусачки, сбросил их через окно на газон, вылез в окно сам и отправился на лесопилку.
Было около часа ночи. Я рассчитал, что домой вернуться надо до пяти, так что мне предстояло несколько часов работы. На лесопилке было тихо. Я швырнул через ограду пару камней, проверить, нет ли сторожевых псов. Никаких собак не оказалось. Тогда я очистил участок ограды от плюща, прижал фонарик подбородком к груди и обеими руками поднес кусачки к проволоке. Щелк. Чтобы разрезать металлические звенья, понадобилась сила обеих рук. Щелк, щелк, щелк, щелк. Наконец я проделал отверстие шириной футов в шесть и высотой в фут – вполне достаточное для того, чтобы просунуть сквозь него доски, брусья и фанеру, но не очень заметное. Хотелось верить, что не очень.
Дрожа от возбуждения, я лег на спину и скользнул под ограду, в чужие владения. Подошел к штабелю бруса квадратного сечения, четыре на четыре дюйма, вытянул один, подтащил к отверстию в ограде, вытолкнул наружу, снова пролез под оградой и поволок брус за собой в лес. К большой белоствольной сосне. Потом побежал за следующим брусом. К тому времени, как я второй раз вернулся к дереву с добычей, было уже полпятого. Я сгонял к ограде, замаскировал отверстие плющом и ветками и помчался домой. Влез в окно, положил ружье и фонарик на полку, спрятал кусачки под матрас, лег в кровать и уснул. В шесть утра меня разбудил отец, готовить завтрак.
Так продолжалось больше месяца. По ночам я не спал, дремал днем, под белоствольной сосной, рядом с растущей горкой досок, возвращался домой к ужину, и все повторялось снова. Каждую ночь я уходил на лесопилку, до тех пор, пока у меня не накопилось пиломатериалов на огроменный дом на дереве.
Наконец самая опасная часть моего плана завершилась. Лета оставалось всего два месяца, пора было начинать строительство. С лесопилки я умыкнул футов сорок гвоздевой ленты, а молоток и ручную пилу взял дома, из ящика с инструментом. Теперь мне нужен был только дневной свет.
Следующие два месяца я каждый день просыпался в шесть, уходил из дома в семь и дотемна строил дом на дереве. Босиком, без рубахи, с грудью, крест-накрест перевязанной гвоздевой лентой, и с молотком в руке – то ли индеец-команч, то ли Панчо Вилья – я принялся за работу. Начал с первого уровня и постепенно надстраивал дом. В каждом листе фанеры, служившем полом, я прорезал у ствола квадратную дыру, два на два фута, для лесенок, чтобы перемещаться с этажа на этаж. А еще я соорудил подъемник. Каждое утро я брал с собой бутерброд, приходил на свою стройплощадку, укладывал пакет с бутербродом в подъемник, забирался на самый верхний этаж и подтягивал к себе еду. И съедал бутерброд, когда устраивал перерыв на обед.
Спустя шесть недель в моем доме на дереве насчитывалось тринадцать ярусов. Тринадцатый был в ста футах над землей. Оттуда открывался вид на окрестности и даже на Лонгвью, в пятнадцати милях отсюда. В две последние недели лета я каждый день забирался на самый верх, поднимал туда свой бутерброд и оставался один над целым миром. И мечтал. Мне казалось, что оттуда видно даже, как на горизонте скругляется Земля. Там я и понял, почему город назвали Лонгвью – «дальнозор».
Так я провел лучшее лето в своей жизни.
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Наступил сентябрь, я пошел в школу. Мама вернулась из Флориды, и вскоре мы переехали в дом на противоположном конце города. Своего дома на дереве я больше не видел.
Мне до сих пор интересно, сохранился ли он. На съемках фильма «Мад» я вспоминал об этом доме – он был для меня таким же убежищем, как «лодка на дереве» для юных героев фильма. Тайна, секрет, опасное, удивительное место, где можно мечтать. Если бы «Мад» сняли в 1979 году, отец, наверное, сказал бы мне: «Слушай, сынок, я тут посмотрел чертовски хороший фильм, „Мад“ называется, давай посмотрим его вместе». А я в ответ сказал бы ему: «Пап, знаешь, я тут построил в лесу дом на дереве, хочу тебе показать. Чертовски хороший дом».

А помните мамин «продолжительный отпуск» во Флориде? Лишь двадцать лет спустя я узнал, что это был вовсе не отпуск – родители тогда второй раз разводились.

Я уже был в старших классах. Мы жили все там же, в доме на противоположном конце Лонгвью. Мама решила заняться предпринимательством и стала торговать вразнос косметическими средствами «Норковое масло». Реклама утверждала, что они обладают лечебными свойствами, «великолепно очищают кожу» и что если «напитать кожу норковым маслом, то она будет здоровой и чистой всю жизнь».
Тем временем у меня начался подростковый возраст – ну вы представляете, растут волосы в паху, отвисают яйца, ломается голос… и, разумеется, высыпают прыщи.
В один прекрасный день мама посмотрела на меня и заявила:
– Тебе нужно «Норковое масло».
Я всегда считал, что забота о своей внешности – один из признаков уважения к себе, поэтому стал каждый вечер перед сном щедро мазать физиономию «Норковым маслом». Количество прыщей увеличилось.
– Это потому, что кожа очищается, – сказала мама.
Я ей поверил и продолжал еженощно умащать себя «Норковым маслом».
Прошла неделя. Прыщей стало больше.
Прошло двенадцать дней. Теперь пошли угри.
– Мам, а ты уверена, что мне можно пользоваться этим кремом? – спросил я.
– Конечно уверена. Но давай позвоним моей начальнице Элейн, она придет, посмотрит и скажет точно.
Пришла Элейн, посмотрела на мое воспаленное лицо и завопила:
– Ух ты! Крем действует как положено. Очищает. Вытягивает всю грязь. У тебя очень грязная кожа, Мэттью! Так что пользуйся кремом каждый вечер, и в конце концов кожа станет чистой и здоровой. На всю жизнь.
Что ж, ничего не поделаешь. Придется терпеть. Я упорно мазался кремом. Через три недели щеки покрылись воспаленными волдырями. Появились жировики, угри загноились. Я был сам на себя не похож.
Вопреки советам мамы я решил сходить к дерматологу. Доктор Хаскинс посмотрел на меня:
– Ох, Мэттью, что за… у тебя все поры забиты жиром. Коже нечем дышать. Чем ты пользуешься?
Я вытащил тюбик «Норкового масла».
Дерматолог внимательно прочитал этикетку.
– И как долго ты им мажешься?
– Двадцать один день.
– О господи, это крем для сорокалетних женщин, а не для подростков переходного возраста. Твоя кожа и так выделяет много жира. Крем забил тебе все поры, Мэттью, и теперь у тебя тяжелая форма узловато-кистозного акне. Еще десять дней – и ты бы на всю жизнь покрылся оспинами. Я пропишу тебе таблетки изотретиноина. Надеюсь, удастся купировать воспаление, и ты за год избавишься от прыщей. Хочется верить, что следов не останется.
– Ах, Мэттью, неужели «Норковое масло» не подействовало? Какая жалость! – с невинным видом воскликнула мама.
– Угу… не подействовало.
Я немедленно выбросил чудодейственный крем и начал пить изотретиноин. У него оказалась целая обойма побочных эффектов. Кожа стала сухой, шелушилась, пересохшие уголки губ растрескались и кровоточили, колени ломило, жутко болела голова, выпадали волосы. Я страдал аллергией и с виду напоминал распухшую черносливину. И, несмотря на все это, я был неимоверно счастлив избавиться от акне, вызванного «Норковым маслом».
Но история на этом не окончилась. В семействе Макконахи все доводили до логического завершения. Отец учуял возможность поживиться.
– Подадим в суд на эту проклятую фирму! Так и поступим. Засудим их и стрясем денег. Сам знаешь, сынок, зря они всучили тебе этот крем. Элейн не должна была уговаривать маму, чтобы та его тебе навязала. Так что у нас есть все основания для иска.
Отец привел меня к своему юристу, Джерри Харрису, приятному и эрудированному человеку, весьма уверенному в себе, который держался с таким апломбом, будто жил в Далласе, а не в Лонгвью.
– Совершенно верно, у нас есть все основания для иска, – сказал Джерри. – Во-первых, этот продукт явно не предназначен для подростков, но на упаковке нет никаких предупреждений и указаний на возможные побочные эффекты. Мало того, что это доставило тебе определенные физические неудобства, так еще и…
Джерри с отцом многозначительно уставились на меня.
– Ты ведь испытал и значительный моральный ущерб, правда, Мэттью?
– Ну… ага.
Джерри вытащил кассетный магнитофон и нажал красную кнопку «запись».
– Так что? – спросил он.
– Да, в то время я испытывал значительный моральный ущерб.
– Почему? – спросил он, кивая.
– Потому… Потому что у меня высыпали ужасные прыщи, которых не было до того, как я начал пользоваться «Норковым маслом»?
– Совершенно верно, – подтвердил Джерри. – И это повлияло на твою самооценку?
– Да, сэр.
– Как?
– Она снизилась.
– Очень хорошо. А как это повлияло на твои отношения с девушками?
– Ну… раньше с девушками все было хорошо, а теперь не очень.
– То, что надо, – заявил Джерри, выключив магнитофон. – Джим, вчиняем иск. Нанесение морального ущерба ставит истца в преимущественную позицию. Да и вообще, посмотри на него – весь распух и выглядит ужасно. Можно рассчитывать на сумму от тридцати пяти до пятидесяти тысяч в качестве компенсации.
По отцовскому лицу расплылась довольная ухмылка. Он горячо пожал Джерри руку и похлопал меня по спине:
– Отлично сработано.
Как всем известно, судебные разбирательства – дело долгое. Прошло два года, мои прыщи исчезли, от угрей не осталось и следа. Изотретиноин подействовал. Меня вызвали давать показания в присутствии адвоката ответчика, фирмы-производителя «Норкового масла». На столе стоял кассетный магнитофон, включенный на запись.
– Мэттью, как ты себя чувствуешь?
– Намного лучше, спасибо.
– Мне очень жаль, что с тобой это произошло. Наверное, тогда это тебя очень расстроило?
Я не верил своим ушам: адвокат задал вопрос, который играл мне на руку. У меня был готов ответ:
– Да, сэр. Я был очень расстроен. Мало того, что я выглядел как человек-слон, у меня пересохла кожа, выпадали волосы, болели колени и спина, шелушилась кожа. Я полностью утратил уверенность в себе, а девушки не обращали на меня внимания. «Норковое масло» искалечило мне жизнь.
– Боже мой! Представляю, как тебе было тяжело. И сейчас трудно, наверное, да?
Я с готовностью согласился:
– Да, сэр, трудно.
Он внимательно посмотрел на меня и, сложив губы в едва заметную улыбку Чеширского кота, достал из-под стола школьный фотоальбом – мой школьный фотоальбом – за тот самый 1988 год. Потом медленно раскрыл его на заложенной странице, повернул альбом ко мне, придвинул поближе и, наклонившись через стол, ткнул пальцем в фотографию:
– Вот это – ты?
Разумеется, это был я. С Камиссой Спринг. На груди у меня и у Камиссы красовались ленты наискось. На ленте Камиссы была надпись: «Первая красавица». На моей ленте: «Первый красавец». Черт возьми! Я сразу понял, что дело не выгорит. Меня подловили.
– Искалечило жизнь, говоришь? Да, заметно, что ты очень расстроен, – сказал адвокат, ухмыляясь.
Так оно и вышло, что иск отозвали.

Отец долго не мог успокоиться. Тянулись недели, а он все бурчал себе под нос:
– Черт бы тебя побрал, сопляк! Профукал такой шанс выиграть дело и заработать тридцать пять, а то и все пятьдесят тысяч компенсации! Нет, надо было обязательно стать «Первым красавцем». Все дело испортил! Черт бы тебя побрал!


Спустя несколько месяцев мама отправилась в Наварре-Бич, во второй «продолжительный отпуск» (на этот раз родители не разводились, а просто решили немного отдохнуть друг от друга), и мы с отцом снова остались вдвоем, только не в трейлере, а в доме с тремя спальнями. Я вернулся домой к установленному сроку – к полуночи. Как ни странно, отец не спал. Разговаривал по телефону. Я заглянул в отцовскую спальню.
– Да, мистер Фелкер, он только что пришел, – говорил он в трубку. – Сейчас я у него спрошу.
В спальне горел свет. Отец в нижнем белье сидел на кровати. Он зажал трубку плечом и посмотрел на меня:
– Чем сегодня развлекались, сынок?
Мне бы сразу все честно рассказать, но я решил, что выкручусь – перед тем, кто учил меня выкручиваться.
– Да так… Сходили с Бадом Фелкером в «Пиццу-хат», а потом он подвез меня домой.
– Вы за пиццу заплатили, сынок?
Отец давал мне возможность признаться во всем начистоту и избежать наказания за самое худшее – хуже, чем быть пойманным на озорстве, – за ложь. Но вместо этого, хотя мне и было ясно, что ему все известно, я уклончиво ответил:
– Кажется, да. Ну, я первым пошел к машине, потому что Бад должен был заплатить.
Я сам себе вырыл яму, из которой теперь было не выбраться.
Отец вздохнул, расстроенно поморгал и снова поднес телефонную трубку к уху:
– Мистер Фелкер, спасибо. Я с ним разберусь.
И положил трубку на рычаг.
Меня пробил пот.
Отец невозмутимо оперся ладонями о колени, поднял голову, поглядел мне в глаза и стиснул зубы.
– В последний раз спрашиваю, сынок. Ты знал, что вы крадете пиццу?
Мне бы сказать: «Да, папа, знал», – и все бы закончилось строгой отповедью за то, что мы попались по дури. Ну и попробовал бы ремня – собственно, за то, что попались. Но нет.
На мотне моих джинсов появилось крошечное мокрое пятнышко. Широко раскрыв глаза, я с запинкой произнес:
– Н-нет, сэр. Пап, я же сказал…
ХЛОП! Прерывая мою жалобную мольбу, отец вскочил с кровати и хлестнул меня рукой по лицу. Я упал – не от удара, а потому, что меня не держали ноги, внезапно ослабевшие от страха.
Я это заслужил. Заработал. Сам напросился. Хотел. И получил.
Я соврал отцу и разбил его сердце.
И дело было не в украденной пицце. Он и сам не раз воровал пиццу, и не только пиццу. Мне надо было сразу признаться. А я солгал.
Я стоял на коленях, рыдая от ужаса – так же, как когда-то мой брат Майк, но он рыдал из-за другого. Мне было стыдно. В отличие от Майка в амбаре, я был ссыклом, подлецом, рохлей. Трусом.
«Это не мой сын, Кэти, а твой», – звучало у меня в ушах.
Отец стоял надо мной.
– Официантка в «Пицце-хат» узнала Бада, нашла номер его телефона, позвонила ему домой и попросила его отца, чтобы тот велел ему на следующий день принести деньги за пиццу. Бад признался отцу, что это он решил умыкнуть пиццу, а ты просто его не остановил. Но ты мне солгал, сынок, сказал, что ничего не знал.
Он хотел, чтобы я поднялся, признал свою вину, посмотрел ему в глаза и принял положенное наказание. Но я этого не сделал.
Я струсил, начал оправдываться и канючить. Он молча смотрел на меня. По моим джинсам расплывалось мокрое пятно.
Отец, разъяренный моей бесхарактерностью, встал передо мной на четвереньки, как медведь, и начал дразнить:
– Ну-ка, засвети мне в морду! Даю тебе четыре попытки против моей одной. Ну же, не трусь!
Парализованный страхом, я не отреагировал. При одной мысли о том, чтобы ударить отца, руки стали картонными. Мысль о том, что он меня снова ударит, ужасала еще больше.
– Ну почему?! Почему?! – завопил он.
Не в силах ответить, я на коленях отполз в угол и сжался в комок. Отец встал и сокрушенно покачал головой, пытаясь понять, почему его сын вырос таким трусом.
Я часто жалел о том, что сделал и чего не сделал в тот вечер.
Отец предоставил мне возможность пройти ритуал взросления – стать мужчиной в его глазах, – но я перепугался, обоссал штаны и провалил испытание. Спасовал.
Часть вторая
Найди волну
1988 г., весна
Выпускной класс школы. У меня все было прекрасно: отличные оценки, работа, которая гарантировала мне сорок пять долларов в кармане, гандикап 4 в гольфе, звание «Первый красавец». Вдобавок я встречался с самой красивой девчонкой из нашей школы – и из соседней школы тоже. В общем, меня несла зеленая волна.
Крутой парень, который на вечеринках невозмутимо стоит у стены и курит, – это не про меня. На вечеринках я танцевал, охмурял девчонок и на всех концертах проталкивался в первый ряд, даже если приходил последним. Я старался изо всех сил. Я ловчил.
У меня был пикап-внедорожник. После уроков именно в нем я катался с девчонками по грязи[2]. К решетке радиатора я прикрутил мегафон и по утрам на школьной автостоянке прятался в кабине и вопил на всю округу: «Эй, поглядите, Кэти Кук сегодня в клевых джинсах! Классно выглядит!»
Всем нравилось. Все хохотали. Особенно Кэти Кук.
Я был своим парнем. Весельчаком. Всеобщим любимцем.
Однажды, проезжая мимо местного автодилерского центра, я увидел выставленный на продажу ярко-красный «ниссан 300-ZX».
У меня никогда прежде не было спортивной машины. Тем более со съемными панелями крыши.
Я подъехал к центру навести справки. Продавец очень хотел заключить сделку.
В обмен на свой пикап я получил ярко-красный «ниссан 300-ZX». Со съемными панелями.
Теперь у меня была красная спортивная машина.
Каждое воскресенье я полировал ее до глянца и наводил лоск на свою красавицу.
Я стал парковаться на третьей, обычно пустующей стоянке за зданием школы, чтобы мою новенькую машину случайно не поцарапали и не помяли.
Я знал, что девчонки заценят мою красную спортивную машину куда больше, чем обшарпанный пикап, а значит, заценят и меня. Поэтому каждое утро я пораньше заезжал на третью парковку, ставил машину и небрежно опирался на капот.
Крутой парень.
С крутой тачкой. С красной спортивной машиной.
Через пару недель я заметил перемены. Девчонки почему-то не спешили меня заценивать. Им почему-то было скучно смотреть, как я небрежно опираюсь на капот.
После уроков девчонкам было интереснее кататься по грязи с другими, чем рассекать по улицам со мной, в красной спортивной машине со съемной крышей.

И свиданий у меня стало меньше. Девчонки утратили ко мне интерес.
Я не понимал, в чем дело.
И в один прекрасный день до меня дошло.
Пропал пикап.
Пропали возможности стараться, крутиться и ловчить. Пропал мегафон. Пропало веселье.
А вместо всего этого я небрежно опирался на капот красной спортивной машины со съемными панелями крыши на третьей школьной парковке.
Я обленился, слишком часто смотрел в зеркало и думал, что моя красная спортивная машина гарантированно привлечет внимание ко мне самому. Ни фига подобного.
Обменяв пикап на красную спортивную машину, я сам себя перехитрил. Лоханулся.
На следующий день после уроков я поехал в автоцентр и обменял красную спортивную машину на свой старенький пикап.
На следующий день я, поставив машину на первой школьной парковке, охмурял девчонок в мегафон, а после уроков поехал с ними кататься по грязи.

И все пошло по заведенному.
И фиг с ней, с красной спортивной машиной.
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ


Когда мне исполнилось восемнадцать, родители сказали: «Если ты еще этого не усвоил, то уже не усвоишь». В нашей семье восемнадцатилетие – знаменательный момент. Оно знаменует отсутствие правил. Отсутствие родительского надзора. Независимость. Свободу.
Я окончил школу и, как многие выпускники, не знал, что делать дальше. То есть я думал, что хочу поступить на юридический факультет и выучиться на адвоката, но полной уверенности в этом у меня не было. Тут маме пришла в голову замечательная мысль:
– Мэттью, ты ведь любишь путешествовать. Не хочешь стать студентом по обмену?
Я сразу же согласился:
– А что, интересно же! Приключения…
Мы обратились в местное отделение Ротари-клуба, который вел программу студенческого обмена, и выяснили, что как раз есть два места – одно в Швеции, а второе в Австралии. Солнце, пляжи, серфинг, Эль Макферсон, английский… Я выбрал Австралию. Меня тут же усадили за стол в конференц-зале Ротари-клуба, перед двенадцатью мужчинами в строгих костюмах. Они приняли и рассмотрели мои документы, все одобрили, а потом один из них сказал:
– Мы считаем, что ты станешь великолепным представителем штата Техас и всей нашей страны в далекой Австралии, и готовы отправить тебя в поездку, но сначала ты должен подписать вот эту бумагу – заявление, что домой ты вернешься только по истечении года.
Очень странно.
– Но я и собирался уехать на целый год.
– Все так говорят, – ответил он. – Дело в том, что каждый студент рано или поздно начинает тосковать по дому и возвращается раньше. А этого допускать нельзя, поэтому подписывай. Вот: «Я, Мэттью Макконахи, обещаю не возвращаться домой раньше срока, если только этого не потребуют семейные обстоятельства».
– Я не буду ничего подписывать, – возразил я. – Но готов дать вам честное слово, что не нарушу своего обещания и пробуду в Австралии полный год. – Я посмотрел ему в глаза. – Договорились?
Он кивнул, мы обменялись рукопожатием, и вскоре я уже собирал вещи для путешествия в Австралию. До отъезда оставалось десять дней.

Чуть позже я получил первое письмо из Австралии, от семейства Дулей – с ними мне предстояло провести год. В письме говорилось: «Мы с нетерпением ждем встречи с тобой, Мэттью. Мы живем в настоящем раю. Недалеко от пляжа, в пригороде Сиднея, тебе очень понравится».
Ура! Великолепно. Все, на что я надеялся, – пляж, Сидней. Отлично. Встречай меня, Австралия!
ДЕНЬ 1
Я прибыл в международный аэропорт Сиднея и, забросив вещмешок за плечо, пошел по длинной наклонной дорожке в огромный зал, где стояли тысячи встречающих. Среди шума и гама послышался крик: «Мэттью! Мэттью! Мэттью!» Я обвел зал взглядом и заметил, что над морем голов то и дело появляется чья-то рука, приближаясь к концу дорожки.
– Мэттью! Мэттью! Мэттью!
Я добрался до зала, где меня сразу встретил тот, кто размахивал рукой и выкрикивал мое имя. С ласковой улыбкой на лице он опустил руку, и я ее пожал. Норвел Дулей. Рост 5 футов 4 дюйма, вес 220 фунтов, усы, плешивая голова и английский акцент – как я потом узнал, напускной, для пущей благопристойности.
– Ах, вы только посмотрите! Вот и он – сильный, красивый американский парень! Добро пожаловать в Австралию. Тебе здесь очень понравится.
Он познакомил меня с женой, Марджори: рост 4 фута 10 дюймов, белое полиэстеровое платье с большими зелеными горошинами и ходунки – из-за кифотической деформации позвоночника (в те годы это называлось горб). Я наклонился, обнял ее и поцеловал, а она приложила руки мне к щекам и ласково сказала:
– Добро пожаловать в Австралию, Мэттью. Добро пожаловать в твою новую семью. Познакомься, это мой сын Майкл.
Майкл – застегнутая на все пуговицы рубашка, аккуратно заправленная в брюки; пластмассовый защитный чехольчик в нагрудном кармане; огромная связка ключей на поясе. Как я потом узнал, из всех ключей Майкл пользовался только двумя, но связка явно придавала ему уверенность в себе, как напускной акцент – его отцу. Я протянул ему руку, но он порывисто меня обнял, а потом весьма чувствительно похлопал по спине, приговаривая:
– Мой братишка! Мой братишка!
Такое вот семейство Дулей, прошу любить и жаловать.
Мы уселись в машину и выехали из аэропорта. Я сидел на переднем пассажирском сиденье, Норвел – за рулем, Марджори и Майкл устроились сзади. Где-то через час я заметил, что мы давно проехали и Сидней, и все его пригороды.
– Получается, что, вообще-то, вы живете не в Сиднее? – спросил я Норвела.
– Да, дружище, – гордо ответил он. – В большом городе – большой грех. Грех и разврат. Цивилизованным людям там делать нечего. Мы живем в Госфорде, неподалеку отсюда, на Центральном побережье. Великолепное место. Прекрасные пляжи. Тебе понравится.

