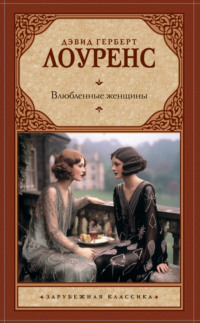
Влюбленные женщины
– Да! Да! Все хорошо, – подтвердил русский. Холлидей молча улыбался.
Неожиданно в дверях опять возникла Минетта, выражение ее детского личика было сердитым и враждебным.
– Я знаю, что вы хотите меня выставить, – послышался ее холодный, довольно звонкий голос. – Но мне наплевать. Мне все равно, хотите вы этого или нет.
Повернувшись, она вновь удалилась. Минетта переоделась в свободный халат из красного шелка, стянутый у талии, и казалась маленьким обиженным ребенком, который не мог не вызвать жалость. И все же Джеральд почувствовал, что ее взгляд сразу же отдал его во власть некой темной силы, и это его почти испугало.
Мужчины вновь закурили, перебрасываясь фразами.
Глава седьмая. Тотем
На следующее утро Джеральд встал поздно. Он хорошо выспался. Минетта все еще спала, похожая во сне на трогательного ребенка. Свернувшись калачиком, она выглядела такой маленькой и беззащитной, что кровь молодого человека вновь закипела от неутоленной страсти, жадной алчущей жалости. Он не сводил с нее глаз. Но было жалко ее будить. Подавив проснувшееся желание, Джеральд вышел из комнаты.
Из гостиной слышались голоса – Холлидей что-то говорил Либидникову. Подойдя к двери, Джеральд, обмотанный шелковым покрывалом приятного голубого цвета с фиолетовой каймой, заглянул внутрь.
К его удивлению, сидящие у камина молодые люди были совершенно голые. Холлидей поднял глаза, вид у него был вполне довольный.
– Доброе утро, – приветствовал он Джеральда. – Вам нужны полотенца? – Он вышел голый в коридор – белое тело выглядело особенно нелепо на фоне тяжелой мебели. Вскоре он вернулся с полотенцами и принял прежнее положение, усевшись на корточки перед камином.
– Вы любите ощущать тепло огня на своей коже? – спросил он.
– Это весьма приятно, – отозвался Джеральд.
– Как, должно быть, замечательно жить в климате, где можно ходить совсем без одежды, – сказал Холлидей.
– При условии, что там не водится ничего, что жалит или кусает, – уточнил Джеральд.
– Да, это серьезная помеха, – пробормотал Максим. Джеральд взглянул на юношу и с легким отвращением увидел в нем, голом и загорелом, довольно унизительное сходство с животным. Холлидей был совсем другим. Он был красив трагической, больной красотой, сумрачной и строгой. Красота мертвого Христа на руках у Богородицы. В такой красоте нет ничего животного, только трагизм страдания. Лишь теперь Джеральд заметил, как прекрасны карие глаза Холлидея с их добрым, застенчивым и все тем же трагическим выражением. Отблеск огня падал на его довольно сутулые плечи; он сидел сгорбившись у камина с восторженным лицом – пусть оно говорило о слабости и безволии, но в нем присутствовала особая трогательная красота.
– Вы ведь бывали в жарких странах, где люди ходят нагишом, – сказал Максим.
– Правда? И где? – воскликнул Холлидей.
– В Южной Америке, на Амазонке, – ответил Джеральд.
– Это замечательно! Жить, никогда не надевая на себя ничего из одежды, – как я мечтаю об этом! Будь такое возможно, я бы считал, что жизнь удалась.
– Неужели? Что до меня, я не вижу особенной разницы, – сказал Джеральд.
– Нет, это чудесно! Не сомневаюсь, что тогда жизнь изменилась бы полностью, стала бы совсем другой, изумительной.
– Но почему? – не понимал Джеральд.
– Ну, тогда можно было бы чувствовать вещи, а не только видеть. Ощущать телом дуновение ветра, осязать вещи вокруг, а не просто видеть. Уверен, жизнь так плоха, потому что мы перегружены зрительными образами, – мы не слышим, не чувствуем, не понимаем, мы только видим. Я думаю, это в корне неправильно.
– Да, ты прав, ты прав, – согласился русский.
Джеральд перевел на того взгляд, отметив красоту смуглого тела, обильно покрытого завитками черных волос, и конечности, похожие на гладкие стебли. Юноша был здоров и красив, отчего же тогда при взгляде на него возникало чувство стыда, отчего появлялось отвращение? Почему вид его тела был неприятен Джеральду, почему оно словно унижало его? Неужели от человеческого тела большего ждать нельзя? Как банально, подумал Джеральд.
В дверях возник Беркин в белой пижаме, с полотенцем через плечо, его волосы были мокрыми. У него был отчужденный вид, он производил какое-то нереальное впечатление.
– Если нужна ванная, она свободна, – сказал он, ни к кому конкретно не обращаясь. Он уже двинулся дальше, когда его окликнул Джеральд:
– Подожди, Руперт!
– Что? – Белая фигура снова появилась в дверях.
– Что ты думаешь об этой скульптуре? Я хотел бы знать, – спросил Джеральд.
Похожий на призрак Беркин подошел к вырезанной из дерева рожающей дикарке. Голое тело с выпяченным животом скрючилось в необычном положении, руки женщины сжимали поверх груди концы ремня.
– Это искусство, – сказал Беркин.
– Прекрасно, просто прекрасно, – прибавил русский.
Все подошли ближе к скульптуре. Глядя на эту группу, Джеральд видел золотистое от загара, похожее на некое водное растение тело русского; рослого Холлидея, красивого тяжелой, трагической красотой; и Беркина, на бледном лице которого не отражалось никаких эмоций. Испытывая непонятное волнение, Джеральд тоже поднял глаза и посмотрел на лицо деревянной скульптуры. И тут его сердце екнуло.
В сознание его ярко врезалось серое, с выступающей вперед челюстью лицо дикарки, угрюмое и напряженное в момент сильнейшего физического напряжения. Страшное лицо, опустошенное, осунувшееся, с которого боль стерла даже намек на мысль. Джеральд вдруг увидел в нем Минетту. Словно во сне, он узнал ее.
– Почему ты называешь это искусством? – спросил он, глубоко потрясенный и возмущенный.
– Скульптура правдива, – ответил Беркин. – Какие бы чувства она ни вызывала, скульптура предельно точно передает определенное состояние.
– Но ее не назовешь высоким искусством, – сказал Джеральд.
– Высокое искусство! До появления этой скульптуры прошли столетия, сотни столетий очень медленного эволюционного развития, это огромный прорыв в культуре своего рода.
– Какой еще культуре? – спросил Джеральд недоверчиво.
– Культуре, передающей чистое ощущение, культуре физического сознания, элементарного физического сознания, без участия разума, исключительно чувственной. И в этом своем качестве – совершенной.
Но Джеральд чувствовал себя оскорбленным. Ему хотелось сохранить некоторые иллюзии, некоторые понятия как своего рода одеяние, покров.
– Тебе нравятся аморальные вещи, Руперт, – сказал он, – те, что направлены против тебя.
– Я понимаю, но мне нравятся не только они, – ответил Беркин отходя.
После ванной Джеральд тоже вернулся в свою комнату голый. Дома он неукоснительно соблюдал все условности и потому, оказавшись на свободе, как сейчас, получал удовольствие, нарушая их. Идя по коридору с голубым шелковым покрывалом через плечо, он чувствовал себя бунтарем.
Минетту он застал еще в постели, она лежала неподвижно, и ее круглые голубые глаза были похожи на излучающие тоску стоячие озера. Джеральд видел эти мертвые бездонные озера ее глаз. Должно быть, она страдала. Ощущение ее смутной тоски оживило прежнее пламя, жгучую жалость, страсть, граничащую с жестокостью.
– Вижу, ты уже проснулась, – сказал он ей.
– Который час? – послышался тихий голос.
Казалось, она отхлынула, словно вода, увидев, что он приближается, и беспомощно зарылась в подушки. Ее взгляд изнасилованной рабыни, чье назначение в том, чтобы ее и дальше подвергали насилию, заставил его задрожать от острого, сладостного ощущения. В конце концов, здесь все решала его воля, женщина была всего лишь пассивным инструментом. Джеральд чувствовал в теле легкое покалывание. Но он знал, что должен уйти от нее, что им нужно расстаться по-хорошему.
Завтрак прошел тихо и благопристойно, все четверо мужчин после ванны блестели чистотой. Джеральд и русский и по внешнему виду, и по манерам были совершенно comme il faut[14]. Беркин выглядел бледным и болезненным, все его старания быть одетым не хуже Джеральда или Максима с треском провалились. Холлидей надел твидовый костюм, зеленую фланелевую рубашку и повязал что-то вроде галстука. Араб внес поднос с множеством тостов, выглядя – до смешного – точно так же, как и вчера вечером.
К концу завтрака объявилась Минетта, закутанная в алое шелковое покрывало, с блестящим ремешком на талии. Она немного приободрилась, но все еще была тиха и молчалива. Для нее было мучительно отвечать на вопросы. Ее лицо казалось маленькой изящной маской, печальной, несущей печать невольного страдания. Близился полдень. Джеральд поднялся, чтобы отправиться по своим делам. Он был рад отлучиться. Но на этом дело не кончилось. Вечером Джеральд встретился с ними вновь, они пообедали вместе, а потом он для всех, за исключением Беркина, заказал места за столиками в мюзик-холле.
Домой они вновь вернулись поздно, изрядно раскрасневшиеся от вина, как и предыдущим вечером. И вновь араб, который неизменно исчезал между десятью и двенадцатью часами, молча, с непроницаемым лицом, внес чай, согнувшись и двигаясь медленно и мягко, как леопард, и поставил поднос на стол. Его лицо по-прежнему казалось аристократическим, кожа имела сероватый оттенок; он был молод и красив. Однако, глядя на него, Беркин испытал легкую тошноту: серый цвет вызвал у него представление о трупном разложении, а якобы аристократическая непроницаемость слуги говорила всего лишь о животной глупости.
Вновь завязался откровенный, пылкий разговор. Но на этот раз компания разваливалась на глазах. Беркин кипел от раздражения, Холлидей воспылал ярой ненавистью к Джеральду, Минетта была сурова и тверда, как кремень, и Холлидей не знал, как ей угодить. Она явно намеревалась взять над ним верх, полностью лишить воли.
Утром все они вновь слонялись по квартире и бездельничали. Но теперь Джеральд отчетливо ощущал непонятную враждебность к себе, пробудившую в нем упрямство и потребность в противостоянии. Он задержался еще на два дня. В результате на четвертый вечер у него произошла бурная и отвратительная стычка с Холлидеем. Тот с нелепой злобой набросился на Джеральда в кафе. Разразился скандал. Джеральд с трудом удержался, чтобы не влепить Холлидею пощечину, но потом вдруг почувствовал прилив отвращения и равнодушия. И тогда он ушел, оставив Холлидея в состоянии глупого ликования по случаю одержанной победы, Минетту, укрепившую свое положение, и Максима, сохранявшего нейтралитет. Беркина с ними не было: он уже покинул город.
Самолюбие Джеральда было уязвлено тем, что он ушел, не дав денег Минетте. Он, конечно, не мог знать, нуждается она в них или нет. Но, возможно, девушка была бы рада получить фунтов десять, да и ему это доставило бы большое удовольствие. Сейчас же он оказался в щекотливом положении. Он шел, покусывая губы и почти жуя кончики коротко подстриженных усов. Джеральд понимал, что Минетта с радостью избавилась от него. Она вернула себе того, кого желала, – Холлидея. Ей хотелось, чтобы он был целиком в ее власти. Тогда она могла бы выйти за него замуж. Она хотела видеть его своим мужем и добивалась этого как могла. О Джеральде она не хотела больше слышать – разве только если окажется в трудном положении и ей понадобится помощь: ведь Джеральд был в ее представлении настоящим мужчиной, все же остальные – Холлидей, Либидников, Беркин и прочее богемное окружение – были мужчинами наполовину. Но только с такими она могла иметь дело. С ними она чувствовала себя уверенно. А настоящие мужчины, вроде Джеральда, быстро ставили ее на место.
И все же она уважала Джеральда и восхищалась им. Она разузнала его адрес, чтобы в случае необходимости обратиться за помощью. Минетта знала, что он хотел дать ей денег. Если придет черный день, она напишет ему письмо.
Глава восьмая. Бредэлби
Построенный в георгианском стиле, с коринфскими колоннами, Бредэлби стоял среди нежно-зеленых холмов Дербишира, недалеко от Кромфорда. Дом выходил на лужайку с подстриженной травой, на ней росли редкие деревья, ниже, в глубине тихого парка, тянулись – один за другим – рыбоводные пруды. За домом, в рощице стояли конюшни, там же были разбиты сад и огород, а дальше начинался настоящий лес.
Это тихое местечко располагалось в нескольких милях от большой дороги, в стороне от Дервент-Вэлли и местных достопримечательностей. Как и много лет назад, дом все так же молчаливо смотрел на парк, сверкая позолотой отделки.
С недавних пор Гермиона подолгу жила в этом доме. Она с удовольствием сбегала из Лондона или Оксфорда в деревенскую глушь. Ее отец по большей части находился за границей, и Гермиона обычно жила в доме со своими гостями, которые здесь никогда не переводились, или с братом, членом парламента от либеральной партии и холостяком. Когда не было парламентских заседаний, он всегда приезжал сюда, и многим казалось, что он вообще безвылазно здесь живет, хотя на самом деле в отношении рабочих обязанностей он был очень щепетилен.
Лето еще только вступало в свои права, когда Урсула и Гудрун второй раз приехали в гости к Гермионе. Въехав в парк на автомобиле, они залюбовались лежащими в молчании прудами и колоннадой дома, который, стоя в окружении деревьев на склоне холма, весь залитый солнцем, казалось, сошел со старинной английской гравюры. По зеленой лужайке двигались маленькие фигурки – это женщины в желтых и бледно-лиловых платьях шли, чтобы укрыться в тени огромного раскидистого кедра.
– Разве он не прекрасен?! – сказала Гудрун. – Он так же совершенен, как старинная акватинта. – В ее голосе звучало нечто похожее на возмущение, как будто это признание она делала против воли.
– Тебе он нравится? – спросила Урсула.
– Не то чтобы нравится, просто я считаю, что в своем роде он совершенен.
Сестры не заметили, как автомобиль, мигом спустившись с одного холма, въехал на тот, где стоял дом, и подкатил к боковой двери. Появилась горничная, а за ней и Гермиона, которая тут же направилась к ним, запрокинув голову и простерши руки. Она заговорила нараспев:
– А вот и вы! Как я рада тебя видеть! – Она поцеловала Гудрун. – И тебя! – Расцеловав Урсулу, она продолжала держать девушку в объятиях. – Очень устала?
– Совсем не устала, – сказала Урсула.
– А ты, Гудрун?
– Тоже нет, спасибо.
– Не-ет, – протянула Гермиона. Она стояла, глядя на девушек, которые испытывали смущение из-за того, что Гермиона не торопилась ввести их в дом, а продолжала разыгрывать сцену встречи прямо на дороге. Слуги терпеливо ждали.
– Прошу, – произнесла наконец Гермиона, досконально рассмотрев обеих девушек. Гудрун и на этот раз показалась ей привлекательней и красивее сестры – Урсула была более земной и женственной. Ее восхитила и одежда Гудрун. Поверх платья из зеленого поплина та надела свободный жакет в широкую бледно-зеленую и темно-коричневую полоску. Шляпку из светло-зеленой (цвета свежескошенной травы) соломки украшала лента, сплетенная из черной и оранжевой тесьмы; чулки были темно-зеленые, туфли черные. Хороший наряд – модный и в то же время оригинальный. Более обычен был темно-синий костюм Урсулы, хотя выглядела она тоже очаровательно.
Сама Гермиона была в красновато-лиловом шелковом платье, коралловые бусы и кораллового цвета чулки дополняли ее туалет. Однако платье было поношенным, несвежим и, можно сказать, просто грязным.
– Хотите сразу пройти в свои комнаты? Хорошо. Тогда идите за мной.
Оставшись одна в комнате, Урсула почувствовала огромное облегчение. Гермиона долго не оставляла их в покое, подробно все объясняя. Разговаривая, она стояла очень близко к собеседнику, почти прижимаясь, что стесняло физически и угнетало морально. Похоже, она всем мешала заниматься своими делами.
Обед подали на лужайке, под огромным кедром, толстые почерневшие ветви дерева почти касались земли. За столом сидело несколько человек – молодая, стройная, хорошо одетая итальянка; мисс Брэдли, тоже молодая, спортивного вида; тощий баронет лет пятидесяти, энциклопедически образованный, все время отпускавший шуточки, над которыми первый же и смеялся громким, грубоватым смехом; Руперт Беркин; и женщина-секретарь, фройляйн Марц – молодая, стройная и хорошенькая.
Все было очень вкусно. Гудрун, которой трудно было угодить, по достоинству оценила еду. Урсуле же нравилось все – покрытый белой скатертью стол под кедром, аромат солнечного дня, вид на зеленеющий парк, где вдалеке мирно паслись олени. Казалось, этот уголок земли заключен в магический круг, вырван из мирской суеты, здесь запечатлелось восхитительное, бесценное прошлое, деревья, олени и сонная тишина.
Однако на душе у Урсулы было невесело. Разговор за столом напоминал перестрелку, частые остроты и каламбуры только подчеркивали нравоучительность реплик, хотя по замыслу должны были придать легкость критическому в целом разговору, который не бил ключом, а скорее вяло струился.
Все это умствование было чрезвычайно утомительным. Только пожилой социолог, чья мозговая ткань изрядно поизносилась и не отличалась особенной чувствительностью, был полностью счастлив. Беркин сидел как в воду опущенный. Гермиона с поразительным постоянством высмеивала его, стараясь унизить в глазах остальных. И удивительнее всего – это, похоже, удавалось: перед ней Беркин был беспомощен. Его можно было принять за полное ничтожество. Урсула и Гудрун почти все время молчали, слушая речи Гермионы, произносимые медленно и нараспев, остроты сэра Джошуа, болтовню фройляйн Марц и замечания двух других женщин.
Обед закончился. Кофе тоже подали на свежем воздухе. Все вышли из-за стола и расположились в шезлонгах – кто на солнце, кто в тени. Фройляйн ушла в дом, Гермиона взяла в руки вышивание, юная графиня углубилась в книгу, мисс Брэдли плела корзинку из травы, и так, неспешно работая и ведя неторопливый и даже в какой-то степени интеллектуальный разговор, они проводили на лужайке этот восхитительный день только что начавшегося лета.
Неожиданно раздался звук тормозов. Хлопнула дверца автомобиля.
– Это Солси, – послышался голос Гермионы, ее забавная певучая интонация. Отложив рукоделье, она встала и пошла по лужайке, скрывшись за кустами.
– Кто это? – поинтересовалась Гудрун.
– Мистер Роддайс, брат мисс Роддайс. Думаю, это он, – сказал сэр Джошуа.
– Да, Солси – ее брат, – подтвердила маленькая графиня, оторвавшись на секунду от чтения только для того, чтобы подтвердить эту информацию на своем слегка гортанном английском.
Все выжидали. И тут из-за кустов показалась высокая фигура Александра Роддайса, он шел к ним широким шагом, как романтический герой Мередита, вызывающий в памяти Дизраэли. Тепло со всеми поздоровавшись, он тут же взял на себя обязанности хозяина, легко и непринужденно оказывая знаки внимания гостям Гермионы. Он только что приехал из Лондона, прямо из парламента. На лужайке на какое-то время воцарилась атмосфера палаты общин: министр внутренних дел сказал то-то, а он, Роддайс, думал то-то, о чем не преминул сказать премьер-министру.
Но вот из-за кустов появилась Гермиона с Джеральдом Кричем – тот приехал с Александром. Познакомив Джеральда со всеми, она дала ему немного покрасоваться в обществе, а потом усадила с собой. Очевидно, он был сейчас ее особым гостем.
В Кабинете министров наметился раскол; министр образования подвергся суровой критике и был вынужден подать в отставку. Это стало отправной точкой для разговора об образовании.
– Несомненно, – начала Гермиона, экстатически вознося глаза к небу, – единственной причиной, единственным оправданием образования может быть лишь радость от обретения чистого знания, от наслаждения его красотой. – Она замолкла, обдумывая еще не до конца созревшую мысль, затем продолжила: – Профессиональное образование – уже не образование, а его смерть.
Радуясь возможности поспорить, Джеральд ринулся в бой.
– Не всегда так, – сказал он. – Разве образование не похоже на гимнастику, разве его целью не является получение натренированного, живого, активного интеллекта?
– Так же, как цель атлетики – здоровое послушное тело, – воскликнула, искренне соглашаясь с Джеральдом, мисс Брэдли.
Гудрун посмотрела на нее с отвращением.
– Ну, не знаю, – протянула Гермиона. – Лично для меня наслаждение от познания так велико, так восхитительно – ничто не может с этим сравниться, уверена, ничто.
– Познания чего, Гермиона? Приведи пример, – попросил Александр.
Гермиона вновь воздела глаза и завела ту же песню:
– М-мм… даже не знаю… Ну, взять хотя бы науку о звездах. Пришло время, когда я что-то о них поняла. Это так возвышает, так раскрепощает…
Беркин метнул в ее сторону испепеляющий взгляд.
– А тебе-то это зачем? – насмешливо поинтересовался он. – Ты ведь не стремишься к свободе.
Оскорбленная Гермиона отшатнулась от него.
– Знание действительно словно раздвигает пространство. Такое ощущение, будто стоишь на вершине горы и видишь оттуда Тихий океан, – сказал Джеральд.
– Застыв в молчанье на горе Дарьен, – пробормотала итальянка, отрывая глаза от книги.
– Не обязательно там, – возразил Джеральд. Урсула рассмеялась.
Когда все затихли, Гермиона продолжала как ни в чем не бывало:
– Знание – величайшая вещь на свете. Только это делает человека по-настоящему счастливым и свободным.
– Да, знание – это свобода, – согласился Мэттесон.
– Употребляемая в виде таблеток, – отозвался Беркин, глядя на плюгавого, сухонького баронета. Знаменитый социолог вдруг представился Гудрун аптечным пузырьком с таблетками спрессованной свободы. Зрелище позабавило ее. Теперь именно таким сэр Джошуа останется в ее памяти.
– Что ты хочешь этим сказать, Руперт? – спросила Гермиона с невозмутимым высокомерием.
– Строго говоря, знать мы можем только то, что уже свершилось и осталось в прошлом, – ответил он. – Это все равно что хранить прошлогоднюю свободу в баночках из-под крыжовенного варенья.
– Почему вы считаете, что можно знать только прошлое? – язвительно спросил баронет. – Разве закон всемирного притяжения распространяется на одно лишь прошлое?
– Да, – сказал Беркин.
– В моей книге есть очаровательное местечко, – неожиданно заговорила маленькая итальянка. – Герой подходит к двери и выбрасывает свои глаза на улицу.
Все рассмеялись. Мисс Брэдли подошла к графине и заглянула через ее плечо в книгу.
– Вот посмотрите! – сказала графиня.
– «Базаров подошел к двери и торопливо бросил глаза на улицу», – прочитала она.
Вновь раздался взрыв хохота, особенно отчетливо звучал смех баронета, – он напоминал грохот падающих камней.
– Что это за книга? – тут же спросил Александр.
– «Отцы и дети» Тургенева, – ответила маленькая иностранка, отчетливо произнося каждый звук. Чтобы не ошибиться, она еще раз взглянула на обложку.
– Старое американское издание, – заметил Беркин.
– Ну конечно же, перевод с французского, – сказал Александр хорошо поставленным голосом. – «Bazarov ouvra la porte et jeta les yeux dans la rue»[15].
Он обвел веселым взглядом гостей.
– Интересно, откуда взялось «торопливо», – поинтересовалась Урсула.
Все стали гадать.
Тут, к всеобщему изумлению, служанка принесла большой поднос с чаем. Как быстро пролетел день! После чая все собрались на прогулку.
– Хотите пойти погулять? – спрашивала Гермиона каждого поочередно. Все согласились, ощущая себя заключенными, которых выводят на прогулку. Отказался только Беркин.
– Пойдешь с нами, Руперт?
– Нет, Гермиона.
– Ты уверен?
– Абсолютно, – ответил он после секундного колебания.
– Но почему? – протянула Гермиона. Ей отказали даже в такой малости, и от этого кровь вскипела в жилах. Она хотела, чтобы все во главе с ней пошли в парк.
– Не люблю ходить в стаде, – ответил Беркин.
У Гермионы перехватило горло, но она собралась с духом и произнесла с нарочитым спокойствием:
– Ну что ж, раз малыш дуется, оставим его дома.
Гермиона произнесла эту колкость с веселым видом, однако ее слова не произвели на Беркина особого впечатления – он просто стал держаться еще отчужденнее.
Направившись к остальным гостям, она обернулась, помахала ему платком и со смехом проговорила нараспев:
– До свидания, до свидания, малыш.
– До свидания, злобная карга, – сказал он про себя.
Гости пошли в парк. Гермионе хотелось показать дикие нарциссы, растущие на склоне холма. «Сюда, сюда», – напевно и неторопливо звучал ее голос. Всем вменялось в обязанность следовать за ней. Нарциссы были прелестные, но никто не обратил на них внимания. К этому времени Урсула кипела от возмущения, ее бесила сама атмосфера приема. Гудрун наблюдала и фиксировала все ироничным и бесстрастным взглядом.
Они видели пугливого оленя; Гермиона говорила с ним так, будто он юноша, которого она хочет обольстить. То был самец, поэтому ей надо было показать свою власть над ним. Возвращались гости через пруды, что дало Гермионе повод рассказать о ссоре двух лебедей из-за дамы. Она заливалась смехом, вспоминая, как отвергнутый влюбленный сидел на берегу, спрятав голову под крылом.

