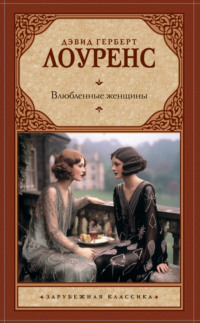
Влюбленные женщины
Когда они подошли к дому, Гермиона, стоя на лужайке, прокричала необычно резким и громким голосом:
– Руперт! Руперт! – Первый слог звучал высоко и протяжно, второй резко падал вниз. – Ру-у-у-перт!
Никто не отзывался. Вышла служанка.
– Где мистер Беркин, Элис? – нежным, слабым голосом спросила Гермиона. Но какая же сильная, почти бешеная воля скрывалась под этим нежным голосом!
– Думаю, в своей комнате, мадам.
– Вот как?
Гермиона неспешно поднялась по лестнице и пошла по коридору, протяжно и пронзительно выкрикивая:
– Ру-у-уперт! Ру-у-уперт! – Она остановилась у дверей его комнаты и постучала, не переставая звать: – Ру-уперт!
– Да, – отозвался он наконец.
– Что ты делаешь? – Голос ее звучал мягко и заинтересованно.
Ответа не последовало. Но дверь открыли.
– Мы вернулись, – сообщила Гермиона. – Нарциссы прекрасны.
– Да, – согласился он. – Я их видел.
Гермиона посмотрела на него долгим, плывущим, лишенным всяких эмоций взглядом.
– Видел? – повторила она с вопросительной интонацией, не сводя с Беркина глаз. Их стычка возбудила ее, придала сил, она увидела в мужчине капризного, беспомощного мальчика, который, попав в Бредэлби, полностью оказался в ее власти. Однако в глубине души Гермиона предчувствовала близость разрыва, и это подсознательно рождало в ней неудержимую ненависть.
– Чем ты занимался? – повторила Гермиона все тем же мягким и безразличным голосом. Беркин не ответил, и она почти машинально шагнула в комнату. Оказывается, он принес из будуара китайский рисунок, изображающий гуся, и копировал его умело и талантливо.
– Так ты делаешь копию? – сказала она, стоя у стола и глядя на работу. – Отлично получается! Значит, тебе нравится этот рисунок?
– Он просто великолепен, – подтвердил Беркин.
– Ты так считаешь? Приятно слышать – ведь он мне тоже нравится. Это подарок китайского посла.
– Знаю, – сказал Беркин.
– Но зачем заниматься копированием? – небрежно спросила Гермиона, растягивая слова. – Можно нарисовать и что-то свое.
– Мне хотелось глубже погрузиться в рисунок, – ответил Беркин. – Делая с него копию, о Китае поймешь больше, чем из всех книг о нем, вместе взятых.
– И что же ты понял?
Гермиона сразу же встрепенулась, ей страстно хотелось вытянуть из Беркина все его тайны. Она должна их знать. Пусть это желание тирана, наваждение, но она не могла не знать того, что знал он. Некоторое время Беркин хранил молчание, ему мучительно не хотелось отвечать, но, уступая нажиму, он все же заговорил:
– Я постигаю жизненно важные для них вещи, то, что они ощущают и чувствуют, – жаркое, волнующее присутствие гуся в холодной и мутной воде, его горячую, жгучую кровь, смешивающуюся с их кровью и обжигающую ее порочным пламенем – пламенем холодного огня, тайной лотоса.
Гермиона смотрела на него. Ее взгляд из-под тяжелых, набрякших век и бледные впалые щеки производили странное впечатление, будто она накачалась наркотиками. Тощая грудь судорожно вздымалась. Но Беркин выдержал этот взгляд все с тем же ужасающим спокойствием. Болезненно содрогнувшись, она отвернулась, почувствовав, как что-то неприятное зарождается в ее теле, словно ее сейчас вырвет. И все потому, что она не могла уразуметь смысл его слов, Беркин застиг ее врасплох и победил, применив некое хитроумное, тайное оружие.
– Да, – сказала Гермиона, сама не понимая, что говорит. – Да, – повторила она, сглатывая и пытаясь собраться с мыслями. Но ей это не удавалось, мысли путались, она чувствовала себя глупой. Даже если б она напрягла всю свою волю, это не помогло бы. Она испытывала ужас от переживаемого состояния – в ней все словно порушилось. А он стоял и смотрел, не сопереживая ей. Пошатываясь, Гермиона вышла из комнаты бледная как смерть, как человек, одержимый бесами. Она была похожа на труп, чьи связи с внешним миром оборвались. Как жесток и мстителен Беркин!
К обеду Гермиона вышла загадочная и мрачная, глаза ее пылали темным огнем. Она надела обтягивающее фигуру платье из тяжелой старинной парчи зеленоватого цвета и от этого стала казаться выше ростом. Вид у нее был зловещий. В ярко освещенной гостиной она являла собой тягостное и жутковатое зрелище, но в полумраке столовой, сидя с негнущейся спиной за столом, на котором стояли свечи с абажурчиками, она производила не столько страшное, сколько внушительное впечатление. Гермиона рассеянно следила за беседой и так же рассеянно выполняла обязанности хозяйки.
За столом собралась веселая и внешне экстравагантная компания. Все, за исключением Беркина и Джошуа Мэттесона, были в вечерних туалетах. Платье маленькой итальянской графини из оранжево-золотой ткани с черным бархатом ниспадало мягкими, свободными складками. Изумрудно-зеленый наряд Гудрун был отделан оригинальным кружевом, Урсула надела желтое платье с серебристо-стальным чехлом поверх него; мисс Брэдли использовала в одежде сочетания серого, малинового и черного; фройляйн Марц была в бледно-голубом. Внезапно Гермиону пронзило острое наслаждение от созерцания при свечах таких сочных и ярких цветов. Вокруг стоял непрекращающийся гул голосов, особенно отчетливо звучал голос Джошуа, слышались частые взрывы женского смеха и ответные реплики. Для Гермионы эти разговоры проходили как бы стороной, они создавали нечто вроде фона, вместе с пиршеством цвета, белой скатертью, тенями у потолка и пола. Она, казалось, погрузилась в блаженный экстаз, переживая минуты истинного наслаждения, и в то же время чувствовала себя не в своей тарелке, словно оказалась призраком в веселом кругу гостей. Сама она почти не участвовала в беседе, однако все слышала и понимала.
Забыв об этикете, гости дружно и непринужденно, словно были одной семьей, перешли в гостиную. Фройляйн разлила кофе, все курили сигареты или длинные трубки из белой глины, заготовленные заранее в достаточном количестве.
– Что будете курить, сигареты или трубку? – любезно спрашивала фройляйн.
В уютной, мягко освещенной гостиной гости полукругом уселись у мраморного камина, где потрескивали тлеющие дрова: сэр Джошуа, словно пришедший из восемнадцатого века; Джеральд – всем довольный молодой и красивый англичанин; рослый и представительный Александр – демократичный и здравый политик; высокая Гермиона, напоминающая своей загадочностью Кассандру, и прочие женщины, чьи одежды переливались всеми цветами радуги.
Разговор сбивался то на политику, то на социологию, оставаясь всегда интересным, с пикантным анархическим привкусом. В комнате скопилась мощная и разрушительная энергетика. Урсуле казалось, что все здесь ведьмы и колдуны, готовящие на огне зелье. В этой волнующей атмосфере была сладкая отрава, губительная для непривычных к ней людей, – они испытывали мощную интеллектуальную атаку – разрушительную и всепоглощающую, она исходила от Джошуа, Гермионы и Беркина и захватывала всех остальных.
Однако на Гермиону все чаще накатывали слабость и пугающая тошнота. Разговор вдруг оборвался, словно подчиняясь ее бессознательной, но сокрушительной воле.
– Солси, сыграй нам что-нибудь, – попросила Гермиона, окончательно переломив ситуацию. – Может, кто-нибудь потанцует? Гудрун, ты ведь будешь? Ну пожалуйста. Мне бы этого хотелось. Anche tu, Palestra, ballerai? Si, per piacere[16]. И ты, Урсула.
Гермиона встала и неспешно потянула за расшитый золотом шнур, висящий рядом с камином, некоторое время она удерживала его, потом резко отпустила. Она была похожа на жрицу в состоянии глубокого транса.
Вошла служанка с охапкой платьев, шалей и шарфов – почти все в восточном стиле, такие вещи Гермиона с ее пристрастием к красивой и экстравагантной одежде постоянно коллекционировала.
– Будут танцевать три женщины, – объявила она.
– А что они будут танцевать? – спросил Александр, проворно вставая.
– Vergini delle Rocchette[17], – мигом ответила графиня.
– Они такие вялые, – сказала Урсула.
– Можно изобразить трех ведьм из «Макбета», – предложила фройляйн.
В конце концов сошлись на истории Ноемини, Руфи и Орфы. Урсуле отдали роль Ноемини, Гудрун – Руфи, графине – Орфы. Решено было импровизировать в стиле русского балета Павловой и Нижинского.
Графиня подготовилась раньше остальных, Александр сел за рояль, остальные потеснились, освобождая место. Орфа, в великолепном восточном наряде, начала исполнять медленный танец, изображая горе от потери супруга. К ней присоединилась Руфь, и теперь они обе плакали и сокрушались. Затем Ноемини пришла утешать их. Женщины не произносили ни звука, они избывали свои чувства в жестах и движении. Эта маленькая драма длилась четверть часа.
Урсула была великолепной Ноемини. Все ее близкие мужчины умерли, ей оставалось только пребывать в одиночестве, не терять присутствия духа и ничего не требовать от судьбы. Любящая женщин Руфь привязалась к ней. Орфа же, живая, чувственная и ловкая, став вдовой, вернется к прежней жизни, начнет все сначала. Взаимоотношения женщин танцовщицы изображали естественно, но эти отношения были довольно пугающими. Было странно видеть, как Гудрун надрывно, в отчаянии льнет к свекрови и в то же время злорадно насмехается над ней, как Урсула молча смиряется с неизбежным, не в силах что-нибудь изменить в лучшую сторону для себя или для невестки, но в этом смирении было нечто зловещее и упорное, вступающее в противоречие с ее горем.
Гермиона получала удовольствие, созерцая графиню, ее быстрые и точные движения маленького хищного зверька; Гудрун, пылко и коварно льнущую к Ноемини, которую танцевала ее сестра; и Урсулу с ее зловещей беспомощностью, будто на нее давил, не отпуская, тяжкий груз.
– Великолепно, – дружно закричали все.
Но у Гермионы, узнавшей то, что не было известно ей прежде, сжалось сердце. Она потребовала, чтобы танцы продолжались, и ее настойчивость привела к тому, что графиня и Беркин исполнили комический танец под звуки «Мальбрука».
Джеральда взволновал вид льнущей к Ноемини Гудрун. Сущность этой женщины, затаенные дерзость и насмешка будоражили его кровь. Ему не удавалось забыть ее танец – бремя забот, которое она принимала на себя любовно, отважно и в то же время насмешливо. Беркин же, следящий за происходящим, как рак-отшельник из норки, отметил прекрасно переданные Урсулой отчаяние и беспомощность Ноемини. В Урсуле чувствовалась богатая натура, неисчерпаемая, таящая опасность мощь. Она, как девушка-подросток, ничего не знала о своей яркой, всепокоряющей женственности. Беркина бессознательно влекло к ней. Она была его будущим.
Александр заиграл что-то венгерское, и все принялись танцевать, охваченные внезапным азартом. Джеральд получал удовольствие от движения, стараясь держаться ближе к Гудрун; в его обретшем свободу теле бурлила сила, однако ноги не могли перестроиться на новый лад и позабыть о вальсе и тустепе. Он еще не умел танцевать современные танцы с конвульсивными ритмами, вроде рэгтайма, но хотел попытаться. Что до Беркина, то он, освободившись в танце от тяжести, которую он испытывал среди чужих ему по духу людей, отплясывал лихо и весело. И как же ненавидела его Гермиона за эту безоглядную веселость!
– Теперь мне ясно, – восхищенно воскликнула графиня, глядя, как он задорно танцует. – Мистер Беркин подобен оборотню.
Гермиона пристально взглянула на нее и пожала плечами, понимая, что только иностранка могла это заметить и сказать вслух.
– Cosa vuol’dire Palestra?[18] – произнесла она нараспев.
– Взгляни сама, – сказала графиня на итальянском. – Он не мужчина, он хамелеон, существо, постоянно меняющее свое обличье.
«Он не мужчина, не один из нас, он ненадежный», – промелькнуло в голове у Гермионы. Душа ее содрогнулась, не в силах вынести темного подчинения этому мужчине, ведь он способен отключаться, существовать отдельно, а все потому, что он непоследовательный, не мужчина, а нечто меньшее. В ее ненависти к нему было отчаяние, оно надрывало душу, разрушало, она словно разлагалась, как труп, не чувствуя ничего, кроме этого тошнотворного состояния распада, свершавшегося в ее душе и теле.
Дом был переполнен, и потому Джеральду отвели маленькую комнату, а точнее, гардеробную, примыкавшую к спальне Беркина. Когда все, взяв свечи, пошли наверх, где свет горел вполнакала, Гермиона увела Урсулу в свою комнату поболтать. В большой, необычно обставленной спальне Урсула чувствовала себя скованно. Казалось, Гермиона отчаянно молила ее о чем-то, не высказывая, однако, открыто своей просьбы. Они рассматривали шелковые индийские ночные рубашки, яркие и сексуальные, любовались кроем, их изощренным, почти безнравственным великолепием. Гермиона почти вплотную подошла к Урсуле, грудь ее трепетала, и Урсулу охватила паника. Взгляд измученных, ввалившихся глаз остановился на лице Урсулы, и Гермиона увидела на нем страх, все то же свидетельство надвигающейся катастрофы. Урсула взяла в руки рубашку насыщенного алого и синего цветов, сшитую для четырнадцатилетней княжны, и машинально воскликнула:
– Разве это не чудо? Кто еще осмелился бы совместить два таких ярких цвета?
Вошла горничная Гермионы, и охваченная страхом Урсула, повинуясь порыву, поспешила удалиться.
Беркин сразу пошел спать. Его тянуло ко сну, он чувствовал себя счастливым. После танцев он пребывал в блаженном состоянии. Однако Джеральду не терпелось поговорить с ним. Не снимая фрака, он сел на краешек постели и стал задавать вопросы.
– Откуда взялись эти сестры Брэнгуэн? – первым делом спросил он.
– Они живут в Бельдовере.
– В Бельдовере? Но кто они такие?
– Учителя.
Последовало молчание.
– Вот оно что! – воскликнул наконец Джеральд. – То-то мне показалось, что я видел их раньше.
– Ты разочарован? – спросил Беркин.
– Разочарован? Я? Конечно, нет, но как Гермиона решилась их пригласить?
– Она познакомилась в Лондоне с Гудрун – той сестрой, что моложе, у нее более темные волосы, – она художница, занимается скульптурой и моделированием.
– Выходит, учительницей работает только другая сестра?
– Нет, обе. Гудрун ведет рисование, а Урсула классная дама.
– А кто у них отец?
– Преподает основы трудовой деятельности.
– Да ну!
– Классовые барьеры, как видишь, рушатся!
Джеральду всегда становилось не по себе, когда Беркин принимал подобный насмешливый тон.
– Значит, отец этих девиц учитель труда? Но что мне до того?
Беркин рассмеялся. Джеральд смотрел на его смеющееся лицо, сохранявшее, однако, горькое и одновременно равнодушное выражение, и сидел, не чувствуя в себе сил встать и уйти.
– Не думаю, что Гудрун здесь надолго задержится. Она непоседа, неделя-другая – и наша птичка улетит, – сказал Беркин.
– И куда же?
– Кто знает? В Лондон, Париж, Рим. Гудрун может очутиться в Дамаске или Сан-Франциско – она ведь райская птичка. Непонятно, как она оказалась в Бельдовере. Что-то из области снов, в них плохое – к хорошему, и наоборот.
Джеральд задумался.
– Откуда ты так хорошо ее знаешь? – спросил он.
– Я познакомился с ней в Лондоне, – ответил Беркин, – в компании Алджернона Стрейнджа. Даже если она не знакома с Минеттой, Либидниковым и остальными, то знает о них понаслышке. Гудрун не совсем их круга – более светская, что ли. Я знаком с ней уже года два.
– Значит, она зарабатывает не только преподаванием? – поинтересовался Джеральд.
– Нерегулярно. Продает свои работы. У нее есть кое-какая rе́clame[19].
– И за какие деньги?
– От гинеи до десяти.
– Ее работы хороши? Что они собой представляют?
– Некоторые, на мой взгляд, просто великолепны. Те две трясогузки, вырезанные из дерева и раскрашенные, что ты видел в будуаре Гермионы, вышли из ее рук.
– А я думал, это тоже дикарская штучка.
– Нет, трясогузок вырезала она. Все ее поделки – зверюшки, птицы, человечки – странные, хоть и в обычной одежде, – просто прелесть! Во всех есть неуловимое своеобразие.
– И что, со временем она может стать известной художницей? – задумчиво произнес Джеральд.
– Может. Хотя я так не думаю. Если она увлечется чем-то другим, то бросит искусство. Своенравный, противоречивый характер мешает ей отнестись к своему дару серьезно, она не хочет уходить с головой в искусство, боится потерять себя. Впрочем, себя она никогда не потеряет – слишком силен в ней инстинкт самосохранения. Это как раз и не нравится мне в женщинах такого типа. Кстати, как сложились твои отношения с Минеттой после моего отъезда? Я ничего об этом не знаю.
– Хуже не бывает. Холлидей вдруг стал совершенно невыносимым. Я еле сдержался, чтобы не всыпать ему как следует.
Беркин помолчал.
– Джулиус в каком-то смысле безумен. Он помешан на религии и в то же время очарован пороком. То он прислужник Христа, омывающий Ему ноги, то живописец, рисующий непристойные картинки с изображениями Иисуса, – действие и противодействие, и никакой золотой середины. Джулиус действительно не в своем уме. Он мечтает о чистой лилии, о девушке с боттичеллиевским ликом, но одновременно ему необходима Минетта, чтобы осквернить себя, вываляться с ней в грязи.
– Вот этого я не понимаю, – сказал Джеральд. – Любит он Минетту или нет?
– Не то и не другое. Для него она просто шлюха, похотливая потаскушка. Он испытывает непреодолимое желание слиться с ней, окунувшись в ту же грязь. А затем приходит в себя и взывает к чистой лилии, девушке с детским личиком, получая от этого контраста удовольствие. Старая песня: действие и противодействие – и ничего между ними.
– Не думаю, что он так уж не прав в отношении Минетты, – проговорил Джеральд, немного помолчав. – Мне она показалась довольно непотребной.
– А я было решил, что она тебе понравилась, – воскликнул Беркин. – Со своей стороны, я всегда чувствовал к ней симпатию. Но у меня, по правде говоря, никогда с ней ничего не было.
– Первые два дня она мне нравилась, не скрою, – сказал Джеральд. – Но уже через неделю меня бы от нее воротило. У женщин такого сорта кожа как-то особенно пахнет, поначалу это приятно, а потом начинает тошнить.
– Понимаю, – произнес Беркин и несколько раздраженно прибавил: – Давай спать, Джеральд. Уже поздно.
Джеральд взглянул на часы, неспешно поднялся и направился в свою комнату. Однако через несколько минут вернулся – уже в одной рубашке.
– И последнее, – сказал он, снова присаживаясь на кровать. – Наше расставание было довольно бурным, и у меня не было времени на то, чтобы как-то отблагодарить Минетту.
– Ты имеешь в виду деньги? – спросил Беркин. – Пусть это тебя не беспокоит. Все, что ей нужно, она получит от Холлидея или от других друзей.
– И все же я предпочел бы расплатиться и покончить с этим, – сказал Джеральд.
– Она об этом и не думает.
– Возможно. Однако по счету не уплачено, надо это сделать.
– Ты этого хочешь? – спросил Беркин. Ему были видны белые ноги Джеральда, сидящего на краю кровати. Незагорелые, мускулистые, мощные, красивые, совершенные. И все же, глядя на эти ноги, Беркин испытал что-то вроде жалости и нежности, словно они принадлежали ребенку.
– Да, хотел бы, – повторил Джеральд.
– Это не имеет никакого значения, – упорствовал Беркин.
– Ты постоянно так говоришь, – сказал несколько озадаченный Джеральд, с нежностью глядя на лицо лежащего мужчины.
– Так оно и есть, – отозвался Беркин.
– Но она была со мной так мила…
– Кесарево – жене кесаря, – проговорил Беркин, отворачиваясь. Ему казалось, что Джеральду просто хочется поболтать. – Иди спать, ты меня утомил, уже поздно, – прибавил он.
– Хочется, чтобы ты сказал мне нечто, что имело бы значение, – сказал Джеральд, не сводя глаз с лица друга и словно чего-то выжидая. Однако Беркин не смотрел на него.
– Ладно, спи. – Джеральд с нежностью коснулся плеча мужчины и вышел из комнаты.
Утром, проснувшись и услышав, что Беркин зашевелился в своей комнате, Джеральд прокричал:
– И все же я должен заплатить Минетте.
– Господи, да не будь ты таким педантом. Закрой этот счет в своей душе, если хочешь. Ведь именно там он напоминает о себе.
– Откуда тебе это известно?
– Потому что я знаю тебя.
Джеральд немного подумал.
– Мне кажется, таким женщинам, как Минетта, правильнее платить.
– А любовниц правильнее содержать. А с женами правильнее жить под одной крышей. Integer vitae scelerisque purus[20], – сказал Беркин.
– К чему это ехидство? – заметил Джеральд.
– Надоело. Твои грешки меня не волнуют.
– Хорошо. Но меня-то волнуют.
День опять выдался солнечный. Вошла горничная, принесла воды и раздвинула шторы. Сидя в постели, Беркин с удовольствием, бездумно смотрел на зеленеющий парк – тот выглядел заброшенным и романтичным, будто перенесенный из прошлого. Как красиво, безупречно, законченно, как совершенно все, пришедшее из прошлого, – думал Беркин, – прекрасного, славного прошлого, – этот дом, мирный и величественный парк, столетиями погруженный в спокойный сон. И в то же время какая ловушка, какой обман таится в красоте этих мирных вещей: Бредэлби на самом деле – ужасная мрачная тюрьма, а этот покой – невыносимая пытка одиночного заключения. И все же лучше жить здесь, чем участвовать в грязных конфликтах современной жизни. Если б было возможно создавать будущее в соответствии с влечениями сердца, внести в него хотя бы не много чистой истины, сделать попытку приложить простые истины к жизни – вот чего постоянно просила душа.
– Уж не знаю, что, ты считаешь, должно меня волновать, – донесся голос Джеральда из его комнаты. – Минетта – не должна, шахты – тоже, и все остальное в придачу.
– Да все, что угодно, Джеральд. Просто меня это не интересует, – сказал Беркин.
– И что же мне делать? – раздался голос Джеральда.
– Что хочешь! А что делать мне?
Джеральд молчал, и Беркин понимал, что тот думает.
– Черт меня подери, если я знаю, – добродушно отозвался Джеральд.
– Видишь ли, – сказал Беркин, – часть тебя хочет Минетту, и ничего, кроме нее, другая – управлять шахтами, заниматься бизнесом и ничем больше – в этом ты весь, в раздрызге…
– А еще одна часть хочет чего-то другого, – произнес Джеральд необычно тихим и искренним голосом.
– И чего же? – спросил удивленный Беркин.
– Я надеялся, что ты мне скажешь, – ответил Джеральд.
Воцарилось молчание.
– Как я могу сказать – я и свой путь не могу отыскать, не то что твой. Но ты можешь жениться, – нашелся Беркин.
– На ком? На Минетте? – спросил Джеральд.
– А почему нет? – Беркин встал и подошел к окну.
– Вижу, ты считаешь женитьбу панацеей. Но тогда почему не испробовал на себе? Ты сам основательно болен.
– Согласен, – сказал Беркин. – Но я пойду напрямик.
– Ты имеешь в виду женитьбу?
– Да, – упрямо подтвердил Беркин.
– И нет, – прибавил Джеральд. – Нет, нет, нет, дружище.
Снова воцарилось молчание, в нем ощущалась напряженная враждебность. Они всегда сохраняли дистанцию между собой, дорожа свободой, не желая быть связанными дружескими обязательствами. И все же их непонятным образом тянуло друг к другу.
– Salvator femininus[21], – насмешливо произнес Джеральд.
– А почему бы нет? – сказал Беркин.
– Никаких возражений, если это поможет. А на ком ты хочешь жениться?
– На женщине.
– Уже неплохо, – сказал Джеральд.
Беркин и Джеральд последними вышли к завтраку. Гермиона же любила, чтобы все вставали рано, страдая при мысли, что ее день может сократиться, – она не хотела обкрадывать себя. Гермиона словно брала время за горло, выдавливая из него свою жизнь. Утром она была бледная и мрачная, как будто о ней забыли. Но в ней все равно чувствовалась сила, воля никогда ее не покидала. Молодые люди, войдя в столовую, сразу же почувствовали напряжение в атмосфере.
Подняв голову, Гермиона произнесла нараспев:
– Доброе утро! Хорошо спали? Я очень рада.
И отвернулась, не дожидаясь ответа. Беркин, прекрасно ее знающий, понял, что она решила его не замечать.
– Берите что хотите с сервировочного стола, – сказал Александр голосом, в котором слышались недовольные нотки. – Надеюсь, еда еще не остыла. О Боже! Руперт, выключи, пожалуйста, огонь под блюдами. Спасибо.
Когда Гермиона сердилась, Александр тоже принимал властный тон. Он всегда подражал сестре. Беркин сел и окинул взглядом стол. За годы близости с Гермионой он привык к этому дому, этой комнате, этой атмосфере, но теперь все изменилось: он чувствовал, что все здесь ему чуждо. Как хорошо он знал Гермиону, молча сидевшую с прямой спиной, погруженную в свои мысли, но не терявшую при этом ни силы, ни власти! Он знал ее как свои пять пальцев – так хорошо, что это казалось почти безумием. Трудно было поверить, что он не сходит с ума и не находится в зале властителей в одной из египетских гробниц, где мертвые восседают с незапамятных времен, внушая благоговейный ужас. Как досконально изучил он Джошуа Мэттесона, безостановочно что-то бубнящего грубоватым голосом в несколько жеманной манере, всегда нечто умное, всегда интересное, но никогда – новое; все, что он говорил, было давно известно, как бы свежо и умно это ни звучало. Александр, современный хозяин, снисходительный и раскованный; фройляйн, так очаровательно со всеми соглашавшаяся, как ей и положено; изящная графиня, все понимающая, но предпочитающая вести свою маленькую игру, бесстрастная и холодная, как ласка, которая следит за происходящим из укрытия: она развлекается, ничем себя не выдавая; и наконец мисс Брэдли, скучная и услужливая, Гермиона обращалась к ней с холодным и снисходительным презрением, такое отношение перенимали и остальные – все они были давно известны Беркину, и общение с ними напоминало игру, в которой роли фигур никогда не менялись, в ней были ферзь, кони, пешки, и они вели себя, как сотни лет назад, – те же фигуры двигались в одной из бесконечных комбинаций. Сама игра всем известна, и то, что она все еще существует, – сущее безумие, она исчерпала себя.

