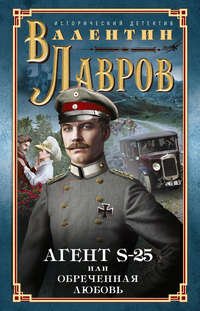
Секретный агент S-25, или Обреченная любовь
Зато в старую столицу нахлынуло много нового люда, преимущественно восточного типа. И каждый находил в Москве уютное место.
* * *Чтобы внести свою лепту в общее дело битвы за великую Россию, этим хмурым днем, обрядившись в новенькую солдатскую шинель, забросив за широкую спину вещевой мешок, покинул родной кров неустрашимый воин Аполлинарий Соколов. Стремительным шагом он вышел из подъезда громадного дома у Красных ворот.
На углу Орликова переулка в роскошных, расписных лаком ковровых саночках зябко оправлял синего цвета зипун, крепко перепоясанный толстым шнурком, лихач.
Лихач не обращал внимания на солдата. Соколов, не спрашивая позволения, с хозяйской властностью швырнул в сани видавший виды вещевой мешок. Затем уселся и сам, набросив на колени медвежью полость.
Лихач, возивший особ значительных, капитальных, с презрением сплюнул через губу:
– Угорел, что ль, служивый?
Солдат уставил в лихача стальной взгляд:
– Вези на Брест-Литовский вокзал.
Лихач рассмеялся, с чувством превосходства заговорил:
– Ну ты, солдат, дурак дураком! Сразу видно: в деревне лаптями шти хлебал. С солдатским кошельком на драной собаке верхом ездить, а не в лакированных саночках наслаждаться. Посидел, солдатик, в роскоши, а теперь сползай на сторону!
Соколов первый экзамен на смирение выдержал. Вместо того чтобы кулаком поучить по наглой морде извозчика, Соколов снял вязаную варежку, запустил ручищу в карман, протянул рубль:
– Кстати, а почему ты не в действующей армии? Харчи, видать, дешевы стали, что морду себе сростил, а?
Лихач, уставший от долгого ожидания седока, с удовольствием спрятал целковый в кожаный кошелек, весело сказал:
– Коли уплачено, весело понесем, ветер не догонит! А не в царской службе потому, что я единственный сын у законных родителев, кормилец то есть.
– Гони, кобылий командир! Да не под хвост гляди, а на дорогу.
Сани полетели по наезженному снежному насту Садового кольца, тряслись и весело подпрыгивали на ухабах.
…На вокзальной площади было суетно. То и дело раскатывали автомобили – легковые, с офицерами и порученцами, с крытым верхом и красным крестом на боку – санитарные, перевозившие раненых, ломовые извозчики с тяжело груженными санями. Извозчик нахально заканючил:
– Солдат, добавить бы надо!
Городовой засвистел:
– Проезжай! Не загораживай…
Соколов, взвалив на плечо вещевой мешок, ухватил задок саней. Лихач, не замечая этого маневра и опасаясь штрафа, торопливо дернул вожжи:
– Н-но, пошли, паразиты!
Саночки – ни с места.
Городовой принялся ругаться сильней, огрел лихача кулаком по спине. Лихач хлестал коней, но те упирались, били копытами, скользили по наезженной мостовой – коляска ни с места.
– Что за черт! – Лихач удивленно выкатил глаза. – Как к месту прирос!
Вмиг собравшаяся толпа разглядела маневр солдата и умирала со смеху. Наконец Соколов отпустил задок. Сани рванули вперед, а лихач от толчка едва не вывалился на снег, густо усыпанный конскими лепешками.
Толпа восторженно выдохнула:
– Ну и богатырь! Двух коней солдат одной рукой удерживал. Куда уж германцу с таким справиться…
Соколов направился к вокзальному помещению.
Солдатская доля
Агент S-25, прибыв на вокзал, как и следовало, направился к военному коменданту. Возле кабинета с громадными филенчатыми дверями скучало десятка три людей в военной форме. В основном это были солдаты-отпускники, возвращавшиеся в свои части, зауряд-прапорщики из вольноопределяющихся, урядник с солдатским Георгием на бурке, два фельдфебеля, еще кто-то в казачьей папахе.
Соколов встал в конце очереди, приготовившись к мучительной для него процедуре – терпеливому ожиданию. Минут через пятьдесят подошла его очередь. За столом сидел комендант в чине капитана. По всему его измученному виду было заметно: он смертельно устал. Равнодушным тоном произнес:
– Что у тебя, рядовой?
Соколов протянул воинское требование на билет и солдатскую книжку. Комендант, не читая документы, сделал помету на воинском требовании, сказал:
– Иди к дежурному, он выдаст тебе билет в вагон третьего класса.
Дежурный долго, скрупулезно изучал солдатскую книжку, испещренную пометками о проступках и наказаниях, разглядывал печати. Хмыкнул и с любопытством уставился на Соколова, прочитав, что тот разжалован в рядовые из полковника. Со злобой пролетария к аристократу ткнул пальцем:
– А почему здесь подпись неясная? И печать смазана?
Соколов холодно парировал:
– Потому что неясно расписался писарь. Наверное, в гимназии неусерден был в каллиграфии. А когда печать прикладывал, руки после пьянки тряслись.
Дежурный заругался:
– Шутить будете в другом месте! – и, брызгая чернилами, нацарапал на билете фамилию и звание Соколова, сунул в окошко.
– Литерный поезд номер сто семнадцать до Минска уже подан на первый перрон.
Соколов, не выходя на улицу, через боковую дверь пошел в зал ожидания, чтобы выйти к платформам. Когда-то в мирное время, направляясь в Европу, он прежде бывал там множество раз.
Едва Соколов появился в малолюдном зале, как его кто-то толкнул в спину и грубо окрикнул:
– Рядовой, куда прешься?
Соколов увидал маленького роста, с узким прыщеватым лицом и глубоко утопленными глазками прапорщика. Соколова удивила непонятная ненависть, с какой этот некрасивый и тщедушный юнец глядел ему в глаза. Смиряя себя, Соколов стал объяснять:
– У меня железнодорожный билет, я иду на платформу.
Прапорщик, распаляясь все больше и, видимо, сам наслаждаясь своим гневом, громко закричал:
– Молчать! Почему, спрашиваю, прешься в зал для офицеров? Не знаешь своего места? Дезертир, шпион? – Он резко, словно галка, повертел головой, махнул рукой: – Патруль, проверь документы у этого…
К Соколову тут же подошел подпрапорщик в новенькой с блестящими пуговицами шинели. На тонком сухом носу поблескивало пенсне. Соколов подумал: «Похож на недоучившегося правоведа».
Подпрапорщик потянул Соколова за рукав:
– Отойди от прохода! Куда направляешься?
– Читать умеешь? Тут нацарапано: в Московский разведывательный батальон, литерным поездом номер сто семнадцать.
– Почему старшего по званию называешь на «ты»?
Соколов прожег прапорщика взглядом:
– Потому что старший по званию – хам, который не знает устава!
Подпрапорщик выкатил глаза.
– Во-от оно что! – Задумчиво почмокал губами, напустил на юную физиономию важность. – Может, и впрямь ты шпион? Так-с! Предъявите солдатскую книжку.
– Держите!
Подпрапорщик тонкими, хрупкими пальцами стал перелистывать документы.
– Тэк-с, солдатский билет: Аполлинарий Николаевич Соколов, православный, уроженец Москвы. Из дворян? Хм! Мобилизован 21 июля 1914 года в триста одиннадцатую пешую Московскую дружину в чине полковника… – Взглянул с удивлением: – Как так – полковника? А почему на вас форма рядового?
Соколов ткнул пальцем:
– Тут написано: 15 января 1917 года военно-полевым судом разжалован.
– За какую провинность? За трусость в бою?
Соколов язвительно усмехнулся.
– Никак нет, ваше благородие! – Заглянул в глаза очкарика. – Я физически – понял? – физически оскорбил штабного офицера. Сделал ему очень больно. Он посмел грубо со мной разговаривать. А я хамов не люблю.
Подпрапорщик хмыкнул, достал платок и вытер каплю с носа. Допрос продолжил уже вежливым тоном:
– Так, корешок воинского требования на железнодорожный билет, сам билет. Все правильно! А это что? Выписка из госпиталя. – Поднял глаза на Соколова. – Куда были ранены?
Соколов начал раздражаться:
– Господин подпрапорщик, в справке все указано: два штыковых ранения – в плечо и вот, в щеку, сами можете видеть. И сквозное пулевое ранение в правую часть груди.
– Больше в зал для офицерского состава ходить не советую. Народ нынче нервный, измотанный. Германские шпионы и революционные агитаторы повсюду налезли. Сейчас выйдете на улицу, справа проход на перрон. Счастливо воевать! – приложил руку к папахе, лихо сдвинутой на правое ухо.
Соколов направился по указанному направлению. Он размышлял: «Надо быть осторожней. И следует скорее входить в новую роль. Теперь на себе испытал, каково жить в солдатской шкуре. Не сладко, право!»
Очередь на фронт
Возле входа на перрон, у высокой решетчатой ограды, стояла большая толпа. Это были солдаты в серых шинелях, с вещевыми мешками на плечах, с темными, замученными лицами, на которых озлобленность мешалась с глубокой печалью.
Попадались и люди в штатском, несколько женщин в крестьянских тулупах, с шалями, завязанными на спине крест-накрест.
Строем приблизились два отряда, человек по тридцать. Их сопровождал ротмистр в высокой каракулевой папахе серого цвета. Он зычно гаркнул:
– Рас-ступись! Кавалеристы идут.
Знатоки неодобрительно загалдели:
– Это из резервного батальона. Ишь, завсегда прут без очереди, будто мы не такие же защитники престола…
Тем временем на вокзале шла обычная суета. С санитарного поезда сгружали раненых. Одни, опираясь костылями в заплеванный пол, тихо тащились к зданию вокзала. Другим, подставляя плечи, помогали санитары. Тяжелораненых на носилках тащили волонтеры.
По перрону возчик вел лошадь на тощих ногах, с шорами на глазах. Она была впряжена в телегу. Хотя телега была высоко гружена, а лошадь худа, она тащила без особых усилий. Сверху груза был наброшен громадный брезент. С одного угла он сполз, и сыщик увидал голые ноги: это везли трупы раненых, умерших по дороге с фронта.
Солдаты-артиллеристы на тележках подвозили к грузовому вагону ящики. По двое брались за ящик, тяжело сопя, передавали тем, кто стоял на платформе.
«Снаряды», – догадался Соколов.
Невысокий мужичок в ладно пригнанной и плотно перепоясанной ремнем шинели посмотрел на Соколова маленькими смеющимися глазками:
– Служивый, не знаешь, когда нас в вагоны запустят? – и добродушно улыбнулся, и в этой улыбке было что-то детское, неиспорченное, так что Соколов сразу почувствовал к солдату симпатию.
– Коли состав подали, стало быть, ждать недолго.
– Это конечно, живую силу скорее надо, к летнему наступлению. Только у ворот второй час томят, ноги уже застыли. И погулять до трактира не позволяют, и в вагон не пускают. Вы самостоятельно едете?
– Так точно!
– И я тоже, после ранения возвращаюсь, но домой, до Смоленска. Меня зовут Семен Бочкарев, сапер. Могу взорвать, могу построить. Русский солдат на все горазд! – Расхохотался, показав мелкие, как кедровые орешки, зубы. – В третий вагон приказали топать. Всех туда собрали, кто после ранений или, к примеру, побывок. – Потер замерзшую щеку.
Соколов отозвался:
– Так и я из третьего вагона.
– Вот и хорошо, будем друг дружки держаться.
Сергей Шлапак
В это время из главного вокзального здания вышла группа старших офицеров – в хороших шинелях, в каракулевых папахах, с шашками на боку.
Голоса зашелестели:
– Хорошо тому, кто с золотыми погонами! Гляди, свободно идут, ручки свои не утруждают. Чемоданы – как на дачу – денщики тащат.
Младший унтер-офицер, высокий узкоплечий мужик с двумя лычками на погонах, с крупным лицом, изъеденным оспой, криво усмехнулся:
– Ясно, старшие офицеры – в свой штабной вагон. У них там жизнь приятная, во всем довольстве. Даже кухня есть, в вагоне-то. Котлетки из курей жарят, на масле. Поварихи по ночам постель им греют. А нам на станциях за кипятком в очередях стоять. Когда настанет свобода и равноправие, все в равных условиях будем содержаться. Нам, солдатскому сословию, сахар по три кусочка на день выдали, а старшие офицеры чай будут пить с шоколадом и кофе со сливками.
Рослый, крепкого сложения прапорщик с мужественным лицом, с глубокими морщинами возле рта, делавшими его похожим на Цезаря, стоявший у проходных ворот, крикнул:
– Кто разговоры разводит? Это ты, унтер?
– Чего еще?..
Прапорщик сдвинул лохматые брови:
– Представься, как по уставу положено.
– Младший унтер-офицер Фотий Фрязев!
– Зачем, Фрязев, солдат смущаешь?
– Никак нет, – побледнел Фотий. – Я так, к слову прилунилось.
Прапорщик сунул Фотию под нос шишковидный кулачище:
– Чем пахнет?
– Могилой!
– Правильно! Так что пропаганду не разводить!
– Слушаюсь, господин прапорщик! Я совсем наоборот, патриот своей державы, против евреев и тому подобное.
Прапорщик строго оглядел солдат и громко представился:
– Я сопровождаю тех, кто едет в третьем вагоне. Зовут меня Сергей Витальевич Шлапак. Направляюсь, как и вы, на передовую. Можете обращаться, но только при крайней необходимости. Скажем, заметили шпиона или агитатора, то вяжите и волоком ко мне. Разумеете, герои?
Унтер, назвавшийся Фрязевым, заискивающе улыбнулся:
– Так точно, господин командир! А обо мне плохого не думайте. Я ведь не какой-нибудь жид пархатый вроде этого, – ткнул пальцем в сторону невысокого мужичка с большими печальными глазами и в шинели. – Я не развожу антимонию. Я за веру и престол, за созыв Думы, как об том в газетах нынче пишут.
Шлапак строго сказал:
– В газетах?! Ты читаешь газеты? Ты кто? Профессор кислых щей? Или – тьфу! – бакалавр? Ты есть русский солдат. И у тебя в мозгах должна быть только служба, а не дрянь, которую газеты вбивают в пустые головы. Понял? Увижу с газетой – всю грамоту, как мусор, из твоей башки вытрясу. Эту гадость разрешаю брать только в одно место. Ну, скажи, в какое?
Фрязев бессмысленно вытаращил глаза:
– Не могу знать, ваше высокоблагородие!
– Газеты, унтер, можешь употреблять только в гальюне.
Солдаты рассмеялись:
– И то правильно! Однако, господин прапорщик, холодно. Скоро начнут пущать?
Шлапак ответил:
– В окопы боитесь опоздать? Поезд без вас не пойдет.
Начальник контрольного поста крикнул:
– Первыми идут казаки резервного батальона. Попарно ста-ановись!
Несколько патрульных бегло просматривали предписания и проверяли билеты. Ругань сделалась громче.
Бочкарев протиснулся вперед, миновал контроль и помахал Соколову рукой:
– Жду! – и побежал в сторону состава.
Толпа стала пробиваться к воротам.
Шлапак строго прорычал:
– Не напирать, ограда трещит! – Заметив Соколова, широко улыбнулся: – Смутьяны говорят, что солдат воевать не хочет. А он приступом вокзал берет, лишь бы скорей на фронт попасть.
Соколов, не влезая в толпу, спокойно ждал.
Боевая командировка
Внимание Соколова привлек высокий человек в хорошем драповом пальто и котиковой шапке. Его лошадиное лицо порой передергивала нервная улыбка, обнажая желтые зубы. Он вынул из кармана блокнот. Прислушиваясь к разговорам в толпе, начал что-то быстро записывать.
Сыщик не сдержал улыбки: он узнал этого человека, с которым его связала забавная история. Человек в котиковой шапке был известным петербургским журналистом, сочинявшим бойкие фельетоны во все крупные газеты и журналы. Его фамилия была Шатуновский, а статьи он подписывал выразительным псевдонимом Беспощадный.
Шатуновский-Беспощадный обладал своеобразным даром: о самых невинных предметах и событиях он умел писать с ядовитой усмешкой и убийственным сарказмом. Когда-то Антон Чехов хвалился, что может сочинить рассказ о чернильнице. Дар Шатуновского был сильнее. При желании он мог с такой презрительной иронией заклеймить чернильницу, что читатель остался бы в убеждении: все самое гнусное в мире: войны, разбои, убийства, железнодорожные катастрофы, неурожаи и землетрясения – совершается исключительно по вине этой канцелярской принадлежности.
Особенно острое удовольствие журналисту доставляло писать гадости про людей знаменитых, известных своей непорочной репутацией. Правда, герои фельетонов порой оскорбляли журналиста по лицу, но он сносил все унижения и плевки ради славы, пусть и скандальной.
Когда-то, незадолго до начала войны, Шатуновский написал в газетке бойкий фельетон «Аристократические забавы – убийства и мордобой». Главным персонажем этого пасквиля был граф Соколов.
Гений сыска отправился в редакцию и затолкал в рот онемевшему от ужаса журналисту газетку с его писаниной. Когда началась война, журналист не спешил на передовую. Он был человеком осторожным и нервным. Начальство, учитывая далекий от храбрости дух Шатуновского, солидный возраст и геморрой, на фронт его не командировало.
Но в конце января 1917 года произошло нечто неожиданное. Редактор журнала «Русская мысль» Светлов, грузный, хорошо ухоженный человек в безукоризненном костюме, с тщательно завинченной вверх жесткой полоской усов, пахнувший хорошим коньяком и дорогой сигарой, пригласил к себе Шатуновского.
Развалившись в глубоком кресле, Светлов по новой моде положил ноги в дорогих лакированных штиблетах на стол. Он сосал толстенную сигару и ею ткнул на кресло.
– Милости прошу, Илья Самуилович! Рюмку коньяку? Как дети? Как здоровье супруги? – Испытующе поглядел на журналистскую знаменитость. – На фронтах близится мощное весеннее наступление. Но в окопах не все благополучно. Усиливается революционная агитация, катастрофически растет число дезертиров. Вражеская авиация разбрасывает над нашими позициями враждебные листовки. Эти листовки находят читателей. Возмутительны участившиеся случаи братания. Этому мутному потоку лжи необходимо противопоставить острое журналистское перо. Илья Самуилович, я направляю вас собственным корреспондентом в действующую армию, на Юго-Западный фронт. Поздравляю!

Шатуновский покраснел, растерянно забормотал:
– Это оно конечно… Александр Николаевич, но разве нет кого-нибудь моложе?
Редактор лягнул ногой.
– Что значит – моложе? Разумеется, есть! – Многозначительно поднял палец. – Талантливей – нет. Вы знаете, мой дорогой, в какое ужасное положение попал наш журнал? Народ беднеет, тиражи падают. Объявили подписку на приложения к журналу – Герцен, Беранже, Горький. Творческой деятельности Горького только что исполнилось четверть века – юбилей замечательный! За четырнадцать томов и годовую подписку на «Русскую мысль» всего тридцать шесть рублей! И что же? Из рук вон плохо идет подписка.
Шатуновский вздохнул:
– Сочувствую!
– Так помогите поднять интерес к журналу! О вас мы уже сообщили в штаб армии генерала Гутора. Пишите смелее и острее, глубже, так сказать, поднимайте проблемы. Наблюдайте, обличайте, записывайте и чаще посылайте материалы. Наиболее злободневное сообщайте в редакцию по телефону или телеграфом. Построчную оплату на время командировки увеличиваю в три раза. Полагаю, Илья Самуилович, вы не откажетесь ехать в вагоне третьего класса? Нет, мы на вас не экономим. Это позволит вам лучше понять душу простого русского солдата, проникнуть в его героическую сущность.
Шатуновский был все-таки настоящим журналистом. Природная робость сменилась желанием понюхать запах пороха. Он согласился:
– Именно так – в вагоне третьего класса, бок о бок с героями моих очерков, с этими беззаветными патриотами, в сердцах которых ярким пламенем горят святые слова – Государь, Православие, Отечество.
Редактор снял ноги со стола, оторвал от кресла грузный зад и пожал руку Шатуновского:
– Успехов вам! В кассе получите командировочные, а вот, держите, ваши военные документы…
Проводив журналиста, налил коньяку и с наслаждением пропустил рюмку.
Сюрприз судьбы
Теперь, готовя начальную статью в «Русскую мысль», Шатуновский записывал то, что удавалось подслушать в толпе, ехавшей на фронт. Однако разговоры солдат носили до неприличия обыденный характер. Вместо горячих слов о беззаветной любви к матушке-родине солдаты, матюгаясь, говорили о том, что собака-интендант отказался выдать новые шинели, об уменьшении приварочных денег, о том, как бы успеть сбегать в лавочку да купить там табачку и водки. И много врали о боевых и любовных победах.
Шатуновский исповедовал принцип: важен не факт, а его подача. Эти бесхитростные разговоры он решил понимать как проявление особой скромности, присущей всем героям. Он домысливал несказанное, в шутке или анекдоте видел несгибаемую волю, красоту и силу народного гнева. Стоя в толпе, он делал в блокноте записи: «Наша героическая эпоха отделила зерна от плевел, героев – от предателей. Патриотизм – слово вовсе не забытое, оно горит священным огнем в сердцах миллионов простых русских людей, которые на наших глазах созидают историю…»
Шатуновский уже придумал и заголовок, который ему показался удачным: «Дорожные тайны будущих героев».
Записав очередную ценную мысль, журналист поднял глаза и остолбенел: в нескольких шагах от него горой высился солдат, в котором легко узнавался граф Соколов. Как у охотника сильнее начинает биться сердце при виде крупного зверя, так ловкий борзописец почувствовал острую тему для фельетона. Быстрые мысли закрутились в его курчавой голове:
«Вот это удача! Разжалованный граф едет на передовую. Какой острый сюжет для фельетона: „Взлет и падение русского аристократа“. Шатуновский продвинулся вперед, близоруко прищурился: точно ли, тот ли самый Соколов, который когда-то приходил скандалить в редакцию? И хотя граф был в солдатской шинели, но осанка, властные манеры, красивый раскатистый голос – все это журналиста убедило: да, это тот, кого молва окрестила «гением сыска»!
Приятное соседство
Словно пчелы улей, железнодорожный состав густо облепили люди в потрепанных, серых, грязных шинелях. В вагоны пускали лишь через одну дверь, возле которой стояли двое патрульных. Они теперь уже тщательней, чем у ворот, просматривали документы и билеты.
Соколов степенно шел вдоль поезда, размышляя: «Кому нужна такая дотошная проверка? Солдаты едут умирать, а их проверяют, словно они с казенными средствами ищут сбежать в Монте-Карло».
Вдруг среди гама и криков послышался отчаянный стук в оконное стекло, потом окно с грохотом опустилось. В его проем высунулось веселое круглое лицо знакомого солдата – Бочкарева. Он орал так, словно с него сдирали кожу:
– Эй, земляк! Ходи сюда. Я тебе место держу. Давай мешок. Сало есть? Кто Богом не забыт, тот всегда бывает сыт.
Соколов направился к толпе, липшей к вагонным ступенькам, встал в очередь. У Шатуновского закралось сомнение: «Нет, это не Соколов! Тот не будет дожидаться, тот – нахал, всех оттолкнет и залезет первым».
Чтобы развеять свои сомнения, он громко позвал:
– Господин Соколов!
Солдат повернул голову, удивился:
– Доблестный Шатуновский? Никак в поход собрался?
Журналист согласился:
– В поход! – Притворно вздохнул. – Но воевать буду не оружием, а всего лишь пером.
Соколов с убийственной иронией отвечал:
– Ваше перо, сударь, страшнее пистолета. И какой фронт осчастливите своим присутствием?
– Юго-Западный, армия Гутора.
– Мы едем общим маршрутом. А я порой читаю ваши ядовитые фельетоны: «Аристократическая плесень», «Сенаторы с большой дороги», «Звездная пыль». Очень боевые фельетоны. К соотечественникам вы беспощадней, чем прокурор к рецидивистам. Прошу! – Соколов вежливо пропустил вперед себя озадаченного журналиста. – Там мой товарищ занял место. И хотя у вас широкий таз – это говорит о мужской недостаточности, – для вас найдем место.
– Спасибо, очень признателен.
Шатуновский, поднимаясь по ступенькам в вагон, размышлял: «Для публикации тема прекрасная: „Граф в солдатской шинели, или Горькая доля падшего аристократа! “»
Жизненное пространство
Едва Соколов вошел в вагон, в нос шибанула отвратительная смесь запахов: человеческого пота, водочного перегара, грязи и застоявшегося табачного дыма.
Окопное мясо в поношенных, залатанных шинелях изрядно набило вагон. Солдаты заняли все лавки, включая багажные.
Задымили десятки вонючих папирос и «козьих ножек». В воздухе повис кислый дым. Все были удивительно спокойны, а некоторые даже куражно радостны. Семен Бочкарев размахивал рукой и орал на весь вагон:
– Господин солдат, прошу сюда! Тут ваш плацкарт…
Соколов сбросил на жесткий диван шинель, а сам отошел к окну, вглядываясь в морозную даль.
Теперь в проходе появился унтер Фрязев. Он шел с тяжелым мешком за спиной. Его походка была какой-то особенной, вихляющей. Он с презрительным недоумением смотрел на солдат, успевших занять места. Вдруг он прищурил глаз, разглядел свободное место, которое Бочкарев предназначил для Соколова. Унтер швырнул на диван мешок, облегченно вздохнул, но Бочкарев остановил его:
– Унтер, твоих тут нет! Уже занято…
– Кому занято, а кому нет, – отвечал Фрязев, усаживаясь на диван. – Ты что, билет покупал?