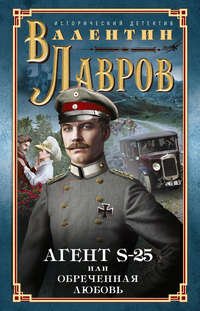
Секретный агент S-25, или Обреченная любовь
– Во-во, покупал! Кыш отседова!
– Чего? – удивился рослый Фрязев, оценивающим взглядом меряя жидкого Бочкарева.
Тот напирал:
– Не окусывайся, здесь не подают. Оглох, что ль, а то прочищу ухи и на затылке завяжу!
Фотий Фрязев изумился такой отчаянности. Он уцепился за грудки Бочкарева:
– Эх, проучу-ка тебя…
Бочкарев весело отвечал:
– Иди на водокачку руки помой, а то сортиром пахнут!
Солдаты рассмеялись. Фрязев еще крепче уцепился за шинель Бочкарева, желая повалить солдата на пол. Тот ловко отбивался ногами. Начиналась драка, и Соколов вмешался в потасовку. Он сзади ухватил Фрязева за ворот и так рванул на себя, что Фрязев охнул, выпустил Бочкарева. Обиженно загундосил:
– Ты чего безобразишь, рядовой?
Соколов строго произнес:
– Кто позволил руки распускать? Я тебе такого леща отвешу, что будешь лететь, свистеть и радоваться.
Солдаты опять грохнули веселым смехом, а Фрязев перед видом громадного мужчины с властными манерами счел за благо отступить. Он лишь зло сверкнул маленькими поросячьими глазками:
– Еще ответишь за безобразие! – и внимательно оглядел соседний диван. И, вновь переходя на уверенный тон, прищурился и строго сказал: – Потеснитесь, не в театр пришли!
– Куда же тесниться? – заворчал Шатуновский. – У нас уже комплект, шесть человек…
– Вот ты, кучерявый, и потеснись! – зло отвечал Фрязев. – Для фронтовика обязан потесниться. Я за тебя кровь свою проливал, я экзамен на унтера сдал, а ты места уступать не желаешь. – И, просунув колено, отжал Шатуновского и затем втиснулся на скамейку.
Ударил колокол. Вдруг вагон вздрогнул, гонгом лязгнули буфера, колеса пришли в движение.
Все радостно загалдели:
– Поехали, слава богу! – и полезли в мешки доставать провизию, чекушки и полбутылки. Российская традиция свято соблюдалась – выпивать и жевать немедленно, едва паровоз даст третий гудок.
Поезд потащился мимо станционных построек.
* * *Соколов глядел в мутное окно. Мимо плыла черная земля, по которой шли люди в промасленных костюмах – сцепщики, кондуктор с красным фонарем, тащилась с тяжеленным мешком за плечами краснолицая баба в пестром платке, осторожно вышагивал по шпалам мужчина в шапке пирожком и с кожаным портфелем.
Вагон миновал угольный склад, водокачку с громадной лужей – здесь заливали паровозные баки, – оставили позади платформы, груженные пушками, силуэты которых явственно проступали под грязным брезентом. Вот началась городская окраина: небольшие домишки с веселыми дымами, подымавшимися из труб, большие склады вдоль линии со стаями бездомных собак.
Соколов мысленно произнес: «Прощай, любимый город! Увижу ли еще тебя, пройдусь ли по твоим булыжным мостовым?» На сердце не было обычной легкости, душа томилась страшными предчувствиями.
И впрямь, впереди графа ждали смертельные испытания. И гений сыска не уклонился от опасностей, ибо понимал: великая Россия и государь ждут от него подвига.
…В это время в проходе появилась еще одна фигура, которой в нашей истории суждено играть некоторую роль.
Рядовой Факторович
Недоуменно озираясь, в проходе стоял тот самый человек с висячим носом и большими грустными глазами, на которого Фотий Фрязев прежде указывал Шлапаку. На грязный пол он явно садиться не желал, а места свободного не было. Кто-то из солдат предложил:
– Давай засуну тебя в ящик для фонарей, все равно пустой стоит.
Еврей меланхолично отвечал:
– От этого ужаса, что некуда деться, полезешь, как таракан, хоть в половую щель.
Солдат приподнял еврея, тот делал мучительные попытки, но забраться в ящик, расположенный под потолком, оказалось невозможным.
Солдаты наблюдали эту картину и зубоскалили:
– Эй, жидок, хочешь в ящике от немца спрятаться? Все равно найдет.
Соколову стало жалко человека – уж слишком несчастный вид был у него. Он пригласил:
– Идите сюда, мы потеснимся.
Еврей поклонился и вежливо сказал:
– Меня зовут Лейба Факторович. Спасибо за место, здесь, вижу, сидят приличные люди. Дай Бог вам каждый день кушать цимес, а вашим врагам пусть будет базедова болезнь. А то, что здесь тесно, так скажите мне, где теперь просторно? Этого не знает никто, даже ребе Пфефферминц.
– Кто? – удивился Бочкарев.
– Как, вы не знаете ребе Пфефферминца? – удивленно округлил рот Факторович. – Это знаменитый знаток Талмуда. Он развелся с молодой, красивой женой. Евреи возмутились: «Как это можно поступать? Такая замечательная жена!» Мудрый ребе поднял ногу: «Видите мой новый башмак? Чудно сшит, не так ли? Есть ли среди вас умный, что скажет: где башмак мне жмет, да так, что мои глаза на лоб выпирают? Вы молчите, потому что не знаете. Вот и с женой, вы не скажете, где мне жмет нестерпимо…»
Все рассмеялись, а Шатуновский стал лихорадочно царапать карандашом.
* * *Бочкарев заботливо посмотрел на Соколова:
– Ваше благородие, Аполлинарий Николаевич! Хлебушка с колбаской желаете? Колбаска свежая, от самого Григорьева. Или сальца отрезать? Зашел на базар – шматок изрядный купил. Я жалованье за последний месяц не стал домой отправлять, сберег. Прикинул, дескать, самому понадобятся денежки. Так оно и вышло. А на станции сбегаю, кипяточку принесу…
– Ay меня шоколад и заварка из магазина Перлова, что на Мясницкой. Вот и перекусим. И в мешке тоже кое-что припасено… – отозвался Соколов.
Бочкарев расхохотался, весело потер короткие, почти квадратные ладошки:
– Эх, хорошо живем! Как народ говорит? Хлеб на стол, так и стол престол.
Шатуновский улыбнулся, обнажив длинные зубы:
– Простите, рядовой, я записываю народные выражения. Эта поговорка про хлеб – прекрасна. Вы где ее почерпнули?
– Не почерпнул, а дома так говорили.
– А вы какой губернии?
– Смоленской.
– Благодарю! – И Шатуновский стал быстро черкать в блокноте.
Солдаты, успевшие принять водочки, с интересом глядели на журналиста. Соколов сделал жест, как шпрех-шталмейстер в цирке, когда объявляет заезжую знаменитость:
– Герои фронта, вы имеете счастье лицезреть знаменитого на всю Европу и ее окрестности журналиста Шатуновского-Беспощадного. Он напишет о вас в газете, заметку прочтут в ваших деревнях и селах и месяц будут пить за здоровье героя. Поняли?
Солдаты весело зашумели:
– Как не понять? Эй, Беспощадный, про нас нацарапай, а мы тебе водочки нальем и разные происшествия расскажем.
Факторович, сидевший по соседству с Шатуновским, с интересом посмотрел на него:
– Шалом! Скажите, а вы чего-нибудь заплатите, если я вам случай расскажу, совершенно исключительный.
Шатуновский замялся:
– Ну, если очень интересный, тогда копеек десять…
Факторович вздохнул:
– С этого, конечно, дом не построишь, но это лучше, чем кирпич на голову. Так будьте известны, что в пассажирском купе сидит приличный господин и смотрит: пожилая крестьянка держит ребенка и все хочет засунуть ему в рот титьку. Господин видит это женское обвислое хозяйство, и его едва не тошнит. А тетка стращает ребенка: «Бери титьку, дрянь ты этакая! Ведь ты хочешь жрать? Ну смотри, я сейчас дяде дам – он это любит, все сожрет и тебе ни крошки не оставит».
Солдаты вновь рассмеялись. Факторович всем пришелся по душе. Улыбнулся и Шатуновский, пошарил в кармане, достал пятачок.
– Остальное за мной! – и тщательно записал анекдот.
Факторович был доволен собой. Тоном благодетеля произнес:
– Уверяю вам, что могу рассказать тысяч на двадцать ассигнациями, только, господин журналист, не забудьте ваш долг пять копеек вернуть, – ткнул пальцем в сторону клозета: – Уже очередь, сразу видно, что народ обвалился – воевать едет.
И снова солдаты прыснули смехом:
– Хоть евреец, а мужик свойский!..
Факторович принял серьезный вид:
– Во-первых, для своей беды я крещен в православной вере, поэтому отправили воевать. Во-вторых, если мне собирать с каждого из вас хоть по три копейки, так я радовался бы жизни с моею Ривой.
– Почему? – удивился Фрязев.
– Я бы сунул кому надо, и мне дали бы белый билет. А вот теперь еду как самый последний.
– Это ты, жидовская морда, срамно рассуждаешь. Долг каждого – не жалеть живота и все такое прочее, – строго произнес Фрязев.
– Факторович, вы такой остроумный, что вас обязательно направят служить писарем при штабе, – сказал Бочкарев.
– Об таком счастье можно только мечтать. А теперь еще один случай и для вас совершенно задаром. К врачу приходит еврей, которого замучили понос и отрыжка, но стесняется сказать прямо. Он говорит: «Господин доктор, у меня отрыгается и спереди и сзади!»
Солдаты заходились хохотом, Шатуновский без передыху царапал карандашиком, а Бочкарев мечтательно произнес:
– Вот скоро кончится война. Приеду домой, затоплю баню, пропарюсь, за стол сяду, жена моя Алена щей с бараниной поставит да пироги из печи вынет. Эх, хорошо! И никакой отрыжки.
Соколов подумал: «Какой славный русский человек. Совсем немного ему для счастья надо».
Головка сахара
В это время в проходе, перешагивая через солдатские ноги, появился прапорщик Шлапак. Из-под распахнутой шинели на гимнастерке поблескивал Георгий. Прапорщик, заглушая шум, произнес:
– Все разместились? Извещаю: горячую пищу получите в Смоленске. Претензии, просьбы, обращения есть? – И, не дожидаясь ответа, сказал: – Желаю счастливого пути и боевых подвигов.
Вдруг прапорщик обратил внимание на Соколова. Раздвинул в улыбке рот и показал тридцать два крепких, как у молодого тигра, зуба, радушно протянул руку:
– В одном вагоне едем? Очень приятно! Я вас еще на вокзале приметил. Я моряк, в японскую воевал на крейсере «Богатырь». А в эту войну меня сделали сухопутным…
Соколов спросил:
– Небось по ночам снятся бушприты, кливер-шкоты, кран-балки?
Шлапак расцвел в улыбке:
– А вы тоже «полосатый»?
– Нет, вот мой пращур Сергей Богатырев, так тот при Петре Великом на море погиб. А я когда-то яхту держал, был членом Петербургского речного клуба, да и на субмарине короткий переход сделал.
– Надо же, родственную душу встретил! А я тоскую по воде. Моряки народ особенный, соленой волной промытый, ураганами обвеянный, – надежные люди. Прошусь обратно на флот. Я уже два рапорта посылал, да ответа не получил.
– Вы теперь после ранения?
– Никак нет, начальство за геройский поступок предоставило десять дней отпуска. Матушку Галину Васильевну навестил, в Сокольниках живет. А теперь в Московский разведполк возвращаюсь.
– У меня тоже предписание в Московский разведполк. Стало быть, однополчане.
Шлапак весь расцвел.
– Надо же, удача какая! Ротный у нас, Семенов, из себя, – показал рукой, – от горшка два вершка, а в деле горячий: бесстрашный, хитрый…
Соколов одобрил:
– Вот это по-нашему, по-русски!
* * *Бочкарев заботливо опекал Соколова. В Вязьме он сбегал за кипятком, заварил чай, угощал Соколова и соседей.
Факторович достал большую головку сахара. Вздохнул:
– Что вы скажете на это несчастье? Сахар есть, щипцов нет. А это такой сахар, его кувалдой не разобьешь.
Соколов успокоил:
– Обойдемся без щипцов!
Он взял в кулак сахар. Все перестали жевать и разговаривать, уставились на богатыря. В вагоне наступила удивительная тишина, нарушаемая только стуком колес.
Соколов сжал сахар в громадном кулачище, и тот, к восторгу зрителей, с громким хрустом рассыпался в пудру. Факторович ужаснулся:
– Боже, это уже не сила. Это кошмар… Вы слыхали этот жуткий хруст, будто грешнику черти в аду кости крушат? У меня заложило в ушах. Но зачем много сладкой пудры просыпалось на пол? – Вздохнул. – Но пусть вас не волнует этих глупостей, выпивайте с тем, что в кулаке, – и стал дуть крепкий чай из жестяной кружки.
Жареный петух
Шлапак, привалившись плечом к верхней полке, с легкой усмешкой обратился к Шатуновскому:
– Про войну нынче врут много, какую газету ни открой: «Ах, наши доблестные солдатики! Наши геройские защитники!..» И никто, ни одной строкой, не обмолвится, что нынешняя война – сплошная неразбериха. В штабе полка дают приказ: «Наступать!» Ну, пошли, в открытом поле. Германцы нас как на ладони видят, из всех видов оружия пальбу открыли, разве что из рогаток не стреляют. Мы, понятно, залегли. Германцы шрапнелью садят. А тут команда: «Вперед!» Таким маневром многих наших покосило, зато вражескую позицию почти полностью заняли. А из штаба фронта приказ, уже противоположный: «Отступать!» И тем же порядком опять в свои окопы, на исходные рубежи, только уже меньшим числом. Спрашивается: зачем же наступать, если надо тут же отступать?
Шатуновский недоверчиво покрутил головой:
– Это, скажем, как исключение и ваш пример неудачен.
Шлапак продолжал:
– Хорошо, вот другое. Из нашей роты ходили языка брать. Ну, офицера схватили, через реку переволокли его, значит, на наш берег. А тут передовое охранение по нашим же с испугу из пулеметов как шандарахнет. Пяти разведчиков как не было. В живых только двое остались – раненый ефрейтор да австрийский офицер, за которым ходили.
Шатуновский задумчиво проговорил:
– В любом деле огрехи случаются, а война – дело сложное…
Шлапак огрызнулся:
– Огрехи не орехи! Это пока вас не коснулось, легко рассуждать. А как в задницу жареный петух клюнет, так не то заголосите. Или, скажем, в прошлом году на передовую пригнали роту новичков. Немец тут как тут, атакует на нашем фланге. А новеньким ружья не дают, нету, дескать, где-то на железной дороге застряли. Обзаводитесь, мол, сами. Так половину новичков германец и положил. Или, помню, под Варшавой немцы прут, а у нас на каждый артиллерийский расчет по три снаряда: не подвезли! А кто, скажите, за безобразия отвечать будет? Когда в войну ввязывались, об этом подумали?
– Чем так воевать, лучше дома баб своих шлифовать, – буркнул Фрязев.
Полет в ночи
Свежий ветер
За оконным стеклом плыли бескрайние и до скуки однообразные зимние просторы. Соколов видел засыпанные снегом поля, церковные купола на взгорке, деревушки с избами под соломой, крытые железом кирпичные дома, ометы соломы, обнажившиеся деревья садов за палисадами, чахлые деревца, бесконечной чередой тянущиеся вдоль железнодорожного полотна, телегу, поставленную на колеса и запряженную одром, терпеливо ждущим на переезде.
Поезд почти без остановок и задержек несся к тому страшному месту, которое называется фронт. Туда, где с необыкновенной легкостью обрывают самое ценное и важное – человеческую жизнь.
Бочкарев заботливо обратился к Соколову:
– Вечереет, однако! Давайте, Аполлинарий Николаевич, уложу вас, отдохните малость. Я здесь, с краю, пока прилягу, а ночь придет – спать валетом будем. Так теплей, ночью в вагоне наверняка собачий холод.
Гений сыска с наслаждением вытянулся на лавке, только сапоги далеко выперли в проход, перегородив его.
Бочкарев пристроился рядом, веселым голосом сообщил:
– Гляньте, как на багажной полке набились, что кильки астраханские в жестяной банке! Ни согнуться, ни разогнуться. И воздуха там нет, в нос одна спираль шибает. А вот у нас на нижней – прохладней, одно наслаждение. Почти как в губернском постоялом дворе: простор и никакой помехи.
Соколов прикрыл веки. Он размышлял: «Сегодня я был не безупречен. На вокзале по оплошности в скандал попал. А это лишь начало. Что ждет меня впереди? Бог весть. Главное – теперь без приключений доеду до своего полка. Это уже хорошо!»
Жизнь показала: гений сыска радовался рано.
* * *За окном стемнело. В вагоне голоса стали тише. Одни, истомленные дневными хлопотами, дремали. Другие рассказывали героические истории из собственной боевой жизни, и солдаты слушали с интересом.
Возле Соколова четверо солдат азартно резались в карты. За игрой с любопытством наблюдал Факторович. Унтер Фрязев, уже отстоявший очередь в уборную, лениво спросил:
– Почем банк?
– Пять копеек! – ответили игроки.
Фрязев рассмеялся:
– Ну прямо малые дети! Вы еще на щелчки сыграйте.
Игроки сердито отвечали:
– Надо – и сыграем, тебя, жердявый, не спросим!
Фрязев уселся рядом, лениво наблюдая за игрой. Потом один солдат вышел из игры. Вместо него сел Фрязев. Минут через тридцать Фрязев загреб выигрыш, смиренным тоном произнес:
– Копеечки эти себе на лекарство и детишкам на молоко, – и весело зареготал, поглядев на Факторовича: – Ну что, еврей, сыграем?
– Зарок дал – не играть!
– Зарок – не тещин порог, всегда на него плюнуть можно! Давай играть, а то уши оторву…
Факторович сказал:
– Кстати, скажу об ушах. У нас в Мелитополе есть парикмахер Саул. Однажды он стриг городового и от волнения отрезал ему ножницами кусочек уха. Тот вскочил, ругается: «Стричь не умеешь? Одно ухо короче другого!» Саул спрашивает: «Прикажете подравнять?»
Шатуновский расхохотался, а Фрязев со злобой сказал:
– Это ты зачем мне об этом рассказал?
Факторович невозмутимо отвечал:
– Если не можешь, чего желаешь, так желай то, что можешь.
– Жид проклятый, ты меня запутываешь? – Фрязев отложил карты, готовый броситься на тщедушного Факторовича.
– Никак нет, господин унтер! Это сказал поэт Гибирол, а жил он тысячу лет назад. Что касается вашего проклятия, то пришлите мне его по почте, я повешу на стену в рамке и буду любоваться.
Соколов рассмеялся.
Фрязев окрысился на гения сыска:
– Чего ощеряешься? Званием не вышел, чтобы зубы скалить. Попадешь ко мне во взвод, так научу тебя пузом землю шлифовать.
Улыбка сошла с лица Соколова, он резанул холодным взглядом унтера, но вновь сдержался, не ответил. Кровь кипела, многое он отдал бы, чтобы рассчитаться с этим ничтожеством, но сыщик себя сдержал.
Тут выступил Бочкарев. Он крикнул на Фотия:
– Ты чего грозишься? Аполлинарий Николаевич русский дворянин, а ты – грязь дорожная. И звание твое не шибко высокое, – и тут же умиротворяюще добавил: – Давайте чайку попьем, и ты, унтер, подставляй кружку.
Скандал затих. Увы, как показала дальнейшая жизнь, затих, чтобы вновь вспыхнуть с ужасной силой.
Плохое воспитание
Убийцы и вообще жестокие люди обычно происходят из семей, где царит атмосфера беспорядка и насилия. Если вы хотите воспитать младшего в семье ребенка злым и жестоким, для этого следует всегда вставать на сторону младшего, когда он ссорится со старшими братьями и сестрами.
Фотий Фрязев был четвертым, младшим сыном в семье унтер-офицера, болтавшегося по дальним гарнизонам и в конце концов вдребезги спившегося. Обосновалась семья Фрязевых в Душанбе. Отец целые дни пропадал по духанам, где пропивал и проигрывал в нарды и в карты свою изрядную пенсию.
Когда отец пьяный и без денег возвращался домой, жена устраивала истерики, переходившие в драки. Дети склонны подражать родителям. Свои игры они, как правило, завершали скандалами и мордобитием.
Заслышав рев Фотия, отец врывался в комнату к детям. Не жалея бранных слов, раздавал старшим тумаки, наводил порядок. Назло старшим детям порой давал Фотию одну-две копейки: «Твои братья – негодяи, а ты – хороший. Они тебя обижают, а я тебя награждаю. Купи ирисок, только с этими подлецами не делись!»
Младший, зная, что отец и мать всегда примут его сторону, без колебаний вступал в конфликт – во вред братьям, себе на пользу. Он нарочно задирал старших, чтобы отец в очередной раз навешал братьям оплеух, а его, несчастного, одарил монеткой. Естественно, что братья ненавидели Фотия и боялись.
Вот в такой обстановке и вырос этот несчастный парень.
Бежали годы. Грянула война. В декабре девятьсот четырнадцатого Фотия призвали в армию. Первое время он служил в тылу. Служил усердно, то есть доносил начальству обо всем, что творится в его взводе и роте, кто что сказал, кто собирается в отлучку, кто пил водку. Уже через полгода усердие было вознаграждено: молодой солдат навесил две лычки – стал младшим унтер-офицером.
Но дальше в благополучной судьбе Фотия произошел сбой. Фотий любил книжки, читал их без разбора, все, что под руку попадет: «Приключения Ника Картера» или «Жизнь насекомых».
В казарме все на виду. Но невесть откуда стала проникать в казарму крамола. То под подушкой, то на подоконнике в сортире, то еще где начали попадаться брошюрки социалистов. Бумага была тонкая, в солдатском обиходе полезная. Вначале даже думали, что это нарочно кладут – для подтирки или скрутить «козью ножку».
Как ни странно, но начальство об этом узнало не сразу. Лишь когда Фотий, желая сделать приятное, принес ротному «в подарок» «Программу партии социалистов-революционеров», «Манифест анархистов-коммунистов» и еще какую-то подрывную дребедень, в казарме начался переполох.
Ротный в тот же день написал и отнес рапорт кому надо. Явились подтянутые люди в фуражках с голубыми околышами и для начала всех обыскали. Затем на скорую руку произвели следствие. Найти того, кто подбрасывал литературу, не удалось. Рота была выстроена в полном составе. Неизвестный солдатам полковник негромко, но очень внятно произнес:
– Наше отечество уже третий год ведет кровопролитную войну с ненавистным кайзером Вильгельмом. На фронтах сражений ваши отцы и братья льют кровь, – свирепо посмотрел на строй. – В это время вы, ведя сытый и спокойный образ жизни в тылу, читаете жидовские сочинения. Более того, имеются некоторые враждебные элементы, как младший унтер-офицер Фрязев. Этот пособник жидов держал у себя в тумбочке гнусный пасквиль социалиста Мартова, настоящая фамилия которого, – полковник заглянул в бумажку, – тьфу, сказать отвратительно – Цедербаум. И эта гнусность называется «Простые речи о внутренних врагах». Желая сбить в социализм ротного, Фрязев предлагал и ему разлагающую литературу. Суд достойно накажет изменника родины, пособника врагов и жидомасонов, дабы другим неповадно было. Что касается роты, она в полном составе в ближайшее время будет направлена на передовую.
Фрязев был этапирован в военную тюрьму, что в Лефортове. Здесь он попал в камеру на втором этаже, где уже сидели двое офицеров, обвиненных в шпионаже. Через два дня ранним утром офицеров увели на суд, который происходил в этом же здании на Лефортовском валу. Вернулись они через час-другой. Их приговорили к высшей мере – расстрелу.
Фотий глядел на несчастных с ужасом. Он ясно представлял, как в сопровождении священника их отведут во внутренний дворик, скрутят за спиной руки, завяжут глаза и дежурная команда из шести человек пальнет осужденным в голову. Черепа и мозги разлетятся мелкими брызгами. Все, что минутой прежде жило, дышало, мечтало, соберут в ящик и куда-то отвезут.
Фотий вдруг страстно уверовал в Бога. Те две недели, что он провел в камере до суда, он беспрестанно пребывал в молитвах, прерывая их лишь на сон. Он обещал Господу вести жизнь трезвую и праведную, если эту жизнь ему сохранят. Фотий готов был к самому тяжкому каторжному труду, лишь бы его не расстреливали.
Один раз его водили к следователю – молодому равнодушному человеку. Следователь задал несколько вопросов, дал расписаться в протоколе.
И вот судный день настал. В комнатушке, куда его ввели, стоял длинный стол без скатерти. За ним сидел генерал-майор, видимо председательствующий, два подполковника и два капитана. С торца расположился писарь, который торопливо макал ручку в чернила и все время что-то без остановки писал.
Генерал равнодушным голосом произнес:
– Ты, Фрязев, обвиняешься в хранении и распространении противоправительственных брошюр с целью ослабления и ниспровержения. Признаешь себя виновным?
Фотий неожиданно для самого себя и судей громко и четко – по-уставному! – отвечал:
– Никак нет, ваше высокопревосходительство! Это смутьяны подложили, а я счел обязанностью передать начальству.
– Ты читал эти брошюры в одиночестве или вслух? Давал читать другим?
– Так точно, сам читал, для себя! Но ничего не понял. Там мудрено написано. А другим не давал.
Судьи улыбнулись. В душе Фотия шевельнулась робкая надежда. Генерал опять спросил:
– Стало быть, ты агитировал только своего ротного?
Фотий, видя, как судьям нравятся четкие ответы, в том же духе продолжал:
– Никак нет, ваше превосходительство, я не агитировал! Я отнес эту жидовскую мерзость нашему ротному, чтоб разобрался, потому как он есть облеченный властью. Я от начальства имею две лычки, – и, совсем воспрянув духом, бодро, молодецки взглянул на генерала. – Прошу направить меня для борьбы с врагом внешним, потому как я за государя и веру нашу православную жизни не пожалею. Я страсть какой отчаянный: или грудь в крестах, или голова в кустах!
Генерал перекинулся несколькими словами с другими членами суда. Выносить оправдательные приговоры в военном суде не практиковалось. Фотий уловил фразу: «Полковник Снежко любит дрова ломать». Генерал торжественно произнес: