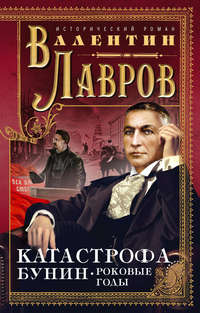
Катастрофа. Бунин. Роковые годы
– Екатерина Яковлевна Милина, гимназистка из Кронштадта!
Девушка зарделась, не привыкла к столичному бомонду. Спрашиваю:
– И в каком же классе?
Просто отвечает, не жеманится:
– В дополнительном, восьмом. Я решила получить свидетельство домашней наставницы.
Вера, боявшаяся пропустить хоть слово в интересном рассказе мужа, вставила:
– Ну конечно, выпускницы гимназий, пожелавшие зарабатывать на жизнь частными уроками, нередко шли в дополнительный, восьмой. Два года в нем учились.
Иван Алексеевич продолжил:
– Захотелось мне позлить самоуверенного красавца Андреева, заставить его ревновать. К тому же эта самая Екатерина меня за сердце задела. Говорю: «Ах, как бы желал учиться у такой наставницы! Был бы самым примерным учеником».
Как я ожидал, Андреев засопел:
– У тебя, Иван, и без того ума палата…
– Ума палата, да другая непочата, – отвечаю быстро.
Леня напрягся и изрек:
– Не нужен ученый, важней смышленый.
– Смысл не селянка, ложкой не расхлебаешь!
– Не купи гумна, купи ума! – пыжится соперник.
Да где Андрееву со мной тягаться, я в голове держу сотни всяких пословиц и прибауток. Моментально отвечаю:
– Голосом тянешь, да умом не достанешь!
Андреев мычит что-то невразумительное, а я ласково ему говорю:
– Не удержался, Леня, за гриву – за хвост не удержишься!
Катюша заливается как колокольчик, смеется, а мой приятель фыркнул да отправился танцевать с юной супругой статс-секретаря Государственного совета баронессой Дистрело.
Я на мгновение удержал за рукав Андреева:
– Знаешь, Леня, как атаман Платов французам говорил: «Не умела ворона сокола щипать!»
Ну а мы с Катюшей пошли польку танцевать. Потом в буфете пили шампанское, снова танцевали, шутили, смеялись без конца. Какой был сказочно дивный вечер, ничего подобного за всю жизнь не упомню!
Потом, далеко за полночь уйдя с бала, мы гуляли по Москве. Многие окна в домах празднично светились, в небе изумрудными льдинками блестели звезды и вовсю сияла громадная луна, заливая улицы фантастическим фосфорным светом. Да и все вокруг казалось сказочным, нереальным. Я прижимался щекой к ее беличьей шубке, и состояние необычного блаженства пьянило меня.
Катюша была по-провинциальному наивна, чиста и доверчива. Она рассказывала о себе. Ее отец был в свое время главным архитектором Кронштадта. Умер совсем молодым, еще в 1891 году. Жила теперь Катя с мамой Евгенией Онуфриевной и своей старшей сестрой – тоже Евгенией. В Москве у нее тетушка, сестра отца. Она и пригласила Катю на рождественские каникулы.
– В Москве друзей много?
– Не только друзей – знакомых никого. Ведь я первый раз в старой столице.
– Если позволите, Екатерина Яковлевна, я буду вашим другом…
Она молча опустила глаза. Я перевел разговор на другую тему:
– Как идет жизнь в Кронштадте? Я ни разу там не был.
– Я ведь родилась в Кронштадте! – радостно подхватила Катя. – Конечно, нам с Москвой не равняться, но у нас тоже много замечательного и такие славные, душевные люди! Есть музыкально-драматическое общество. Весь город собирается на наши концерты, у нас две хорошие залы – в нашей гимназии и в реальном училище. Оркестр мандолинистов даже в Петербурге успехом пользуется. Чудесный голос у моей подруги Наташи Вирен, она романсы Чайковского исполняет. Еще скрипач Иван Александрович Козлов. Все девочки в него влюблены: у него пышные бакенбарды. И говорит басом, словно Шаляпин поет: о-о-о…
Она опять рассмеялась, и снег упруго скрипел под нашими ногами, искрился под лунным светом. Пересекли Лубянку, на которой скульптурно застыли в своих саночках два-три извозчика, пошли по пустынной в этот час, узкой и длинной Мясницкой.
– Я все жду, когда вы, Екатерина Яковлевна, про себя расскажете. Ведь, признайтесь, вы в концертах участвуете?
– Конечно! Читаю стихи Лермонтова и… ваши.
– Очень приятно! И какие же стихи вы читаете мои?
– Я много знаю ваших стихов! – заговорила Катюша жарким шепотом, останавливаясь и блестящими глазами глядя на меня в упор. – Я была совсем ребенком, когда завела альбом, куда записываю любимых поэтов – Пушкина, Лермонтова, Надсона, Апухтина, вас…
Бунин от волнения осекся, помолчал, накинул плащ и вышел во двор. Погода делалась все пасмурней, тяжелые лохмы туч ползли по низкому, серому небу, с карниза веером срывались в лицо мелкие капли.
* * *С необыкновенной ясностью вспомнилась та рождественская ночь. Голову Катюши обрамляла старинная шаль, а возле рта серебрилась инеем. Глядя на ее лицо, на русую прядку густых волос, выбившихся из-под шали, он вдруг понял, что любит ее так, как никогда и никого не любил и, наверное, не полюбит.
Катя, глядя ему в глаза, тихо начала читать:
Помню – долгий, зимний вечер,Полумрак и тишина…Тускло льется свет лампады,Буря плачет у окна…Бунин был явно польщен.
– Господи, где вы такую древность откопали? Эти стихи я написал сто лет назад. Впервые опубликовал в «Книжке „Недели“» в январе восемьдесят девятого года. Как быстро время пронеслось! Мне было восемнадцать. А сколько вам?
Он наклонился к ней, прильнул к ее губам. Она всем гибким телом прижалась к нему и лишь мучительно выдохнула:
– Душа моя…
2Целые дни они проводили вместе. Обедали в трактире Егорова, что в Охотном ряду против «Национальной» гостиницы, или в «Большом московском трактире» у Корзинкина. Вечером гнали в «Стрельну» или к «Яру». Они окунались в ресторанное многоголосье с цыганским пением и плясками, тонким позвякиванием хрусталя, с дружескими тостами, объятиями друзей, льстивыми речами.
Потом, возбужденные всей этой праздничной и шумной обстановкой, выходили на морозный воздух, садились в сани, их дожидавшиеся. Ямщик помогал укутаться громадной медвежьей полостью. Бунин, замирая от предстоящего счастья, кричал ямщику:
– Гони вовсю, прокати с ветерком!
Ямщик старался изо всех сил, наяривая кнутом по могучим лошадиным спинам. Пара летела птицей, коренник дробил крупной рысью, пристяжная метала из-под серебристых подков снежными комьями. Сани неслись по уснувшему городу, опасно подпрыгивая на ухабах, грозно накренясь на поворотах.
Он шептал ей нежно:
– Катенька, ты не боишься?
– С тобой, милый, я ничего не боюсь.
– А если шею сломаем?
– Ведь ты рядом, душа моя.
И они, откинувшись назад, вновь заходились в поцелуе.
* * *Перед отъездом Катя привела его к себе. Старинный особняк спрятался в тихом дворике, за яузским полицейским домом, что на углу Харитоньевского и Садовой-Черногрязской. Ее тетушка, милейшее существо, радушно улыбалась:
– Да вы пирожков откушайте! Сама пекла…
Это был их последний вечер. Ближе к полуночи они наняли извозчика и, спустившись по Каланчевке, оказались на Николаевском вокзале. По настоянию Ивана Алексеевича Катюша ехала в отдельном купе первого класса.
На дебаркадере была обычная бестолковщина, которая случается перед отходом пассажирского: торопливо снующая публика, носильщики с чемоданами, поцелуи и крики, запах дыма, гудки паровоза.
Они вошли в купе, присели «на дорожку». На глазах Катюши были слезы, но она старалась бодро улыбаться:
– Приезжайте сразу после Масленицы, будем отмечать двухсотлетие Кронштадта. Какие пройдут балы и концерты! Обещайте, приедете?
– Может быть.
– Вот будет фурор! Сам Бунин у нас! Вас ждет триумфальная встреча… И с вами, милый, все время рядом буду я. Ах, скорей бы, душа моя!
– Постараюсь! – сказал он, хотя знал, что никуда не поедет.
– Если не выйдет, так сделаем, как договорились: по окончании курса сама приеду к вам. Навсегда. Я понравлюсь вашим родителям?
– Конечно! – горячо воскликнул Бунин, жарко целуя ее глаза и влажные губы.
Медно звякнул колокол. Катюша еще раз порывисто обняла его, торопливо забормотала:
– Не забывай меня никогда, никогда!
Что-то екнуло в сердце. Путаясь в длинных полах роскошной соболиной шубы, Бунин спустился с вагонных ступенек.
Лязгнули буфера, поезд лениво пополз вдоль дебаркадера.
3В Кронштадт он, конечно, не поехал. Зато она писала ему, он отвечал ей хорошими письмами. Потом от Катюши письма приходить перестали.
Уже в начале лета, когда буйно цвела сирень, он проходил по Харитоньевскому переулку. Неожиданно для себя свернул во дворик углового дома. На скамейке, в тени деревьев, сидела с вязаньем тетушка Александра, с удивительно добрым лицом. Когда Бунин напомнил ей о себе, она вдруг тихо заплакала:
– Катя навсегда покинула нас… Во время Масленицы каталась на санях, продуло ветром… Ее отец, Яков Алексеевич, тоже умер от крупозного воспаления легких.
Не помня себя, Бунин вышел на Садовое кольцо. Всю ночь с подвернувшимся под руку Чириковым пил водку, и водка не брала его. В ушах звучал Катюшин голос: «Тихо льется свет лампады…»
Теперь, спустя полтора десятилетия, неожиданно нахлынувшие воспоминания разбередили сердце. Уединившись в своей комнате, Иван Алексеевич писал:
Свет незакатный
Там, в полях, на погосте,В роще старых берез,Не могилы, не кости —Царство радостных грез.Летний ветер мотаетЗелень длинных ветвей —И ко мне долетаетСвет улыбки твоей,Не плита, не распятье —Предо мной до сих порИнститутское платьеИ сияющий взор.Разве ты одинока?Разве ты не со мнойВ нашем прошлом, далеком,Где и я был иной?В мире круга земного,Настоящего дня,Молодого, былогоНет давно и меня!Вдруг что-то стукнуло в окно. Бунин прильнул к стеклу. Сжалось сердце: ему показалось, что меж черных деревьев мелькнуло Катино лицо.
4С вечера Бунин долго не мог уснуть. То и дело по селу раздавались какие-то пьяные крики, бабье взвизгиванье, нестройные песни. Несколько раз кто-то палил из охотничьих ружей. Затихло лишь далеко за полночь.
Бунин забылся в тяжком, словно похмелье, смутном сне. Под утро ему приснилось, что лежит он навзничь на горячей, распаленной полуденным жаром земле среди бурно разросшейся садовой зелени. Но вот, густо шумя, заволакивая знойно-эмалевое небо совершенно черными, как гробовой креп, облаками, рос и приближался огненный смерч. Вокруг вспыхнуло всепожирающее пламя, до самых небес протянуло свои яркие мотающиеся вихри. Бунин хотел бежать – и не мог. Он задыхался среди пожарища – земля не пускала его.
…Враз наступило пробуждение – хлопнув дверью, в спальню влетела в ночной сорочке Вера. Рыдая, она бросилась на грудь мужа:
– Ян, мужики опять отправились громить Бахтеяровых, уже горит барский дом. В открытую все говорят, что теперь на очереди мы…
Бунин с минуту молча сидел на краю постели, свесив сухие в щиколотках ноги и приходя в себя. Резко поднялся, решительно произнес:
– Чернь без узды страшнее бешеных волков. Если нет сил противиться дикому разгулу толпы – лучше бежать. Собирайся, сегодня же – в Москву!
* * *Быстро покидав самое необходимое в два чемодана, распорядившись насчет лошади, они спустились во двор. В саженях двухстах, за текущей вдоль Глотова речушкой Семенек, разгульная, уже пьяная толпа громила винные склады Бахтеяровых. Пожар успели затушить. В воздухе висел дурной запах погорелья, доносился собачий лай да гомон гулявших погромщиков.
Шустрая гнедая кобылка резво потащила телегу. Въехали в ближний лесок. Солнце поднялось над верхушками дальнего леса. Ярким прощальным светом озарило ликование осенней природы. Янтарно-багровые цвета ярче оттенял купоросно-зеленый мох старых вырубок. Оставшиеся зимовать птицы весело суетились возле тяжелых гроздей вполне вызревшей рябины.
Весь этот золотой праздник природы создавал удивительную несовместность с погребальным настроением Бунина, и оттого на душе делалось еще горше.
Вдруг он привстал, опираясь на край телеги, взглянул на показавшуюся из-за излучины дороги березовую рощицу и, не отводя от нее долгого взгляда, перекрестился.
– Вера, горше всего оставлять в этой роще, на бедном сельском кладбище прах мамы, Людмилы Александровны. Та просила меня лишь об одном: «Ванюшка, не забывай моей могилки…» Мамочка, прости! Будущим летом приду к твоему последнему приюту, выложу его дерном, засею вокруг мак. Ты всегда любила цветы!
Вера сочувственно вздохнула, словно понимала: отеческих могил им больше не видать.
* * *В Ельце он заночевал, остановившись на Большой Дворянской в доме знакомого нам присяжного поверенного окружного суда Барченко. На свое несчастье, он забыл тут свой портфель с рукописью для «Паруса», вспомнил об этом лишь в поезде.
Вагон третьего класса, в который ему удалось втиснуться, был донельзя набит разночинной публикой, среди которой все же выделялась солдатня. И в без того тяжелом воздухе то и дело вспыхивали огоньки козьих ножек. Сидевший возле запотевшего окна господин в пальто с круглым каракулевым воротником, давно сердито поглядывавший на куривших солдат, нервно произнес:
– Почему вы курите? Ведь дышать нечем, а здесь женщины, дети!
Солдат с выпуклыми водянистыми глазами и головой, перевязанной грязной тряпкой, злорадным тоном превосходства сквозь узкую щель рта выдавил:
– Что, трудящим теперь покурить нельзя?
В разговор вступила баба, лежавшая на верхней багажной полке и без остановки лузгавшая семечки. Она сплевывала в кулак, и шелуха время от времени падала на разместившихся внизу.
– Ишь, шибко грамотный какой! – Она остервенело уставилась на господина. – Воздух буржую не ндравится! Может, тебя за окно выставить? На ветерок?
Мужики, бабы и солдаты загоготали.
– Как вы смеете? – возмутился господин.
– Так и смеем! – угрюмо произнес оборванный мужик в овчинной шубе и с деревяшкой вместо ноги. – Хватит, накомандовались! Теперя мы будем распоряжаться, а вы – вертеться…
Господин отвернулся к окну и не отрываясь смотрел в кромешную тьму. На плечо Бунину летит сверху семечная шелуха. Мужик с деревяшкой отрывает полоску газеты, жирно плюет на заскорузлые пальцы и скручивает цигарку.
…Так для писателя заканчивается день, который будет вписан кровавой строкой в российскую историю, – среда, 25 октября 1917 года.
Октябрь, 25-е
1В тот ночной час, когда, тесно прижавшись друг к другу, Бунины разместились на узкой полке железнодорожного вагона, уносившего их к Курскому вокзалу в Москве, еще двое лежали под общим одеялом в дальней комнатушке Смольного института благородных девиц. Наслаждались отдыхом два вождя. Одного вождя звали Ульянов-Ленин, другого – Троцкий.
В институт – творение великого Кваренги – еще 4 августа перебрался из Таврического дворца Петроградский Совет и ЦИК. Но вскоре отцам революции соседство с девицами стало в тягость. Видимо, юные прелестницы не были предметом увлечения партийцев, мешали им отдавать себя целиком и полностью строительству светлого будущего. Последовал начальнический приказ: «Девицам частично освободить помещение!» Тем пришлось потесниться.
Вот как писал об этой исторической ночи Троцкий:
«Мы лежали рядом, тело и душа отходили, как слишком натянутая пружина. Это был заслуженный отдых. Спать мы не могли. Мы вполголоса беседовали, Ленин только теперь окончательно примирился с оттяжкой восстания. Его опасения рассеялись. В его голосе были ноты редкой задушевности. Он расспрашивал меня про выставленные везде смешанные пикеты из красноармейцев, матросов и солдат. „Какая это великолепная картина: рабочий с ружьем рядом с солдатом у костра! – повторял он с глубоким чувством. – Свели наконец солдата с рабочим!“ Затем он внезапно спохватывался: „А Зимний? Ведь до сих пор не взят! Не вышло бы чего?“ Я привстал, чтобы справиться по телефону о ходе операции, но он меня удерживал. „Лежите, я сейчас кому-нибудь поручу“. Но лежать долго не пришлось. По соседству в зале открылось заседание съезда Советов. За мной прибежала Ульянова, сестра Ленина…»
– Идите, Перо! – неожиданно срывающимся голосом проговорил Ильич. От волнения он даже назвал соратника по кличке – Перо.
Согласно продуманному сценарию, Троцкий должен был появиться первым и огласить новость исторического масштаба.
Поправляя на ходу жесткую шевелюру, отряхивая от прилипших соринок костюм, Троцкий поспешил в зал. Он еще раз прокручивал в голове фразы, которые сейчас произнесет перед Петроградским Советом. Через боковую дверь Троцкий вошел за кулисы, энергично откашлялся, смачно сплюнул в пыльный угол и шагнул на сцену…
Зал был переполнен, и с серых лиц скатывались градины пота. Представители губернских Советов и депутаты Петроградского Совета, завидя Троцкого, с восторгом захлопали в ладоши и застучали по паркету ногами. Тот, нервно дернув головой, взошел на трибуну. Часы точно отметили время великого момента – два часа тридцать пять минут 26 октября. Еще накануне Лев Давидович перед депутатами Совета категорически заявлял: «Ни сегодня, ни завтра вооруженный конфликт не входит в наши планы!»
Но теперь получалось так, что истинные намерения расходились со словами. Ведь не могла же партия за несколько часов коренным образом изменить тактику! По-орлиному взглянув на собравшихся, Троцкий гордо вскинул козлиную бородку, взмахнул обеими руками.
– От имени Военно-революционного комитета объявляю… – Как опытный актер перед убийственной репризой, выдержал паузу, а затем, не жалея голоса, победоносно выпалил: – Временное правительство больше не существует!
Рев прокатился по залу. Все вскочили, топали сапогами, истошно заходились в крике: «Наша взяла! Ура!»
Троцкий таял от восторга, он крикнул:
– Да здравствует Военно-революционный комитет!
Социальный изгой, родившийся тридцать восемь лет назад в глухой деревушке Яновке Херсонской губернии, ликовал. Он всегда, сколько помнил себя, носил какую-то смутную, неоформившуюся, но твердую уверенность, что будет повелевать людьми. Мечта была нереальной, даже смешной, но он годами вынашивал, лелеял ее. И вот пришел долгожданный миг. Толпа рукоплескала ему, он вознесен над всеми!
Все больше впадая в экстаз, жестикулируя, играя голосом, Троцкий электризовал толпу, кидая ей слова:
– Министры Временного правительства арестованы… Предпарламент распущен… Железнодорожные вокзалы, Центральный телеграф, Госбанк заняты революционными войсками! Зимний дворец пока не взят, но судьба его решается в этот момент!
Дождавшись, когда уставший от восторгов зал поутих, Троцкий поставил в своей речи победоносную точку:
– Обыватель мирно спал и не знал, что с этого времени одна власть сменяется другой!
«Обыватели» – русские люди – действительно мирно спали, не подозревая, что именно в эту ночь судьба готовила им гражданскую войну, голод, тиф, концлагеря, повальную слежку, лишение всех прав и на целые десятилетия – страх, страх, страх…
Пришел нужный момент, как и было предусмотрено заранее, в зале появился Ленин. Троцкий, словно для жарких объятий, протянул навстречу руки. Он завопил так, что, кажется, закачались подвески на люстрах и окончательно пробудились очаровательные обитательницы в неоккупированной зоне дворца:
– Да здравствует товарищ Ленин, он снова с нами! – и предупредительно соскочил с трибуны.
Зал ликовал.
Они стояли рядом – плечо к плечу, их распирала гордость, они счастливо улыбались и аплодировали залу.
Ленин взошел на трибуну и, сильно грассируя, произнес слова, которые позже узнал каждый советский школьник, которые тысячекратно вводили в свои кино- и прочие сценарии драматурги, воспроизводили историки, присяжные восхвалители всех мастей:
– Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, свершилась… Отныне наступает новая полоса в истории России, и данная, третья революция должна в своем конечном итоге привести к победе социализма.
Одной из очередных задач является необходимость немедленно закончить войну…
Мы приобретем доверие со стороны крестьян одним декретом, который уничтожит помещичью собственность. Крестьяне поймут, что только в союзе с рабочими спасение крестьянства… У нас имеется та сила массовой организации, которая победит все и доведет пролетариат до мировой революции.
В России мы сейчас должны заняться постройкой пролетарского социалистического государства. Да здравствует всемирная социалистическая революция!
Зал радостно гудел, хлопал в огрубелые ладоши, хотя трудно было понять, что выкрикивает этот картавый оратор. Но самый темный солдат вдруг ощутил себя лицом значительным, тем, кто был ничем, но скоро якобы станет всем.
2Бунин стоял у окна вагона. Поезд при подъезде к Москве несколько замедлил ход. Мимо мелькали знакомые дачные поселки, деревья с обнаженными ветвями, убранные поля.
Потом началась окраинная Москва с ее приземистыми домами из обожженного темно-красного кирпича, домами, которые строили с расчетом на внуков и правнуков. На крутом холме показался белокаменный красавец – Андроников монастырь, за могучими стенами которого покоится прах великого иконописца Андрея Рублева.
Въезжая на мост, под которым текла сонная Яуза, поезд дал раскатистый гудок. На вязком берегу, утопая копытами в грязи, стояла рыжая в белых пятнах корова, размахивавшая несоразмерно длинным хвостом. Задрав голову, она трубно мычала.
И вот последние приметы, за которыми сразу же начнется дебаркадер, – завод Федора Гакенталя и два крошечных мостика над Сыромятниками.
* * *Бунин, едва выйдя с женой из вагона, заметил неестественное, чуть ли не праздничное возбуждение вокзальной толпы. Все чувствовали себя детьми, любующимися пожаром. В городе, судя по множеству признаков, творилось что-то необыкновенное.
То и дело попадались небольшие вооруженные отряды рабочих и солдат. На рукавах у некоторых краснели повязки. Мелькали кумачовые флаги. Старались попадать в ногу, распевая несуразицу:
Мы жертвою пали в борьбе роковой…Хотел купить газеты, оказалось, что почти все запрещены большевиками. Настроение было окончательно испорчено.
До Поварской добрались без приключений. Остановились в доме под номером 26 во второй квартире – это слева на первом этаже.
Бунин отправился принимать ванну, а Вера побежала в банк – забирать деньги. К вящему удивлению мужа, она вернулась сияющей: ей удалось получить весь остаток – восемь тысяч рублей.
На следующий день Бунин позвонил в Елец Барченко:
– Василий Ксенофонтович, мой портфель…
– Да, конечно! Сегодня отправлю ночным двести первым поездом. Отдам обер-кондуктору.
* * *С каждым днем и, пожалуй, даже с каждым часом в Москве нарастало противостояние законной власти, образовавшей при Думе Комитет общественного спасения, и большевистских заговорщиков, назвавшихся «Военно-революционным комитетом».
Каждая сторона заняла выжидательную позицию. Только благодаря этому в первые дни после захвата Лениным власти в Питере и в Москве обошлось без кровопролития.
И все же, когда в полдень 27 октября Бунин собрался на Курский вокзал, Вера твердо заявила:
– На дворе беспокойно! Я пойду с тобой.
Вздохнув, Бунин согласился.
Поезд из Ельца безбожно опаздывал.
Бунин нетерпеливо прохаживался по перрону, сердился, ругался:
– Где это видано! Третий час жду. Это большевистская власть так началась. Никогда прежде поезда не опаздывали. Сколько еще нам киснуть тут? Без-зобразие!
В это время где-то вдали грохнуло – словно гром по небу прокатился. Потом ухнуло еще и еще. Стало ясно: стреляют из пушек. У Бунина вытянулось лицо.
– Что такое? В Москве – война? Ну дожили…
Стрельба то затихала, то возобновлялась. Бунин нервничал все больше.
Наконец поезд прибыл. Бунин отыскал обер-кондуктора, получил свой портфель и щедро отблагодарил его красненькой. Вышли на привокзальную площадь. Теперь стрельба гремела беспрерывно. Порой глухо ухали пушки. День был теплый, пасмурный, в воздухе висел густой туман.
– Где стреляют? – спросил Бунин праздно стоявшего носильщика.
Тот неопределенно пожал плечами:
– Кто ё знает… Я на Земляном Валу живу. У нас пока тихо. А вот на Тверской, сказывают, пуляют. И на Красной площади тоже. – Он прислушался к артиллерийской канонаде и радостно-идиотски улыбнулся: – Будто Илья-пророк в колеснице катается! Во как матушка-Москва зашумела-загудела. Громом гремит, молнией озаряется! Чисто праздник престольный…
С извозчиком не торговались.
– Поезжай через Земляной Вал, – приказал Бунин. – С той стороны, кажется, стрельбы не слышно.
Извозчик погнал сытую бокастую кобылу. Выехав на Земляной Вал, споро взял влево, к Покровке. Город за несколько часов преобразился.
На всех углах, на тротуарах и отчасти на мостовых чернели толпы. Хотя трамваи не ходили, извозчиков и автомобилей стало меньше, чем обычно. Раза два-три Бунин видел санитарные кареты, направляющиеся в центр.
Навстречу им несколько раз попадались дамы и господа – в колясках и пешие, обремененные тяжелой поклажей, державшие на руках плачущих детей.
– Почему они бегут? – обеспокоилась Вера.

