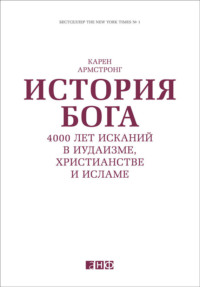
История Бога: 4000 лет исканий в иудаизме, христианстве и исламе
Разъясняя переданную ему веру, Павел утверждает, что Иисус страдал и умер «за грехи наши»[163]. Похоже, ученики Иисуса были настолько потрясены позорной казнью, что всеми силами старались оправдать ее некой пользой. В девятой главе мы еще поговорим о том, как на протяжении XVII столетия другие иудеи искали подобное объяснение не менее позорной смерти другого Мессии. Первые христиане верили, что Иисус каким-то чудом выжил, но «силы», которыми прежде обладал только он, отныне, как и было обещано, перешли к его ученикам. Из посланий Павла нам известно, что первые христиане испытывали самые разнообразные необычные переживания, наводящие на мысль о появлении нового идеала человека: одни творили чудеса, другие говорили на небесных языках, третьи оглашали провозвестия, внушенные, по их мнению, Самим Богом. Церковные службы были мероприятиями шумными и зрелищными, что выгодно отличало их от нынешних пресных речитативов в приходских церквах. Судя по всему, смерть Иисуса действительно была в каком-то смысле благотворной – она родила «обновленную жизнь» и «новую тварь», о которых многократно говорит в своих посланиях Павел[164].
Но в то время не было еще хорошо разработанной теории распятия как искупления «первородного греха» Адама; этот раздел богословия появился не ранее четвертого века и стал важным только для Запада. Павел и другие новозаветные авторы никогда не пытались точно разъяснить, в чем заключается спасительность смерти Иисуса. Несмотря на это, образ жертвенной казни Христа во многом сходен с идеалом бодхисаттвы, набиравшим в те времена силу в Индии. Иисус, как и бодхисаттва, стал посредником между человеком и Абсолютом – с той лишь разницей, что Христос был единственным таким посредником и его содействие спасению людей было fait accompli[165], а не делом неопределенного будущего. Павел настаивает на том, что самопожертвование Иисуса было событием уникальным. Хотя апостол и выражает надежду, что его собственные терзания тоже принесут пользу другим, не остается никаких сомнений в том, что мучения и смерть Иисуса куда выше «рангом»[166]. В такой идее, впрочем, таится своя опасность. Бесчисленные будды и непостижимые, парадоксальные аватары напоминали верующим, что Высшую реальность совершенно невозможно изъяснить до конца. Уникальность Вочеловечения в христианстве неявно предполагает, что неисчерпаемое бытие Бога уже проявилось однажды во всей полноте в одном-единственном человеке, а это может привести к примитивному идолопоклонству.
Сам Иисус повторял, что «силы» Господни доступны не только ему. Павел развивал эту идею, доказывая, что Иисус был лишь первым образцом нового человека: он не просто сделал то, что не удавалось прежнему Израилю, но и стал новым Адамом, символом обновления человечества – всех людей, в том числе и гойим[167]. Такая мысль тоже имеет много общего с буддийской: поскольку все будды слились воедино с Абсолютом, к этому сводится и предназначение каждого человека.
В послании к филиппийской церкви Павел произносит слова, которые принято считать первым христианским гимном. Помимо прочего, в нем поднимается ряд важных проблем. Прежде всего, апостол разъясняет новообращенным, что они, как сам Иисус, должны быть готовы к самопожертвованию:
Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу;
Но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек;
Смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти яростной.
Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя свыше всякого имени,
Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних,
И всякий язык исповедал, что Господь [Кириос] Иисус Христос в славу Бога Отца[168].
В этом гимне, очевидно, отражено распространенное среди первых христиан мнение о том, что Иисус изначально обладал неким предсуществованием «в Боге» и лишь затем стал человеком посредством «самоуничижения» (кенозис) – то есть, подобно бодхисаттвам, решил разделить страдания с простыми смертными. Склад ума Павла был слишком иудейским, чтобы счесть Христа вторым Лицом Божества, извечно сущим наряду с YHVH. Гимн ясно показывает, что даже после вознесения Иисус остается отличным от Бога и занимает относительно Него низшее положение, хотя Господь возвеличил его и наградил званием Кириос. Не сам Христос принял это имя; оно дано ему лишь «в славу Бога Отца».
Примерно сорок лет спустя, около 100 г., подобное предположение высказал автор Евангелия от Иоанна. Во введении он рассказывает о Слове (логос), которое было «в начале у Бога» и стало орудием творения: «Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть»[169]. Под греческим понятием логос евангелист подразумевает вовсе не то, что когда-то имел в виду Филон; судя по духу текста, его автору куда ближе был палестинский, а не эллинизированный иудаизм. В арамейских переводах древнееврейских текстов, так называемых таргумах, термин Метга («слово») означает деятельность Господа на земле. По существу, он передает тот же смысл, что и более ранние категории «славы», «Святого Духа» или Шехины, то есть подчеркивает разницу между проявлениями Божественного в нашем мире и непостижимым бытием Самого Бога. Как и божественная Премудрость, «Слово» олицетворяет исходный созидательный замысел Господа. Говоря о том, что Иисус имел некое предвечное существование, Павел и Иоанн вовсе не подразумевают, будто он был вторым божественным «Лицом», как в более позднем учении о Троице. Апостолы просто утверждают, что Христос возвысился над преходящим и личностным уровнем бытия. И поскольку воплотившиеся в Иисусе «сила» и «премудрость» означают деятельность Самого Господа, Христос действительно в определенном смысле выразил то, «что было от начала»[170].
Подобные идеи имели смысл в контексте строгого иудаизма, но поздние христиане, воспитанные на греческой мысли, истолковали их совсем иначе. «Деяния апостолов», написанные не ранее 100 г., со всей очевидностью показывают, что у первых христиан сохранялись сугубо иудейские представления о Боге. На Пятидесятницу[171], когда сотни евреев всех диаспор сошлись в Иерусалим, чтобы отпраздновать годовщину появления Торы, на учеников Иисуса низошел Святой Дух. Они услышали, как «внезапно сделался шум с неба, как-бы от несущегося сильного ветра, […] и явились им разделяющиеся языки, как-бы огненные»[172]. Святой Дух явился первым евреям-христианам так же, как он открывался их современникам, таннаим. Ученики Христа тут же поспешили на улицы и начали проповедовать перед толпами евреев и «богобоязненных» из «Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее»[173]. Ко всеобщему изумлению, каждому слушателю казалось, будто апостолы говорят на его родном языке. Обратившийся затем к толпе Петр представил это чудо как торжество иудейской веры: пророки предсказывали, что однажды Господь изольет свой Дух на всех людей, так что даже женщины и рабы будут видеть видения и «сновидениями вразумляться»[174]. Этот день должен был ознаменовать становление Царства Мессии, когда Господь начнет жить на земле рядом со Своим народом. Петр отнюдь не утверждает, что Иисус Назорей был Богом, и лишь повторяет слова «Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил чрез Него среди нас, как и сами знаете». После мученической смерти Иисуса Господь воскресил его и вознес на особое, высочайшее место одесную Себя. Эти события были предвидены пророками и сочинителями псалмов, так что теперь «весь дом Израилев» может не сомневаться, что Иисус и был долгожданным Мессией[175]. Речь Петра является, судя по всему, главным провозвестием (керигмой) ранних христиан.
К концу IV в. христианство существенно окрепло именно в тех землях, которые перечислил автор «Деяний». Оно пустило корни в синагогах еврейской диаспоры, куда приходило немало «богобоязненных», то есть прозелитов. Казалось, реформированный иудаизм Павла решил множество давних проблем, ведь те люди в своем роде тоже «говорили на иных языках»: им не хватало единодушия и последовательности во взглядах. Многие евреи диаспоры считали Иерусалимский храм, насквозь пропитанный кровью животных, учреждением примитивным и варварским. «Деяния апостолов» донесли до нас это мнение в истории Стефана, еврея-эллиниста, который перешел в секту Иисуса и за богохульство был насмерть забит камнями по приговору Синедриона, еврейского совета старейшин. В своей предсмертной, полной страсти речи Стефан заявил, что Храм – оскорбление самой природы Бога: «Всевышний не в рукотворенных храмах живет»[176].
Многие члены еврейской диаспоры по-прежнему признавали талмудический иудаизм, разработанный раввинами после разрушения Храма; другие же считали, что христианство дает ответ на давние вопросы о статусе Торы и универсальности иудаизма. Особенно привлекательной новая вера была, разумеется, для «богобоязненных», у которых появлялась надежда стать полноправными гражданами Нового Израиля без изнурительного бремени шестисот тринадцати мицвот.
В первом веке христиане продолжали размышлять о Боге и молились ему как правоверные иудеи; они дискутировали наравне с раввинами, а церкви их мало чем отличались от синагог. Однако в 80-е годы, когда христиан официально изгнали из синагог за отказ соблюдать Тору, начались их язвительные диспуты с иудаистами. В первые десятилетия н. э. иудаизм, как мы уже знаем, привлек немало новообращенных, но после 70 года, когда у евреев начались трения с римлянами, позиции их веры серьезно ослабели. Частые переходы «богобоязненных» в лагерь христиан отбили у иудаистов охоту к прозелитизму и заставили относиться к потенциальным кандидатам с подозрительностью. Язычники, которых прежде мог привлечь иудаизм, обращались теперь к христианству; правда, в большинстве своем то были рабы и представители беднейших сословий. Образованные иноверцы начали принимать христианство лишь к концу II столетия; именно они и сумели разъяснить идеи новой религии недоверчивому языческому миру.
В Римской империи христианство сочли сперва одним из ответвлений иудаизма, но после того, как христиане перестали показываться в синагогах, к ним начали относиться с презрением: отречение от веры отцов римляне восприняли как страшный грех, а саму секту – как религиозных фанатиков. Римским моральным идеалом была консервативность; высшая ценность придавалась обычаям предков и авторитету главы семейства. Под «прогрессом» понимались вовсе не дерзновенные прорывы в грядущее, а возвращение к былому золотому веку. В нашем обществе, основой которого стали перемены, в сознательном отказе от прошлого принято видеть большой творческий потенциал, но римляне считали любые новшества опасными и даже губительными. С особой же подозрительностью они относились к любым массовым движениям, рвавшим оковы традиций. По этой причине Рим строго следил за религиозным «шарлатанством» и ревностно ограждал от него своих подданных. И все же в Империи витал дух беспокойства и неудовлетворенности. Условия жизни в гигантском межнациональном государстве лишили древних богов величия и силы; теперь люди слишком остро сознавали существование чужих, непонятных культур. Требовались новые духовные решения. В Европу тем временем проникали восточные культы; Исиде и Семеле поклонялись наряду с традиционными римскими божествами, символами устоев государства. На протяжении I в. н. э. то и дело возникали новые секты, обещавшие обращенным спасение и доподлинные знания о потустороннем мире. Однако ни одна из новоявленных религий пока не угрожала старым порядкам. Восточные божества не требовали безраздельного к себе внимания и не противоречили прежним обрядам; они были чем-то вроде святых, помогали по-новому увидеть мир, освежали ощущение его просторности. Присоединяйся к любым культам, чти любых божеств! До тех пор, пока та или иная иноземная религия не представляла угрозы для привычных богов и не слишком выставляла себя напоказ, власть относилась к ней с терпимостью и без труда совмещала с привычным укладом жизни.
От религии в ту пору не ждали мучительных размышлений и объяснения смысла жизни. С подобными нуждами обращались к философии. В эпоху поздней античности жители Римской империи поклонялись богам, чтобы заручиться их помощью в трудную минуту, добиться божественного благоволения к своей стране и ощутить целительную связь с минувшим. Религия заключалась не столько в богословии, сколько в культах и обрядах; она опиралась на чувства, а не на идеологию или принятую рассудком теорию. Подобное отношение нередко встречается и в наши дни: многих из тех, кто ходит сейчас на богослужения, теологические тонкости занимают в последнюю очередь.
Большинству людей не нужно никакой экзотики, им не по нраву сама идея новшеств. Они чувствуют, что сложившиеся обряды приносят ощущение связи с традиционным, а неизменность всегда успокаивает. Прихожане не ждут от проповедника блистательных свежих мыслей, и любое нарушение привычного порядка службы их только настораживает. Примерно такими же были и язычники поздней античности: им нравилось чтить богов, которым до них поклонялись многие поколения предков. Древние ритуалы вызывали чувство самобытности, укрепляли местные традиции и, казалось, были залогом того, что жизнь и дальше будет не хуже, чем теперь. Достижения цивилизации выглядели хрупкими, а безрассудное пренебрежение к богам-покровителям, которые помогали человеку сберечь плоды его творчества, могло поставить любые свершения под угрозу. Всякий культ, так или иначе противоречивший вере отцов и дедов, воспринимался со смутной опаской. Таким образом, христианство было неудобным вдвойне: у него не было ни вызывающего почтительность тысячелетнего стажа иудаизма, ни привлекательных обрядов язычества, которые всякий мог увидеть и оценить своими глазами. Кроме того, новая вера несла в себе серьезную угрозу: христиане настаивали, что их Бог – единственный, а прочие божества – лишь выдумки. Римскому биографу Гаю Светонию (70–160 гг.) христианство казалось сектой иррациональной и эксцентричной: superstitio nova et prava[177] – «порочное», разумеется, именно в силу своей «новизны»[178].
Образованные язычники обращались за знаниями к философии, а не к религии. Их святыми и пророками были такие античные философы, как Платон, Пифагор и Эпиктет, которых называли иногда «богорожденными». Считалось, например, что Платон действительно был сыном Аполлона. К религии философы относились с прохладной почтительностью, так как она, по их мнению, занималась совершенно иными материями. В те времена философы были не сухарями-книгочеями в башнях из слоновой кости, а людьми деятельными и общительными; они стремились спасать души современников и привлекали в свои школы как можно больше учеников. И Сократ, и Платон были в своей философии весьма «религиозными»: благодаря научным и метафизическим рассуждениям перед ними раскрывалось величие вселенной. Таким образом, в I в. н. э. грамотные и пытливые умы искали ответы на загадки жизни именно у античных философов, чьи сочинения содержали и вдохновляющую идеологию, и высоконравственные принципы. Христианство казалось большинству варварским предрассудком, а христианский бог – свирепым первобытным идолом, который то и Дело беспричинно вмешивается в суету смертных. Он, разумеется, не шел ни в какое сравнение с далеким и неизменным Богом таких философов, как Аристотель. Одно дело – допускать, что сынами божеств были личности масштаба Платона или Александра Македонского, и совсем другое – боготворить какого-то еврея, позорно казненного где-то на задворках Римской империи.
Одной из самых популярных философий поздней античности был платонизм. Неоплатоников I и II вв. Платон привлекал не как этический и политический мыслитель, но как мистик. Его труды помогали философам познавать себя, освобождали душу из темницы тела и переносили в мир Божества. Это была возвышенная и благородная система взглядов, где космология отражала прежде всего устойчивость и согласованность вселенной. Бытие Бога заключалось в безмятежном созерцании Себя; неподвластный губительному влиянию времени и перемен, Он пребывал на самой вершине необъятной иерархии сущего. Вселенная зародилась в Боге и была естественным следствием Его чистого бытия; от Него исходили вечные формы, которые, в свою очередь, наполняли жизнью солнце, звезды и луну – светила, прикрепленные к отведенным им сферам. Были, наконец, и божества, но в них теперь видели ангелов-помощников Верховного Бога, которые несли божественное в подлунный мир. Платоник не нуждался в варварских сказках о боге, который ни с того ни с сего решил сотворить мир или, пренебрегая иерархией бытия, вступал в непосредственное общение с жалкой горсткой смертных. Последователям Платона не требовалось гротескное спасение благодаря распятому Помазаннику. Философ сам был подобен Богу, подарившему жизнь всему сущему, и потому мог вознестись в высшие сферы самостоятельно – разумно и в полной гармонии со вселенной.
Как же христианам удалось обратить в свою веру языческий мир?
Христианство словно сидело меж двух стульев: оно не было, по мнению римлян, ни религией, ни философией. Более того, христианам было довольно трудно даже толком перечислить свои «убеждения». Они вряд ли вообще сознавали, что создают совершенно особую систему взглядов, и в этом были очень похожи на своих сограждан-язычников. В их вере еще не было последовательного «богословия». Точнее всего христианство того времени можно определить как старательно воспитываемое состояние преданности. Слова «символа веры» произносились христианами не для того, чтобы выразить свое согласие с неким набором утверждений. Само слово credere, «верить», произошло, скорее всего, от cor dare: «вверять свое сердце». Восклицание «Credo!» («верую!», или, по-гречески, pisteno) подразумевало прежде всего эмоциональное, а не интеллектуальное отношение. Так, например, Феодор, который с 392 по 428 год был епископом Мопсуэстии, что в Киликии, втолковывал своей пастве:
Когда клянешься Господу: «Верую» (pisteno), тем самым показываешь, что остаешься верен Ему, никогда от Него не отвратишься, всегда будешь чтить Его выше всего иного, жить в Нем и поступать по заветам Его[179].
Позже христианам потребуется более четкое теоретическое обоснование своей веры, и они воспылают беспримерной в истории мировых религий страстью к богословским спорам. Нам уже известно, что в иудаизме официальной доктрины не было, а представления о Боге оставались, в общем, личным делом каждого. Такой же подход к вере был и у первых христиан.
Во втором столетии некоторые язычники, обратившиеся в христианство, попытались вразумить заблудших сограждан и доказать, что новая вера вовсе не является губительным разрывом с общепризнанной традицией. Одним из первых таких апологетов стал Иустин Кесарийский (100–165 гг.), мученически погибший за веру. В его неутомимом стремлении докопаться до сути отражается общая духовная тревога, характерная для той эпохи. Иустин не был ни глубоким, ни блистательным мыслителем. До обращения в христианство он бывал то у стоиков, то у перипатетиков, то у пифагорейцев, но, по-видимому, так и не смог разобраться в их сложных теориях. Характер и умственные способности Иустина не совсем подходили для занятий философией, но вера на уровне культов и обрядов его тоже не устраивала, и потому христианство оказалось вполне удачным выбором. В двух своих апологиях (ок. 150 и 155 гг.) он доказывал, что по сути христиане просто следуют Платону, который считал, что на свете есть один-единственный Бог. Главным же доводом Иустина было то, что Рождение Христа предсказывали и греческие философы, и еврейские пророки, – и эта мысль, должно быть, производила в ту пору сильное впечатление на язычников, ведь прорицания все еще были в большом почете. Кроме того, апологет утверждал, что Иисус – воплощение логоса, или божественной мысли, которую стоики считали основой космического порядка; логос активно действовал на земле на протяжении всей истории и в равной мере вдохновлял как греков, так и евреев. Развить эту свежую мысль Иустин, однако, не пытался, хотя вопросов она вызывала немало: как логос смог воплотиться в человеческом облике? Равнозначен ли логос таким библейским понятиям, как Слово и Премудрость? Какие отношения связывают его с Единым Богом?
Другие христиане разрабатывали куда более радикальные богословские системы, и не из любви к рассуждениям во имя истины, а ради укрощения душевной тревоги. В частности, в поисках причин своего острого чувства оторванности от божественного мира гностики («знающие») перешли от философии к мифологии. Их мифы отражали недостаток знаний о Боге и божественном; это невежество они, естественно, переживали как источник горя и стыда. И у Василида, который преподавал в Александрии в период между 130 и 160 годами, и у его современника Валентина, явившегося в Рим из Египта, появилось огромное число приверженцев – это по-своему подтверждает, что многие из новообращенных христиан чувствовали себя растерянными и лишенными ориентиров.
Все гностики начинали с непостижимой реальности, именуемой «Божество»: от Божества произошла та меньшая сущность, которую мы называем «Богом». О Божестве нет смысла говорить, поскольку оно совершенно недоступно ограниченному человеческому уму. Как поясняет Валентин, Божество – это
…Глубина или Первообраз, необъятный и невидимый, вечный и безначальный, существовавший бесчисленные века в величайшей тишине и спокойствии. Это мужской эон; ему соприсущ был женский эон «мысль», или «благодать», или «молчание»[180].
Люди всегда строили догадки об этом Абсолюте, но ни одно из объяснений никогда не станет достоверным. Описать Божество невозможно; оно – не «добро» и не «зло». Нельзя даже сказать, что оно «существует». Василид утверждал, что в начале не было Бога, было лишь Божество, и Оно, строго говоря, было «Ничто», потому что не существовало в привычном смысле слова[181].
Однако Ничто пожелало стать познанным, чтобы не оставаться далее в полном одиночестве в Глубине и Безмолвии. В недрах его бездонной сущности произошли радикальные перемены, следствием которых стал ряд эманаций, сходных с теми, о каких рассказывали древние языческие мифы. Первой эманацией был «Бог», которому сейчас поклоняются. Но и «Бог» был недоступен человеку, а само понятие нуждалось в дальнейшем прояснении. По этой причине от него попарно исходили все новые эманации (именуемые эонами), и каждая выражала одно из божественных свойств. «Бог» не имел пола, но каждая пара эманаций, как в «Энума элиш», состояла из мужского и женского – так создатели этой системы пытались избавиться от преобладания мужского элемента, присущего традиционному монотеизму. Очередные пары эманаций становились все слабее и разреженнее, так как все больше отдалялись от божественного Источника. Когда же появилась тридцатая такая пара эманации, процесс завершился и божественный мир – Плерома – принял свой окончательный вид. Ничего возмутительного в космологии гностиков не было: в ту эпоху все верили, что космос изобилует эонами, демонами и прочими духовными силами. Апостол Павел говорил о Престолах, Господствах, Властях и Силах, а для философов было самоочевидным, что такие незримые силы суть древние божества и посредники между людьми и Единым.
Затем произошла катастрофа – первобытное падение, которое гностики описывали по-разному. Одни утверждали, например, что София (Премудрость), последняя эманация, впала в немилость, поскольку пожелала обрести запретные знания о недоступной Божественности. Самонадеянность этих притязаний стала причиной изгнания ее из Плеромы; горе и страдания Софии воплотились в виде материального мира. С тех пор заблудшая изгнанница скитается по космосу, мечтая о возвращении к божественному Первоначалу. В этой смеси восточных и языческих идей выразилась убежденность гностиков в том, что наш мир есть в некотором смысле извращение мира небесного, вызванное неведением и путаницей. Другие гностики считали, что «Бог» не создавал наш мир, так как просто не имеет ничего общего с грубой материей. Вселенная сотворена одним из эонов, которого называли Демиургом, «Творцом». Он воспылал завистью к «Богу», захотел стать центром Плеромы – и, разумеется, был изгнан, после чего из духа противоречия сотворил вселенную. Но, как поясняет Валентин, Демиург «небо сотворил без знания, человека создал, не ведая человека, и землю произвел на свет без разумения земли»[182].
Однако другой эон, Логос, явился на помощь несовершенному творению и низошел на землю во плоти Иисуса для того, чтобы указать людям обратный путь к Богу. Со временем это направление христианства было полностью подавлено, но и столетия спустя иудаисты, христиане и мусульмане будут вновь и вновь возвращаться к этой мифологеме, чувствуя, что она выражает их религиозные переживания точнее, чем ортодоксальное богословие.