– Тут немного, Феденька, чекушечка, но зато какая – чистая, как слеза комсомолки!
Фёдор улыбнулся, уселся на колоду. Спина от частых наклонок привычно гудела. Мироныч достал раздвижные стаканчики – «из Германии, Феденька!» – и они выпили. Ветер стих. Жёлтые листья тополей на траве и на тропинке перестали задирать свои тёмные края и тяжело перелётывать на новое место. Городок за дощатым сараем, за белой церковной стеной просыпался и наполнялся, как водой, далёкими голосами и шумом машин. Но здесь ещё было спокойно, и лишь галки царапали когтями железную крышу. Мироныч улыбался, поглядывал на Фёдора: ему хотелось поговорить, но Фёдор по своей досадной привычке молчал, навалившись плечом на стамяк ворот. О чём он думал, Мироныч не знал, а расспрашивать не решался.
– Спина разболелась, – наконец сказал Фёдор, заметив, что Мироныч исподтишка его разглядывает.
– Ты, Иваныч, в деревне-то у себя был? Каково там? – спросил Мироныч.
– Не был я там! – солгал Фёдор. – Да и что там? Дома нет, никого нет. Тут хоть работа какая, дров наколоть, снег убрать, печь истопить, за тобой, ледящим, присмотреть. Чего жаловаться? Плесни-ка в стаканчик – ведь праздник сегодня!
– Какой праздник-от, Иваныч?
– Эх, ты, стара голова! Поднесенье сегодня! – засмеялся Фёдор. – Знамо, какой праздник. Лей, знай!
Самогонка булькнула о дно стаканчика. Фёдор встал, распрямил плечи, выпил.
– Спина прозябла – остывать стал. Давай, Мироныч, поколем ещё мальца дровишек, а то Настенька заругается.
– Ну, ты сказал – заругается! Да она со своим музеем за тобой, как за каменной стеной, Феденька.
Мироныч дососал, вытягивая пупырчатую шею, последние капли из стаканчика и стал собирать с земли поленья.
– Давай коли! А я укладывать буду, чего без дела-то сидеть!
Они принялись работать. Мироныч, поднимая каждое полено, вздыхал:
– Вот ведь как, Феденька! Дом-от был, люди жили, думали, богато будут жить. Долго. Радовались чему-то. А вот и нет дома, на дрова распилили, к нам в музей привезли, и ты его в печке стопишь. Всё их счастье дымом станет. Глянь-ко, гвоздик какой кованый вбили, крепкий. Знать, висло на нём чего-то. Супонь какую вешали, пальтушку. Гвоздик-от на, выбей да Насте снеси – много у ней гвоздей старинных, а вот такого, быват, и нету.
– Давай сюда! – нетерпеливо сказал Фёдор.
– Нет уж, сам снесу, – пошёл на попятную Мироныч, вытаскивая гвоздь. – Знаю тебя, выбросишь! Монетку, что в прошлый раз нашли, так и посеял?
– Не посеял. На подоконнике лежит.
– Лежит! Соврёшь – недорого возьмёшь.
Мироныч всегда после третьей рюмки становился ворчливым и недоверчивым стариком, Фёдор к этому привык и не обращал внимания. Но работалось уже не так. Слова Мироныча о старом доме разбередили его. Деревня, которую он оставил уже, почитай, пять лет назад, так и стояла перед его глазами. Он уже не подхватывал чурку как попало, а рассматривал её, будто искал, выглядывал какие-то особые знаки, способные рассказать о прежних хозяевах порушенного дома, но не находил их. Старое, щелястое дерево молчало. Топор бил коротко и сильно, откалывая лёгкие, пахнущие скипидаром поленца. Прыскали в холодную землю щепки. И Фёдору всё казалось, что он бьёт по живому, наконец он не выдержал, вбил топор в колоду и сказал:
– Всё, Мироныч, наработался. Сил нет. Осталось чего от твоей слезы?
– Чуток ещё есть, Иваныч! – Мироныч давно заметил какую-то, как ему показалось, недобрую перемену в Фёдоре, и потому обрадовался, когда Фёдор вспомнил про самогонку. – Гвоздь-то возьми!
– Да при чём тут гвоздь, Старый? Сам Насте отдашь. Ну, где твои заморские стаканчики?
Они допили последние капли. За рекой из-за леса поднялась серая туча и засорила мутным дождём.
– Река отведёт дождь-от, – сказал Мироныч, вглядываясь в небо.
– Быват, и отведёт, – откликнулся Фёдор. Сердце его щемило, и снова, как и несколько дней назад, какое-то глухое тягостное беспокойство просыпалось в нём. Мироныч засобирался топить баню, и Фёдор обрадовался, что Старый сейчас уйдёт, – ему хотелось побыть одному. Чтоб не идти с пустыми руками домой, он набрал полную охапку дров, поднялся на крыльцо, привычно подцепил носком сапога дверь, вошёл, толкнулся направо, в дверь под лестницей, – там была его каморка, которую он сам избрал себе для житья. Всё в ней было просто и ясно: деревянная широкая кровать, белые штукатуреные стены, окно с высоким наклонным подоконником, угловая железная печь, возле которой он бухнул на пол принесённые дрова, старинный письменный стол с необъятной столешницей, поразившей его своей добротностью и размерами. За пять лет всё стало родным и близким. Фёдор прошёл к столу, налил из чайника стакан воды и долго пил, подставив лицо бледному заоконному свету.
Он работал истопником в районном краеведческом музее и одновременно его сторожем. Работа, нехитрая и по-деревенски привычная, не стоила ему никаких особых трудов: наколоть дров, истопить нажарко три печи, прибрать двор. Настенька, Настасья Петровна, директриса музея, вчерашняя учительница истории, не могла нарадоваться на истопника: Фёдор Иваныч был настоящий хозяин своего музея и своего нового дома. Его не нужно было просить ни о чём, он всё видел сам и потому строгал, пилил, стеклил, перекладывал печи в необжитой части музея, обвязавшись верёвкой, бродил по крыше, ладя заплаты на прохудившуюся жесть. Но был молчалив и суров по целым дням, и Настенька в эти дни его побаивалась, хотя и знала, что Фёдор Иванович может быть и другим, весёлым и разговорчивым, особенно после рюмочки, которую он порой распивал с таким же одиноким Миронычем. Тогда его серые глаза приветливо улыбались, лицо прояснялось, светлело, и он громко и раскатисто смеялся, запрокидывая круглую, наголо остриженную голову.
Фёдору нравилось в музее, особенно вечерами, когда приходилось топить печи, нравилось, когда по сумеречным стенам (он не любил верхнего света) плясали длинные огнистые зайцы, дверка брякала, мелко постукивая от тяги, и дрова, жарко треща, стреляли раскалённым паром. Опершись на кочергу, он мог стоять долго и смотреть на огненную игру, которую затеял сам. Старинные портреты, ему чудилось, тоже оживали и также молча со стен смотрели на печной огонь. Он знал их всех по именам и только что не здоровался с ними, когда ходил с кочергой по полутёмным залам.
Сначала его всё удивляло в музее, вся эта древняя деревянная, как ему казалось, уже никому не нужная утварь: турки, прялки, изъеденные временем короба и пестери, которые во множестве привозила Настенька, а потом он понял её и перестал смеяться, и не было в музее теперь вещицы, которую бы он не подержал любовно в руках. Старый самодельный инструмент безвестных деревенских мужиков: рубанки, калёвки, долота, которые разными путями приходили в музей, – он упоённо поправлял, чистил, вырезал новые берёзовые клинья, вытачивал ножи и, когда Настенька не видела, осторожно работал ими, пробуя, каково. И если выходило хорошо, счастливо улыбался и рассматривал инструмент, вертя в широких и твёрдых, как само дерево, ладонях, будто в первый раз его видел. Знамя мастера, вырезанное на инструменте, тоже давало пищу для его размышлений – он всё пытался представить того мастера, угадать, каким он был, где жил и где пригодился. Он искренне считал, что инструмент помнит своего прежнего хозяина.
Родную деревню он навещал редко, да и куда было ехать. Но в прошлые выходные он не выдержал: никому ничего не сказав, отправился с Дмитрием Фроловым, знакомым, до своей деревни.
Выехали они рано, сырым и тёплым утром. Мелкий дождик висел в небе. Дворники шуршали по выпуклому стеклу «буханки». Вёрст тридцать с гаком они пролетели, не заметив. У маленькой сосновой рощицы свернули налево и по глинистой разбитой дороге, тяжело переваливая через глубокие межи бывшего поля, поползли в деревню. Высокая серая трава, из которой торчали зелёные крестики маленьких сосенок, тянулась до самого неба. Клочкастые облачка спешили наперерез. Машину болтало и выматывало, но Фролов только посмеивался – «Северный флот не пропадёт!» – и крепче сжимал баранку. Они остановились где-то посредине бескрайнего поля и вышли. Дождь перестал. Было тихо, тепло и грустно. Фёдору показалось, что они остановились где-то побоку кладбища: так много торчало из травы этих зелёных крестиков. Вдали их было ещё больше, и они перекрывали друг друга. Дмитрий что-то проверил под капотом, хлопнул крышкой и спрыгнул на землю.
– Помнишь, Иваныч, репу здесь сеяли? А как убирать, школу на три дня закрывали. То-то времена были! А сейчас никому ничего не нужно! Тебя как, до пепелища докинуть?
– Сам дойду!
– В два часа обратно, не опаздывай!
Фёдор кивнул и шагнул на едва заметную тропинку. Она петляла, бежала под гору к ручью, за которым виднелось то же поле, низкие крыши деревни и шесты со скворечниками. Тёмная сырая трава путалась у него под ногами. Следом, туго обрываясь, тянулся вязель. Он спотыкался. Какие-то рыжие, в крапинку, птички выпархивали из травы, кружились рядом и не боялись его. Штаны на коленях от травы намокли, он измазался в глине и паутине, когда спускался к ручью, но ни разу не пожалел, что пошёл пешком. На мосту Фёдор остановился унять дыхание и сердце. Белое выцветшее солнце коротко облеснуло дорогу. В длинных лужах зажглось старое синее небо, и все новые незнакомые берёзовые рощицы заиграли яркими желтками.
Фёдор думал, как встретит его родной угол, что почувствует он, когда подойдёт к родному забору, толкнёт калитку – «Да жива ли она, сердечная?» Как там всё? И старая рябина, и его уросёха? Так называлась мастерская с маленькой банькой.
Ручей журчал под разбитыми бетонными плитами. Клочья серого сена висли на ржавой арматуре. Фёдор вспомнил, как мальчишкой пускал в этом ручье кораблики, но там, где раньше была песчаная отмель, а повыше сруб водяной мельницы, были теперь только рыжие кусты ивы, закрывающие воду. Сердце, будто пробуя, что-то кольнуло, и тут же зажглось и запекло в груди. «Ещё этого мне не хватало!» – испуганно всполошился Фёдор, похлопал по карманам, вытащил таблетку валидола и, торопясь, запихал под язык. «Ну, пойду, что ли?» – спросил он сам себя и неловко побрёл в гору.
Боль унялась, когда деревня раскрылась перед ним. Он улыбнулся и нетерпеливо и быстро, подгоняя себя, зашагал к старой рябине, срезая угол, чтобы не увидели сразу соседи, и толкнул калитку. Двор был выкошен. Невысокий холмик на месте сгоревшего дома, весь заросший иван-чаем, был нетронут. Расклёванные ягоды рябины среди мятых перистых листьев лежали на траве и уцелевших мостках. Фёдор подошёл поближе и незаметно поклонился: «Ну, здравствуй, что ли!» Иван-чай молчал. Белые кружевные макушки покачивались на ветру. Трава шелестела тихо, почти неслышно. Фёдор тоже молчал, смотрел перед собой, да ничего не видел. Другое было перед его глазами…
Дом, где он жил когда-то с Лизаветой, сгорел дотла. Занялось где-то поздней ночью скоро и страшно. Одно хорошо, что хоть ветер, с безжалостной силой раздувавший огонь, в упор шёл на реку. Фёдору долго боялись говорить о новой напасти – в ту пору он с сердцем лежал в больнице, и только в день выписки соседка Марфа Ивановна в больничном садике вдруг закричала ему, плача и ломая руки:
– Феденька, Фёдушко! Виноваты мы, недоглядели! Прости нас! Дом-от твой сгорел! – и повисла на его шее.
– Как же сгорел-то? – прошептал он непослушными губами, ещё не понимая всего, а уж что-то ёкнуло в сердце, облило холодом и захвостнуло наотмашь. Вцепился он в руку Марфы Ивановны и кулём, опрокидываясь, выворачивая неловко голову, повалился в звенящую пустоту.
– Фёдо! Фёдушко! – кричала Марфа Ивановна, да он уж не слышал её.
Столько лет прошло, господи, а всё будто вчера. Провёл Фёдор ладонью по занемевшему лицу – «Ну вот, не хотел, а почти разревелся!» – повернулся нехотя и побрёл к уросёхе. «Что, заждалася, старая, хозяина?» – спросил её грубовато, нашарил привычно за обносом ключ – он так и лежал, как должно, на месте. В сенцах, куда вошёл, было тесно и настужено. Баночка под наждаком, как год назад оставил, так и стояла сиротою на месте. Фёдор потоптался, поправил зачем-то пыльную занавеску на окне, вздохнул и, как через силу, толкнул дверь в саму мастерскую.
– Ну, здравствуйте! – снова произнёс он, опёрся рукой на верстак, с какой-то ущемлённой радостью узнавая и старый буфет в углу со стаканами, и полки с нехитрым инструментом. Всё так и лежало, как он оставил. Печка напротив потрескалась, облупилась – знать, о трубу текло.
– Лизонька! – позвал он дрогнувшим голосом свою жену. – Вот на побывку приехал. И сам не знаю, зачем. Как толкнуло что-то. Не ты ли позвала меня, Лизонька?
Фёдор дёрнул занавеску, пустил свет и, торопясь, что, может, ему помешают, тяжело упал на колени и потащил на себя из-под кровати сундук. Рванул окованную крышку и трясущимися от волнения руками достал альбом с фотографиями, запелёнутый в домотканое полотно.
– Лизонька! Я сейчас! – прошептал он, давясь закипевшими слезами, разворачивая полотно. Пальцы не слушались. Наконец альбом раскрылся, и тихое белое лицо Лизы посмотрело на него.
– Прости меня, Лизонька! Не уберёг тебя, не остановил тебя! – горячо заговорил Фёдор, всматриваясь в лицо Лизы. Редкие, тягучие слёзы ползли у него по щекам. Он коснулся её лица, осторожно провёл по длинным светлым волосам, будто поправлял их. Тяжёлый камень вдруг сдавил ему горло. Левая рука онемела. Уцепившись правой за верстак, он поднялся, вздрагивая плечами, прижимая к груди альбом. В мастерской отчего-то потемнело, но он не знал, отчего.
– Со мной поедешь, – прошептал он Лизе, – ты ведь любила в райцентр-то ездить. Я тебя здесь не оставлю больше. С собой заберу…
Ветер приоткрыл неплотную дверь, надул занавеску. Тихое осеннее тепло скользнуло с ним внутрь.
– Это всё сапоги, – шептал Федор, – будь они неладны, проклятущи. Зачем я тебе сапоги купил? Лизонька?



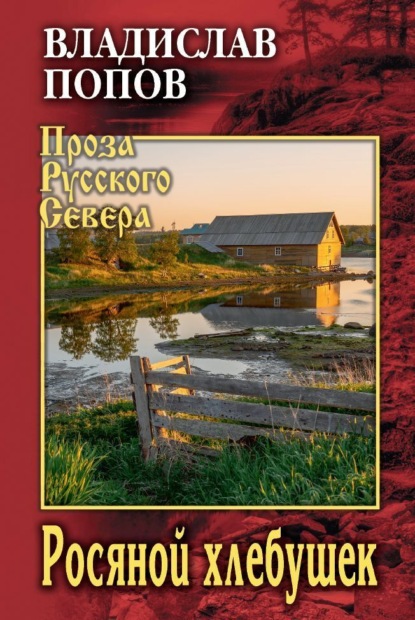




 Рейтинг:
0
Рейтинг:
0