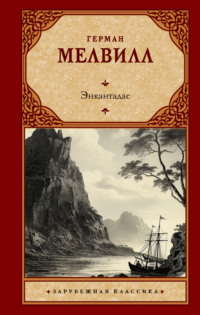
Энкантадас
Может показаться странным, что мы так опасались своих же собственных товарищей; однако среди нас были такие, кто, едва учуяв, откуда ветер дует, ради ничтожной надежды на вознаграждение, сразу же ринулись бы доносить на нас капитану.
Как только пробило две склянки, был получен приказ всем, кто сходит на берег, садиться в шлюпку. Я последним выходил из кубрика и, перед тем как подняться на палубу, обвел прощальным взглядом его знакомые переборки; случайно на глаза мне попались кадка с сухарями и чан из-под солонины, содержащие остатки нашего поспешного завтрака. И хотя до этой минуты я совершенно не задумывался о том, чтобы запастись на дорогу провиантом, полностью полагаясь на дары природы этого изобильного острова, я все-таки не мог удержаться, чтобы не прихватить кое-что из этих остатков нам на ужин. Я зачерпнул горсти две черствых, как кремни, раскрошенных сухарей, известных повсюду под именем «орешки гардемарина», и ссыпал за пазуху – просторное вместилище, куда я еще прежде упрятал несколько фунтов табаку да с десяток ярдов ситца; с помощью этих товаров я надеялся купить благорасположение островитян, когда после ухода корабля мы окажемся среди них.
Это последнее добавление к моим запасам создало спереди заметную выпуклость, но мне удалось частично ее пригладить, растряся сухари так, что они распространились равномерно вокруг пояса, и рассовав пачки табаку туда, где были складки одежды.
Едва только я покончил с этим, как послышалось мое имя, выкликаемое дюжиной голосов, я выскочил на палубу и увидел, что все уже расселись в шлюпке и только меня и ждут, чтобы отвалить от корабля. Я спустился за борт и уселся рядом с остальными на кормовых банках, бедняги вахтенные ударили веслами по воде и повезли нас к берегу.
Был как раз дождливый сезон в этих широтах, небеса с утра упорно грозили ливнем, какие столь часты на островах в это время года. Лишь только мы отвалили от нашей «Долли», как тяжелые крупные капли начали шлепаться на воду, а к тому времени, когда мы могли наконец выскочить на песок, с неба низвергались целые потоки. Мы добежали до большого лодочного сарая, стоявшего почти у самого берега, и там укрылись, выжидая, покуда утихнет первая ярость бури.
Но ливень не унимался; от монотонного шума дождя над головой клонило ко сну, матросы, растянувшись тут и там на днищах боевых челнов, постепенно перестали переговариваться и скоро уже все спали крепким сном.
Этого нам с Тоби только и надо было: мы тут же воспользовались представившейся возможностью, выскочили на дождь и со всех ног помчались к зарослям, начинавшимся неподалеку за сараем. Минут десять мы, задыхаясь от спешки, продирались через чащу, пока не выбрались на открытое место, откуда сквозь мутную пелену тропического ливня неясно, но не дальше чем в миле от нас проглядывал скалистый кряж, по которому мы намерены были подняться в горы. Прямая дорога к нему вела через довольно населенный участок побережья, но мы, чтобы не попадаться на глаза туземцам и беспрепятственно уйти в глубь острова, решились двинуться в обход по зарослям и вовсе не появляться вблизи человеческого жилья.
Ливень, по-прежнему не прекращавшийся, был нам на руку: он загнал в хижины островитян и уменьшил опасность случайных встреч. Наши плотные тельняшки скоро насквозь пропитались водой, и их тяжесть, а также вес всего того, что было у нас спрятано под ними, сильно затруднял продвижение. Но до того ли сейчас было, когда в любой момент на нас могла выскочить ватага дикарей и положить конец всему нашему предприятию?
С тех пор как мы покинули приютивший нас лодочный сарай, мы не обменялись с Тоби ни единым словом; но, выбравшись на узкую прогалину в лесу, откуда нам снова открылся вид на желанный кряж, я взял Тоби за локоть и, указывая пальцем туда, где постепенно вздымающийся хребет сливался с высокими горами в центре острова, тихо произнес:
– Теперь ни звука, Тоби, и ни взгляда назад, покуда мы не очутимся вон на той вершине, – устремимся же без промедления в путь и будем карабкаться, сколько у нас достанет сил; через несколько часов мы сможем кричать и смеяться вволю. Ты полегче и попроворнее меня, так что ступай вперед, а я за тобою.
– Ладно, брат, – ответил Тоби, – главное дело – быстро! Ты только смотри не отставай.
И, так сказав, он, словно молодой олень, одним прыжком перескочил через ручей, протекавший поперек нашей дороги, и стремительным легким шагом углубился в лес.
Когда мы подошли к подножию хребта, нам преградила путь сплошная стена высокого желтого тростника, крепкого и упругого, словно лес стальных прутьев; к великому нашему огорчению, оказалось, что такие густые заросли тростника тянутся до половины склона, по которому нам предстояло подняться.
Мы остановились и стали озираться в поисках какого-нибудь прохода; но было очевидно, что, если мы намерены двигаться дальше, нам ничего иного не оставалось, как пробиваться сквозь эту чащу. Тогда мы изменили наш боевой порядок, я, как сильнейший, пошел впереди, проламывая дорогу в тростнике, а Тоби двигался в арьергарде.
Сначала я попробовал протискиваться между гигантскими стеблями, старался раздвинуть и отогнуть их в стороны, чтобы они пропускали меня вперед, однако с таким же успехом лягушка могла бы пролезть сквозь зубья гребня.
Я отчаялся, и вне себя от этого неожиданного препятствия стал наваливаться всем телом на стену тростника и, падая, сокрушал своей тяжестью проклятые стебли; потом вскакивал и бросался на тростники снова. Так продолжалось минут двадцать, я совершенно обессилел от такого нечеловеческого занятия, однако за это время мы успели несколько углубиться в чащу. Тогда Тоби, который только пожинал плоды моих трудов, двигаясь позади меня, предложил поменяться со мной местами и пойти теперь первым, чтобы я пока отдохнул. Но у него мало что из этого получилось: он был слишком легкого телосложения, и я вскоре снова должен был занять место впереди идущего.
Так, надрываясь, прокладывали мы путь в тростниках, и пот ручьями струился по нашим телам, а острые края расщепленных стеблей немилосердно ранили нам руки и ноги; мы прошли уже, наверно, половину зарослей, как вдруг дождь прекратился, и сразу же в чаще сделалось невыносимо душно и парко. Упругие тростники тут же выпрямлялись позади нас, снова смыкаясь за нами по мере нашего продвижения, и ни ветерка, ни легкого дыхания свежего воздуха не проникало к нам сквозь эти преграды. К тому же тростник был настолько высок, что совершенно заслонял нам кругозор, и вполне могло статься, что мы давно уже идем в неверном направлении, ничего об этом не подозревая.
Измученный и задыхающийся, я чувствовал, что не в силах больше двинуть ни рукой, ни ногой. Я закатал мокрый рукав тельняшки и выжал несколько капель влаги себе в пересохший рот. Но облегчение было кратковременным, и я повалился на спину, охваченный глубокой тупой апатией. Из нее меня сразу же вывел Тоби – он изобрел способ, как нам вырваться из этих тенет, в которые мы, не чая того, попали.
Он яростно размахивал ножом, подсекая направо и налево высокие стебли, словно косец в траве, и вскоре выкосил вокруг нас целую прогалину. Зрелище это меня воодушевило, я тоже схватился за нож и принялся рубить и кромсать, сколько достало мочи. Но увы! Чем дальше мы продвигались, тем гуще и выше становились тростники, и, казалось, конца им не было.
Я уже начал подумывать, что мы пропали, что без пары добрых крыльев нам никогда не выбраться из этой живой ловушки, как вдруг впереди и справа между тростниками засинел дневной свет; я поделился с Тоби моим радостным открытием, мы со свежим воодушевлением принялись за работу и вскоре очутились на свободном от тростника склоне, где ничто уже больше не преграждало нам дороги к вершине хребта.
Несколько минут передышки, и мы начинаем подъем. И вот мы уже у верха. Однако, вместо того чтобы идти по самой бровке хребта, на виду у обитателей обеих долин, так что пожелай они, им ничего не стоило подстеречь нас где-нибудь впереди, мы осмотрительно избрали путь вдоль по склону и, словно две змеи, поползли на четвереньках, скрываемые от посторонних взоров густой травой. Час мы продвигались этим мало приятным способом, а потом наконец выпрямились во весь рост и храбро продолжили путь уже по гребню.
Этот главный отрог горного массива, возвышающегося над заливом, подымался от долины под острым углом и, если не считать двух-трех крутых уступов, представлял собою одну наклонную плоскость от моря и до дальних высот. Мы поднялись на него у его начала, где он был еще сравнительно невысок, и теперь наша дорога к вершинам лежала прямо по узкому гребню, в иных местах едва ли пяти футов шириною, выстланному роскошным зеленым ковром.
Возбужденные успехом, знаменовавшим покамест нашу затею, и освеженные чудесным целительным воздухом, который вдыхали полной грудью, мы с Тоби весело шагали вперед, как вдруг снизу, из долины, по обе стороны от нас, донеслись крики туземцев, заметивших наши фигуры, отчетливо обозначенные на фоне неба.
Бросив на ходу взгляд вниз, мы увидели, что обитатели обеих долин мечутся туда-сюда, видимо объятые внезапной тревогой. Они представлялись нам с высоты стайками взбудораженных пигмеев; а их жилища под белыми кровлями казались издалека игрушечными домиками. Глядя на островитян свысока, мы чувствовали себя в совершенной безопасности – уж конечно, вздумай они погнаться за нами, у них все равно бы ничего не вышло: ведь мы забрались уже довольно высоко, им пришлось бы карабкаться за нами в горы, а на это, как мы полагали, они не отважатся.
Однако на всякий случай мы решили поторопиться и, когда это представлялось возможным, пускались бегом по гребню. Дорогу внезапно преградила отвесная каменная стена, поначалу показавшаяся нам совершенно непреодолимым препятствием. Но потом, после долгих трудов, то и дело рискуя сломать себе шею, мы все-таки вскарабкались по ней и с прежним проворством продолжали путь.
Мы покинули побережье рано утром и после непрерывного подъема, по временам трудного и даже опасного, ни разу не оглянувшись назад, часа за три до заката вышли на самое возвышенное место в центре острова. Под ногами у нас был огромный скальный массив, составленный из базальтовых пород, с отвесными склонами, густо поросшими паразитической растительностью. Над уровнем моря мы находились, вероятно, более чем в трех тысячах футов, и вид, открывшийся с этой высоты, был великолепен.
Глубоко-глубоко внизу, так что корабли французской эскадры только редкими точками чернели на пустынной глади вод, покоился залив Нукухива, замкнутый в кольце обступивших его холмов, и эти зеленые склоны, там и сям перерезанные узкими ущельями или оттесненные от воды солнечными долинами, являли взору прекраснейшее зрелище, какое я когда-либо видел в жизни, и, доживи я хоть до ста лет, мне не забыть восхищения, которое я тогда испытал.
VII
Мне не терпелось узнать, что представляет собою местность по ту сторону горного массива; мы с Тоби предполагали, что, лишь только наше восхождение будет завершено, глазам откроются заливы Хаппар и Тайпи, простертые у наших ног справа, как слева простирался внизу залив Нукухива. Но ожидания эти не оправдались. Гора, на которую мы взобрались, вовсе не уходила с той стороны круто вниз, как мы думали, к просторным низменным долинам; местность и дальше оставалась возвышенной, только пересеченной разными хребтами и перепадами, и тянулась она вдаль, насколько хватал глаз; крутые обрывы были увиты пышно зелеными лозами, а на склонах колыхались рощи деревьев, среди которых, однако, не видно было тех пород, чьи плоды, по нашему замыслу, должны были служить нам верной пищей.
Этого мы никак не ожидали. Такой оборот дела грозил повергнуть во прах все наши расчеты. Ведь о том, чтобы спускаться за едой в долину Нукухива, и думать не приходилось – там мы едва ли избегли бы встречи с туземцами, и они в лучшем случае препроводили бы нас обратно на корабль в надежде на вознаграждение в виде ситца и побрякушек, которое наш капитан уже наверняка выдвинул как аргумент в пользу нашей поимки.
Что же делать? «Долли» отплывает дней через десять, не раньше, как же нам просуществовать все это время? Я горько раскаивался, что по недостатку предусмотрительности мы не запаслись хотя бы сухарями – ведь это так легко было сделать! С грустью я подумал о той жалкой горсти, которую засыпал перед отплытием себе за пазуху, мне захотелось проверить, много ли от нее осталось после всех тягот, выпавших на долю сухарей за время нашего восхождения. И я предложил Тоби устроить совместный смотр всего, что было нами унесено с корабля. Мы уселись на траву, и я, любопытствуя узнать, чем набил себе пазуху мой запасливый товарищ – ибо она у него топырилась не меньше, чем моя, – попросил его начать первым и выложить свои запасы.
Он сунул руку за тельняшку и из этого просторного вместилища извлек на свет божий примерно фунт табаку, еще не раскрошившегося, а составлявшего один кусок, снаружи густо облепленный хлебными крошками. Правда, он совершенно промок, словно его только что выловили со дна морского. Но меня не смутила гибель этого продукта, бесполезного для нас в нашем теперешнем положении, главное, я обнаружил признаки того, что у Тоби достало предусмотрительности запастись на дорогу также и съестным. Я спросил, велики ли его запасы. В ответ, порывшись еще под тельняшкой, он вытащил горсть какого-то вещества, настолько размякшего, раскисшего и ни на что не похожего, что поначалу он и сам не больше моего мог сказать, в результате какого таинственного процесса образовалась у него на груди эта злокачественная смесь. Я могу ее определить лишь как табачно-хлебную кашу, густо замешенную на поте и дожде. Но как тошнотворна она ни была, для нас она сейчас представляла величайшую ценность, и я, сорвав с куста большой лист, осторожно уложил на него этот липкий комок. Тоби объяснил, что утром сунул себе за пазуху два целых сухаря, чтобы пожевать в пути, если придет охота. Они-то и превратились в подозрительное месиво, которое я держал теперь на листе.
Еще одно погружение в недра тельняшки, и на свет появилось ярдов пять набивного ситца, изысканный узор на котором, впрочем, несколько портили желтые пятна от табака, лежавшего там же. А Тоби знай тянул из себя ситец дюйм за дюймом, словно факир, показывающий фокус с бесконечной лентой. Потом пошла добыча помельче: «матросский ридикюль» – мешочек с нитками, иглами и прочими швейными принадлежностями, бритвенный прибор и в довершение всего две или три плиточки черного паточного жевательного табака, выуженные со дна уже опустевшего хранилища. Оглядев все это имущество, я прибавил к нему то немногое, что было у меня.
Как и следовало ожидать, мои запасы провианта оказались в столь же плачевном состоянии, что и у моего товарища, и количество их катастрофически сократилось, – едва на один зуб голодному человеку, если только он достаточно благосклонен к табаку, чтобы потреблять его внутрь. Эти крохи, да добрые две сажени белого ситца, да несколько фунтов лучшего низкосортного табака составляли все мое богатство.
Общие наши запасы мы увязали в один узелок и уговорились нести его по очереди. Однако с жалкими остатками сухарей необходимо было особое обращение: от них одних, быть может, зависела при теперешних обстоятельствах судьба всего нашего побега. После краткого совещания, во время которого мы оба решительно высказались против того, чтобы спускаться в долину, пока не отплыл наш корабль, я предложил разделить весь наш хлебный запас, как ни скуден он был, на шесть равных частей, каждая из которых должна была служить однодневным рационом для нас обоих. Тоби согласился; я снял с шеи шелковый платок, разрезал его ножом на двенадцать квадратиков и приступил к тщательному разделу хлеба.
Тоби вздумал было весьма некстати привередничать, настаивая на том, чтобы выковырять из хлебной массы табачные крошки; но я решительно протестовал, потому что тем самым чувствительно уменьшился бы ее объем.
Осуществив раздел, мы увидели, что дневная порция на нас обоих была разве чуточку больше, чем поместилось бы в одну столовую ложку. Каждую такую порцию мы завернули в отдельный кусочек шелка, потом связали их все в один сверток, и я, воззвав к дружеской верности, вручил его на хранение Тоби. В тот день мы решили ничего не есть, так как оба подкрепились с утра завтраком. Мы поднялись и стали озираться кругом в поисках укрытия на ночь, ибо ночь, насколько можно было судить по виду небес, предстояла темная и бурная. Поблизости не видно было ни одного подходящего места; и тогда, повернувшись спиной к Нукухиве, мы стали разглядывать неведомые дали по ту сторону горы.
Здесь, насколько хватало глаз, не видно было ни малейших признаков человека, ничего даже, что говорило хотя бы о его временном пребывании. Весь ландшафт был одна нескончаемая пустыня – очевидно, внутренние области острова оставались не заселенными от сотворения мира, и, когда мы двинулись дальше, переговариваясь в этом безлюдье, человеческие голоса наши звучали странно, словно впервые тревожа зловещее безмолвие здешних мест, нарушаемое лишь бормотанием отдаленных водопадов.
Впрочем, наше огорчение из-за того, что здесь не оказалось райских плодов, какими мы надеялись упиваться, несколько умерилось, когда мы сообразили, что зато нам можно почти не опасаться случайных встреч с окрестными жителями, потому что, как известно, они обитают в тени тех же самых деревьев, плодами которых кормятся.
Мы брели, оглядывая каждый кустик, как вдруг, поднявшись на гребень очередного холма, какие бороздили плоскогорье, я увидел в траве что-то вроде едва приметной тропы, – она бежала вперед и примерно через полмили обрывалась у глубокого ущелья.
Наверно, Робинзон Крузо был не больше поражен человеческим следом на песке, чем мы этим мало приятным открытием. Моим первым побуждением было немедленно повернуть и уйти в другую сторону, однако желание выяснить, куда же все-таки ведет эта тропа, одержало верх, и мы зашагали вперед. Мы шли, и тропа становилась все отчетливее, пока наконец не привела нас на край обрыва; здесь тропа прекращалась.
– Гм, – пробормотал Тоби, заглядывая вниз, – стало быть, всякий, кто идет по этой дорожке, прыгает туда?
– Вовсе не обязательно, – возразил я. – Должно быть, тут можно как-нибудь спуститься. Послушай… попробуем, а?
– Но что, клянусь пещерами и угольными шахтами, надеешься ты найти на дне этой пропасти? Сломанную шею? Б-р-р! Да там чернее, чем было у нас в трюме, и от водопада стоит такой грохот, что в пору голове лопнуть.
– Полно, Тоби, – ответил я со смехом, – ей-богу, уж что-нибудь да есть там, иначе сюда не вела бы эта тропинка. И я намерен узнать, что там такое.
– Я тебе вот что скажу, любезный друг, – не уступал Тоби, – если ты вздумаешь совать нос во все, что возбуждает твое любопытство, ты и оглянуться не успеешь, как сломаешь шею. Можешь мне поверить, там внизу тебя уж, наверное, дожидается компания людоедов, и ты прямым ходом попадешь им в лапки, если не уймешь свою жажду открытий. Вряд ли тебя так уж прельщает встреча с дикарями, а? Послушай меня один раз: давай развернемся и ляжем на другой курс. Да и время уже не раннее, пора нам где-нибудь стать на якорь.
– А я о чем тебе толкую? – настаивал я. – По-моему, это ущелье как раз то, что нам надо. Видишь, место там укромное, но достаточно просторное, воды питьевой вдоволь, и от непогоды мы будем избавлены.
– От непогоды – не знаю, а вот от сна человеческого – это точно. Да еще заработаем ангину и ревматизм, – возражал Тоби, которому мой замысел пришелся не по сердцу.
– Ну хорошо, мой друг, – сказал я. – Раз ты со мной спускаться не хочешь, я полез один. Утром увидимся.
И, приблизившись к самому краю обрыва, я стал карабкаться вниз по спутанным корням и ветвям деревьев, растущих в расселинах скал. Тоби, как я и ожидал, сколько ни ругался, а тоже полез вслед за мною – быстрый и ловкий, как белка. Он скоро меня обогнал и приземлился на дно ущелья, когда я еще едва одолел половину спуска.
Зрелище, открывшееся тогда нам снизу, навсегда запечатлелось в моей памяти. Пять пенных струй, вырываясь из пяти узких расселин, вздутые и замутненные после недавних дождей, соединялись в один головокружительный каскад, с ревом обрушивающийся с восьмидесятифутовой высоты в глубокий черный котлован, выбитый в мрачных скалах, громоздящихся вокруг, а оттуда единым потоком устремлялись куда-то круто вниз в темную трещину, которая проникала, казалось, до самых недр земли. А сверху по обе стороны ущелья свисали огромные древесные корни, и влага сочилась по ним, сотрясаемым от грохота водопадов. Было время заката, и в слабых, неверных его отсветах, проникавших сюда под каменные кручи и лесные кроны, еще страннее, еще необычайнее казалось все вокруг, сурово напоминая нам, что недалек тот миг, когда мы окажемся в совершенной темноте.
Я рассматривал дно ущелья со все растущим недоумением: возможно ли, чтобы в это дикое место вел человеческий след? Пожалуй, я все-таки ошибся, и это вовсе не тропа, проложенная туземцами. Мысль такая была для нас скорее приятной, нежели наоборот, ибо тем самым уменьшалась опасность нежелательных встреч; и я в конце концов пришел к заключению, что, как ни ищи, нам никогда бы не найти укрытия более надежного, чем это ущелье, на которое мы так случайно набрели. Тоби со мной согласился, и мы тотчас приступили к сбору валежника, чтобы соорудить себе шалаш для ночлега. Нам пришлось поставить его у самого подножия водопада, ибо вода заливала почти все дно ущелья. Последние мгновенья, пока еще не сгустилась тьма, мы употребили на то, чтобы покрыть свой шалаш плоскими перьями особого вида травы, в изобилии росшей по всем расселинам. Хижина наша, если только она заслуживала такого названия, представляла собою несколько палок попрямее из того, что нам удалось найти, приставленных наискось к отвесной стене ущелья и воткнутых нижними концами не далее чем в футе от бурлящего потока. Мы покрыли их травой, подлезли внутрь и там, вконец измученные, расположились, как смогли, на отдых.
Забуду ли я когда-нибудь эту жуткую ночь? Из бедного Тоби мне не удалось вытянуть ни слова; а между тем звук его голоса мог бы послужить хоть каким-то утешением, но Тоби пролежал всю ту бесконечную ночь молча и только трясся, как паралитик, подтянув колени к подбородку и упираясь затылком в мокрую каменную стену. Кажется, в нашем распоряжении было все, чтобы сделать этот ночлег совершенно невыносимым. Хлестал дождь, против которого наша бедная кровля была как жалкая насмешка, – напрасно старался я спрятаться от изливающихся на меня струй: отодвигая один бок, я подставлял им другой, а дождь находил в крыше все новые отверстия, чтобы сквозь них обрушиваться на нас.
За жизнь мне не раз случалось промокнуть до нитки – такими вещами меня вообще-то не испугаешь. Но в ту жуткую ночь могильный холод на дне ущелья, непроницаемая тьма и непереносимое чувство затерянности и безнадежности едва не сломили меня.
Утром мы встали, как нетрудно догадаться, достаточно рано; лишь только нечто, отдаленно подобное первым проблескам дня, забрезжило сквозь тьму, как я стал трясти своего товарища за плечо, оповещая его о том, что наступил рассвет. Бедняга Тоби поднял голову и через минуту сипло произнес:
– Ну что ж, тогда, значит, приятель, мои бортовые огни погасли, потому что с открытыми глазами мне еще темнее, чем с закрытыми.
– Глупости! – отозвался я. – Ты еще просто не проснулся.
– Не проснулся? – вознегодовал Тоби. – Ты что хочешь сказать, что я спал, что ли? Да это просто оскорбление – предполагать, что человек мог уснуть в этой чертовой дыре!
Я стал извиняться за то, что столь превратно истолковал его ночное молчание, а тем временем свету еще немножко прибавилось, и мы выползли из своей берлоги. Дождь прекратился, но все вокруг сочилось и струилось. Мы сняли вымокшую одежду и, насколько возможно, отжали ее. Потом попытались восстановить кровообращение в застывших конечностях, изо всех сил растирая их руками, и, умывшись из ручья и снова натянув влажное платье, стали подумывать, что пора наконец нарушить наш затянувшийся пост, поскольку уже двадцать четыре часа во рту у нас не было ни крошки. И вот на свет был вытащен наш дневной рацион, и мы, усевшись на большой камень, стали совещаться, как нам с ним поступить. Прежде всего мы разделили его пополам и, тщательно завернув одну половину, отложили ее на ужин; остаток по возможности точно разделили еще пополам и бросили жребий, кому первому выбирать. Доставшуюся мне порцию я мог бы уместить на кончике пальца, но тем не менее я постарался растянуть трапезу и употребил целых десять минут на то, чтобы поглотить все до последней крошки. Как верно говорят: голод – лучшая приправа! Этот крохотный кусочек пищи доставил мне столь тонкое и острое гастрономическое наслаждение, какого при иных обстоятельствах я не испытал бы от самого изысканного блюда. Досыта напившись чистой воды из бегущего у наших ног ручья, мы тем закончили завтрак и встали на ноги, изрядно подкрепившиеся и готовые ко всему, что ни ожидало нас впереди.