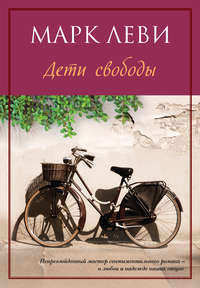
Дети свободы
Концерт окончен, офицер встает, Борис идет за ним. Еще несколько шагов, и прямо посреди улицы гремят пять выстрелов, пять вспышек вырываются из ствола револьвера нашего товарища. Толпа мечется в панике, Борис исчезает.
Кровь немецкого офицера стекает в желоб у тротуара одной из тулузских улиц. А в нескольких километрах отсюда, в земле тулузского кладбища, давно уже высохла кровь Марселя.
***Газета «Депеш» сообщает об акции Бориса; в том же номере объявляется о казни Марселя. Горожане быстро свяжут эти два события. Те, кто осудил на смерть Марселя, поймут, что нельзя безнаказанно проливать кровь партизан, а остальные будут знать, что здесь, рядом с ними, есть люди, которые борются с врагом.
Префект региона поспешил выпустить коммюнике, в котором заверял оккупантов в полной лояльности своих служб. «Едва я узнал о покушении, – объявил он, – как незамедлительно выразил возмущение от себя лично и от имени населения города господину генералу, начальнику штаба, и начальнику немецкой службы безопасности». Интендант полиции тулузского региона также приложил свои грязные лапы к этой коллаборационистской прозе: «Власти обещают выплатить значительное денежное вознаграждение за содействие в поимке террориста или террористов, совершивших гнусное покушение с применением огнестрельного оружия на немецкого офицера вечером 23 июля на улице Байяр в Тулузе». Конец цитаты! Этого самого Бартене только-только назначили на должность интенданта полиции. Несколько лет усердных трудов в ведомствах Виши создали ему репутацию опытного и сурового служаки; в результате он и добился повышения, о котором давно мечтал. Хроникер из «Депеш» поздравил его с назначением на первой странице газеты, горячо пожелав успехов. Что ж, мы тоже на свой лад «поздравили» этого типа. А в качестве дополнительного поздравления распространили по всему городу листовки с коротким сообщением, что убийство немецкого офицера стало местью за казнь Марселя.
Мы не собирались ждать ничьих приказов. Раввин передал Катрин слова Марселя, обращенные к Лепинасу перед смертью на эшафоте: «Моя кровь падет на вашу голову». Эти слова потрясли нас, мы приняли их как завещание, оставленное нашим товарищем, как его последнюю волю. И мы непременно доберемся до Лепинаса, но эта операция потребует тщательной подготовки. Прокурора ведь не убьешь просто так, посреди улицы. Этого представителя закона наверняка охраняют, и передвигается он, конечно, только на машине с шофером; кроме того, мы не могли допустить, чтобы во время акции пострадали невинные люди. В отличие от тех, кто открыто сотрудничал с нацистами, кто доносил, арестовывал, пытал и ссылал, кто приговаривал к смерти и расстреливал, кто, забыв о совести и прикрываясь высокими словами о так называемом долге, утолял свою расистскую ненависть к «инородцам», мы были готовы обагрить свои руки кровью, но при этом ни разу не запятнали их убийством невиновного.
***Вот уже несколько недель Катрин по просьбе Яна налаживала для нас «службу разведки». Это означало, что она с помощью нескольких своих подружек – Дамиры, Марианны, Софи, Розины и Осны, девушек, которых нам запрещалось любить, но в которых мы все-таки влюблялись, – добывала сведения, необходимые для проведения наших акций.
В течение многих месяцев девушки из бригады вели слежку, скрытую съемку, разведывали маршруты и передвижения намеченных жертв, их распорядок дня, опрашивали соседей. Благодаря этой работе мы знали всё или почти всё о тех, кого наметили объектами покушения. Нет, мы не нуждались ни в чьих приказах. И во главе нашего списка кандидатов на возмездие стоял отныне прокурор Лепинас.
8
Жак попросил меня встретиться в городе с Дамирой, чтобы передать ей приказ об акции. Свидание было назначено в бистро, где наши встречались слишком уж часто; в конце концов Ян запретил нам совать туда нос – как всегда, из соображений безопасности.
Я испытал шок, увидев ее в первый раз! Сам я был рыжеволосым, с белой кожей, усеянной веснушками так густо, что меня спрашивали, не смотрел ли я на солнце сквозь дуршлаг; вдобавок я носил толстенные очки. А Дамира была итальянкой и – что при моей близорукости было важней всего – такой же рыжей, как и я. Я понадеялся, что это обстоятельство неизбежно создаст между нами какую-то особую близость. Но тут же одернул себя: один раз я уже ошибся, недооценив важность оружейных складов, созданных макизарами-голлистами, так что в отношении Дамиры тоже не следовало обольщаться.
Сидя перед тарелками с гороховым супом, мы должны были изображать парочку юных влюбленных; на самом деле Дамира вовсе не была в меня влюблена, хотя сам я уже слегка втюрился. Я глядел на нее так, как, наверное, и должен глядеть парень, проживший восемнадцать лет с огненно-рыжей мочалкой на голове и вдруг встретивший такое же рыжеволосое создание, да еще противоположного пола – это последнее обстоятельство явилось для меня чертовски приятным сюрпризом.
– Ты чего на меня так уставился? – спросила Дамира.
– Да так, ничего.
– За нами следят?
– Нет-нет, дело не в этом!
– Ты уверен? Ты так сверлишь меня глазами… я уж решила, что предупреждаешь об опасности.
– Дамира, я клянусь, нам ничего не угрожает!
– Тогда объясни, почему у тебя лоб весь в поту?
– В этом зале такая жарища, задохнуться можно.
– Мне так не кажется.
– Ну, ты же итальянка, а я парижанин, значит, ты к жаре привыкла больше, чем я.
– Если хочешь, можем пройтись.
Предложи мне Дамира сходить искупаться в канале, я бы согласился, не раздумывая. Она еще не успела договорить, а я уже был на ногах и пытался отодвинуть ее стул, чтобы помочь встать.
– Как приятно видеть галантного мужчину, – сказала она с улыбкой.
Температура у меня мигом подскочила на несколько градусов; впервые с начала войны можно было сказать, что я прекрасно выгляжу, – такой яркий румянец залил мои щеки.
Мы шли по направлению к каналу, и я уже видел в мечтах, как мы с моей рыжей красавицей-итальянкой плещемся в воде, предаваясь нежным любовным играм. Это было полным идиотизмом, поскольку купание между двумя подъемными кранами и тремя баржами с углем не сулило ровно никакой романтики. Но ничто на свете не помешало бы мне в ту минуту предаваться мечтам. И пока мы с ней пересекали площадь Эскироль, я сажал свой «Спитфайр» (его мотор подвел меня во время мертвой петли) на луг рядом с очаровательным маленьким коттеджем, в котором мы с Дамирой жили в Англии с тех пор, как она забеременела нашим вторым ребенком (вполне вероятно, он будет таким же рыженьким, как наша старшая дочь). В довершение блаженства как раз наступило время чая. Дамира спешила мне навстречу, пряча в карманах своего фартучка в красно-зеленую клетку несколько горячих песочных пирожных, только-только вынутых из духовки. Что ж, тем хуже для самолета: я займусь его ремонтом после чая; пирожные Дамиры были восхитительны – она, наверное, потратила уйму времени, готовя их для меня (и только для меня). Так могу же я хотя бы один раз на минуту забыть о своих воинских обязанностях и воздать должное своей жене. Сидя перед нашим домиком и опустив головку мне на плечо, Дамира вздыхала от полноты этого простого житейского счастья.
– Жанно, очнись, ты заснул, что ли?
– А в чем дело? – спросил я, вздрогнув.
– Ты положил голову мне на плечо!
Я выпрямился, побагровев от стыда. «Спитфайр», коттедж и чай с пирожными мгновенно исчезли, остались только темные блики на воде канала да скамья, на которой мы сидели.
В отчаянной попытке выправить ситуацию я кашлянул и, не осмеливаясь взглянуть на свою соседку, решил хоть что-нибудь разузнать о ней.
– Скажи, а как ты вступила в бригаду?
– Разве тебе не поручили передать мне приказ? – довольно сухо ответила Дамира.
– Да-да, верно, но ведь у нас еще есть время?
– У тебя, может, и есть, а у меня нет.
– Ладно, сначала ответь, а потом поговорим о деле.
Чуть поколебавшись, Дамира улыбнулась и все-таки решила ответить. Она наверняка почувствовала, что нравится мне, – девчонки ведь сразу это усекают, часто даже раньше, чем мы сами это осознаем. В ее согласии не было ничего предосудительного, она знала, как тягостно одиночество для всех нас, а может, и для нее самой, вот ей и захотелось доставить мне удовольствие, рассказав кое-что о себе. Уже темнело, но до комендантского часа было еще далеко, и в нашем распоряжении оставалось несколько часов. Юная парочка, сидящая на скамейке возле канала, в разгар оккупации, – что в этом плохого? Кто знает, сколько времени нам отпущено, и ей и мне?
– Никогда не думала, что война доберется и до нас, – начала Дамира. – А она пришла как-то вечером, по аллее, ведущей к дому: какой-то человек, одетый, как мой отец, в рабочую блузу, направлялся в нашу сторону. Папа вышел ему навстречу, и они довольно долго что-то обсуждали. Потом тот человек ушел. А папа вернулся и заговорил с мамой на кухне. Я увидела, что она плачет и приговаривает: «Неужели нам мало того, что случилось?» Она сказала так потому, что ее брата замучили пытками итальянские чернорубашечники. Так у нас прозвали фашистов Муссолини, это все равно что здешние милиционеры.
По известным уже причинам мне не удалось сдать экзамены на бакалавра, но я прекрасно знал, кто такие чернорубашечники. Однако я предпочел смолчать, не рискуя прерывать Дамиру.
– Тогда я поняла, почему тот тип говорил с моим отцом в саду; а папа, с его представлениями о чести, конечно, только этого и ждал. Я знала, что он ответил согласием и за себя, и за моих братьев. А мама плакала, понимая, что всем им предстоит борьба. Я была счастлива и гордилась ими, но меня отослали в мою комнату. В Италии у девушек куда меньше прав, чем у парней. В нашей семье на первом месте папа, мои братцы-кретины, а уж потом, только потом – мама и я. Вообще, должна тебе сказать, что парней я знаю как облупленных, у нас в доме их четверо.
Услышав эти слова и оценив свое поведение с той самой минуты, как мы с ней сели за стол в «Тарелке супа», я подумал: вероятность того, что она не поняла, как я в нее втюрился, равна нулю или нулю с несколькими десятыми, не больше. Но мне даже в голову не пришло прерывать ее, да я и не смог бы вымолвить ни слова. А Дамира продолжала:
– Я унаследовала папин характер, а не мамин; кроме того, мне отлично известно, что папе нравится наше сходство. Я обо всем думаю как он… я тоже из породы бунтовщиков. И не переношу несправедливости. Мама всю жизнь приучала меня помалкивать, а папа, наоборот, всегда поощрял к протесту, к непокорности, хоть и делал это тайком от братьев, из уважения к установленному в семье порядку.
Рядом с нами от берега отваливала баржа; Дамира смолкла, как будто матросы могли нас услышать. Это было глупо – ветер, гулявший между кранами, заглушал все звуки, но я решил: пусть передохнет с минутку. Мы дождались, когда баржа уйдет к шлюзу, и Дамира заговорила снова:
– Ты Розину знаешь?
Ну еще бы: Розина – итальянка с легким певучим акцентом, с таким голосом, от которого прямо в дрожь бросало, ростом примерно метр семьдесят, голубоглазая брюнетка с длинными волосами, поражала воображение.
Я осторожно ответил:
– Да, кажется, мы встречались пару раз.
– А она мне никогда не говорила о тебе.
Меня это не слишком удивило, я пожал плечами. Обычный дурацкий жест, когда сталкиваешься с роковым невезением.
– А почему ты заговорила о Розине?
– Потому что я вступила в бригаду благодаря ей, – ответила Дамира. – Однажды вечером у нас дома устроили собрание, и она пришла. Когда я сказала ей, что пора идти спать, она ответила, что пришла сюда не спать, а участвовать в собрании. Я тебе уже говорила, что ненавижу несправедливость?
– Да-да, говорила, минут пять назад, я хорошо помню!
– Ну вот я и подумала: это уж слишком. Я спросила, почему мне не разрешают присутствовать на собрании, но папа сказал, что я еще маленькая. А ведь мы с Розиной ровесницы. Вот тут я и решила взять свою судьбу в собственные руки и подчинилась отцу в последний раз. Когда Розина пришла ко мне в комнату, я не спала. Я ждала ее. Мы проболтали всю ночь. Я призналась ей, что хочу бороться, как она, как мои братья, и стала умолять ее свести меня с командиром бригады. Она расхохоталась и сказала, что командир находится у нас в доме и в данный момент спит в гостиной. Оказалось, что это приятель моего отца, тот самый, что приходил как-то вечером к нам в сад, после чего моя мама так плакала.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Имеется в виду генерал Шарль де Голль (1890–1970). (Здесь и далее прим. перев.)
2
Роберт Митчем (1917–1997) – американский киноактер.
3
Лорен Бакалл (р. 1924 г., наст. имя Бетти Джоан Пирски) – американская киноактриса.
4
«Комба» («Борьба»; фр.) – подпольная газета одной из организаций французского Сопротивления, действующих на юге страны с 1943 г.
5
Макизары – так называли французских партизан, ведущих боевые действия против немецких оккупантов в южных районах страны (от слова maquis, означающего густые заросли, а во время Второй мировой войны и партизанское движение).
6
Имеются в виду оборонные сооружения, которые немцы возводили на атлантическом побережье, готовясь отразить высадку союзников.
7
Похвальная грамота (лат.).
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Всего 10 форматов

