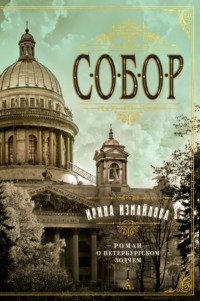
Собор. Роман о петербургском зодчем
Но почти тотчас же наездница рассмеялась и, смеясь, опять упала в свое кресло.
– О, какая же я дурочка! Извините меня… Я думала, вы пришли именно ко мне, я думала, вы искали меня. Нелепая мысль! Извините.
И в это самое мгновение Огюст ее действительно узнал. Он вспомнил эти черные глаза странной формы, этот тонкий рот с губами, еще сохранившими отчасти полудетскую пухлость, этот взлет ресниц, эту гордую ненарочитую пластичность движений и царственную посадку головы. Он вспомнил ее голос.
– Элиза! – закричал он, бросаясь к креслу и, вопреки всяким приличиям, хватая девушку за руки. – Элиза Боннер! Святая Дева Мария! Это вы?!
– Узнал! – прошептала она и зажмурилась, но это не помогло: слезы пробились из-под ее век и потекли по щекам. – Узнал… Не сердитесь, пожалуйста, Анри, что я так… Но вы обещали меня найти!
– Как же я мог?! Откуда же я знал?! После ранения я не мог вспомнить даже названия городка, где мы встретились… Но я знал, Элиза, что мы все же увидимся, только не думал, что вы станете такой красавицей!
Человек никогда не лжет так убедительно и пылко, как в минуты волнения и душевного подъема, и, кроме того, Огюст даже не понимал до конца, что лжет. Название городка он, разумеется, помнил великолепно, а во всем остальном не так уж и сильно преувеличивал…
– Вот так штука! – воскликнул, опомнясь, Тони. – Так, выходит, вы знакомы давно?
– Это – моя спасительница, Антуан, моя маленькая Армида![13] Я же тебе рассказывал пять лет назад… Господи, вот это встреча, чтоб мне пропасть! Мог ли я думать, а?
– Могли ли вы думать, что я стану циркачкой? – смеясь и отирая слезы рукавом халата, спросила Элиза.
– Мне в голову не пришло бы искать вас здесь! – вполне уже искренно сказал Огюст. – И… И отчего вы мадемуазель Пик де Боньер?
– В цирке это принято. – Она встала, не отнимая у него своих рук, лишь в смущении скользнув глазами по распавшимся полам халата. – А вот отчего вы мсье де Монферран?
Он расхохотался:
– Да, это вы, вы – прежняя Элиза! Не знаю, как вам выразить… Я ужасно рад. Да что там – просто счастлив!
– И я не меньше, – проговорил Антуан, искусно скрывая досаду и незаметно пятясь к дверям. – Мадемуазель, напомните ему, когда он придет в себя, что это я его сюда привел. Ну а пока повремените с объятиями – дайте мне время достойно удалиться…
Он исчез.
Минуту, а может быть и две, Огюст и Элиза молчали. Потом он поцеловал ее руку и уже тихо, очень серьезно спросил:
– Ну а все-таки, что-то ведь случилось? В вашей жизни что-то произошло, да? Где ваши родные? Как вы попали в цирк?
– По доброй воле, – просто и спокойно ответила девушка. – По доброй воле, Анри. Три года назад я сбежала из дому с цирковым балаганом. Год назад попала сюда.
– Но почему? Но зачем вы это сделали? – вновь настойчиво спросил молодой человек. – Вам там было плохо?
Она улыбнулась:
– Здесь мне лучше. И потом, я мечтала оказаться в Париже.
Сказать больше она уже не могла. Но Огюст и так все понял.
– Вы искали меня? – спросил он.
– Да, – просто ответила Элиза.
И не отстранилась, когда он, рванувшись к ней, стремительно и жарко обнял ее.
VII
С этой ночи начались их странные, не до конца понятые ими самими отношения… Спокойно, с радостью Элиза отдалась человеку, которого любила все эти пять лет. А он почувствовал себя счастливым, совершенно счастливым, как в детстве, как в те далекие, упоительные минуты, когда его отец вскакивал в седло с маленьким Анри на плечах и посылал коня вскачь и небо мчалось над головой малыша… или когда его юная мать в своем белом кисейном платье, легком, как перистое облако, бегала за ним по цветущему весеннему скату холма, цветы щекотали ему лицо, а смех ее настигал и дразнил, подгоняя бежать, но вот теплые руки хватали его под мышки, вскидывали, и он, хохоча, барахтался у нее на груди…
Этих минут, в которых, как в вечности, хотелось утонуть и раствориться, было, как ему казалось теперь, слишком мало… Он стал забывать неповторимое чувство блаженства… И теперь испытал его вновь.
Окно Элизиной спальни выходило на узкую безлюдную улицу, за которой был сад. Темный, облетевший, он в это утро был просвечен насквозь множеством солнечных лучей и стал наряден в своих убогих зимних лохмотьях.
На дороге оттаивали замерзшие ночью лужи, из луж пили воду взъерошенные воробьи. На них щурилась сытая рыжая кошка, вышедшая на прогулку и теперь лениво гревшаяся у садовой ограды.
Огюст выбросил было руки из-под одеяла, чтобы как следует потянуться и отогнать остатки сна, но его тут же пробрал щекочущий острый холод, и он поспешно нырнул под одеяло с головой.
– Ах ты, неженка! Хочешь, я затоплю печь? – Элиза рассмеялась.
– Не надо топить, я и так сейчас согреюсь! – Огюст высунул из-под одеяла лоб, глаза и кончик носа. – Мне утром всегда почему-то сначала холодно…
Элиза налила ему янтарного вина (она уже давно стояла у зеркала, расчесывая свои черные, прямые, как струи дождя, волосы, и, улыбаясь, радостно и восхищенно взглядывала на него):
– На, согрейся, неженка, если не хочешь, чтобы я затопила.
Потом, умывшись над маленьким фарфоровым тазом, он стал одеваться, опасливо отойдя подальше от окна.
– Не бойся. – Элиза, разогревая кофе на медной жаровенке, поглядела на него через плечо. – Тебя никто не увидит: под этим окном почти не бывает людей в это время года.
– Я и не боюсь. – Он взял с подзеркальника ее гребень и начал расчесывать свои упрямые кудри. – Мне-то чего бояться? Я тебя не хочу компрометировать.
– Ком-про-ме-ти-ро-вать? – В ее голосе и в тоне прозвучала насмешка. – Или ты думаешь, что цирковую наездницу кто-то считает порядочной девушкой? Вот ты, когда сюда со мной шел, что про меня думал?
Огюст покраснел. Он был не настолько испорчен, чтобы солгать в подобной ситуации.
– Какая разница, что я думал, когда шел сюда? Важно то, что я теперь думаю.
Она лишь чуть-чуть повернула голову, но он успел заметить ее легкую ласковую улыбку.
– Анри, я тебе очень благодарна, – тихо сказала она.
– За что? – искренне удивился молодой человек.
– Ну… За то, что ты такой добрый, нежный… И… Ведь тебе со мной было не хуже, чем с другими женщинами, да?
Он сзади обнял ее, перегнулся через ее плечо, провел губами по бархатной теплой щеке.
– Лиз, так хорошо, как с тобой, мне было только с одной-единственной женщиной. Ее звали Мария-Луиза.
Элиза вздрогнула, испуганно обернулась:
– Ты сказал «звали»? Ты оговорился?
– Нет. Когда ей было тридцать три года, а мне было семнадцать, она умерла. Это была моя мама.
– Мария-Луиза, – чуть слышно повторила девушка. – Я стану молиться за нее, Анри!
– Да, молись за нее, Элиза, ибо твои молитвы слышит Бог, я убедился в этом… Отец рано умер, а родня его ее очень обижала. Особенно мой дядя Роже… Их злило, что отец женился на дочери купца… Мои родственники, маленькие снобы, решили, что это мезальянс…
Элиза разлила кофе, поставила его на столик возле окна, достала печенье и засахаренные фрукты в вазочке богемского хрусталя.
– Садись, Анри, завтракать. Ты извини, еды у меня немного – я не ждала гостей… А скажи, отчего твои родственники не любили твою матушку? Я слышала не раз, что дворяне женились на простых девушках, правда редко…
Огюст засмеялся:
– Это все Роже. Другие бы промолчали. А он… Господи, прости, что так поминаю! Ты слышала такое выражение – «мещанин во дворянстве»?
– Да. И читала. Я за эти годы очень много успела прочитать, Анри. Я уже не так наивна, как была, когда мы познакомились. Но только при чем здесь твой дядя? Он же настоящий дворянин.
Он взял у нее чашечку кофе и, размешивая в нем сахар, весело посмотрел на девушку:
– Раз на то пошло, я нарисую тебе наше генеалогическое древо, чтобы ты знала, кто я и что. Прежде всего, Роже, царство ему небесное, любил повторять: «древний и славный род». Род и правда древний: Рикары, говорят, жили в Оверни чуть ли не со времен Людовика Одиннадцатого, и среди них бывали и славные вояки, и отчаянные наездники, и охотники, и моряки. Но только дворянским наш род не был, и фамилия сама об этом говорит. Дворянство получил мой прадед, его тоже звали Огюстом, и это вторая причина, отчего меня, единственного наследника рода, стали так называть. Однако же случай, сделавший прадеда дворянином, моя родня ото всех хранит в тайне. Отец поведал ее матери, а мать – мне, под самым строгим секретом.
Глаза Огюста смотрели насмешливо и загадочно, и Элиза не утерпела:
– А мне ты не расскажешь этот случай, Анри? Я никому-никому…
– Да? Допустим. Ну так слушай же. Многие в нашем роду были связаны с лошадьми. Мой отец служил в казарме берейтором, занятие как раз для бедного дворянина. Берейтором был и прадед, только ему повезло служить при дворе его величества Людовика Пятнадцатого. И вот как-то раз королевский двор выехал на охоту. Охотились где-то в Арденнском лесу. Красотою пышного охотничьего наряда блистала мадам де Помпадур[14]. Но ей случилось в этот день о чем-то повздорить с королем, и, обиженная, она ускакала одна в густую рощу, чтобы быстрой ездой остудить свой гнев. Не знаю уж, как это приключилось, но только конь ее понес, и маркиза не удержалась в седле. Она упала, но ножка ее застряла в стремени, и, если бы ее светлость не ухватилась вовремя за край бархатной попоны, взбесившийся конь потащил бы ее головою по земле.
– Какой ужас! – ахнула Элиза.
– Да уж, думаю, она пережила тяжкие минуты, бедняжка-маркиза… Но ужаснее всего ей, как мне кажется, представлялась даже не возможность гибели, а неизбежность позора; конь нес ее прямо к тому месту, где расположились на берегу реки король и придворные, еще несколько минут, и они должны были ее увидеть, но в каком облике… О-о-о! И тут на пути бедной маркизы попался мой прадед, мсье Огюст Рикар. Он ехал верхом, ведя в поводу еще одну лошадь для охотников. Увидев, в каком положении оказалась бедная женщина (а кто она такая, он и не подозревал), храбрый берейтор бросил повод запасной лошади, ринулся вскачь наперерез коню маркизы и сумел его остановить. И, только сняв с седла полумертвую наездницу, понял, кто это…
Маркиза поблагодарила его, разумеется намекнув, что, в случае если он окажется нескромен, ему придется умолкнуть навеки, затем она подарила ему перстень со своей ручки, попросила отыскать ее парик, сколько было возможно, привела себя в порядок и отправилась к королю. Не знаю уж, что она рассказала его величеству, но на другой день король вызвал к себе берейтора Рикара и, наградив его тысячей пистолей, пожаловал ему потомственное дворянство, однако повелел вернуться из Парижа в Овернь. Ну и как? Интересно тебе было это слушать?
– О, даже очень! – с настоящим восторгом проговорила Элиза. – Как будто из рыцарского романа история. Но ты открыл мне фамильную тайну. Отчего?
– А чтобы ты не ставила между нами стены, моя милая маленькая Лизетта!
И он, поймав ее руку, прижал к губам ее ладонь. Они допили кофе. Девушка вдруг стала серьезна и сидела задумавшись. Потом Огюст встал из-за столика:
– Мне, увы, пора. Я сегодня опоздаю на службу…
– А ты придешь еще? – спросила Элиза, словно не придавая значения его предыдущим словам.
– Конечно приду. Если можно, то даже сегодня. И между прочим, через неделю – мой день рождения, и я надеюсь на ваше общество, мадемуазель. Как-никак мне исполнится двадцать семь лет.
Элиза подняла брови:
– Двадцать семь! А мне осенью исполнилось восемнадцать… О, какой же ты старый, Анри!
– Ужасно! – Он обнял ее, притянул к себе и утонул лицом в ее волосах. – И как только ты смогла полюбить такого старика? Наверное, ты скоро меня разлюбишь!
– Непременно разлюблю, – пообещала Элиза и, отвечая на его поцелуй, неудержимо расхохоталась.
VIII
Минул январь, прошел февраль, наступил март.
В последнем отчаянном и бесплодном усилии сохранить империю и свою власть Наполеон спешно собирал новую армию. Слепо веруя в свою уже угасающую звезду, отвергая с упрямством безумца предложения мира, которыми тогда осыпали его монархи Европы, император готовил для новой бессмысленной бойни пятисоттысячную армию, последнюю армию империи. Полки формировались с необычайной быстротою. Но то были не прежние полки – о нет! Нарядные мундиры нелепо и жалко свисали с узких плеч новобранцев, кивера наезжали на лоб, смешно торчали над безусыми, не знавшими бритвы лицами. В армию были призваны уже не восемнадцатилетние юноши, а пятнадцати-шестнадцатилетние подростки…
Это были те самые дни, когда, тщетно пытаясь сломить упорство Наполеона, Меттерних[15] задал ему свой страшный вопрос: «Ну а потом? Когда погибнут эти солдаты? Решитесь ли вы объявить новый набор?»
Извещение о призыве в когорты национальной гвардии Огюст де Монферран встретил внешне спокойно, ибо в душе был к этому готов. Однако втайне он испытывал смятение и ужас, не столько от возможности гибели, сколько от сознания полного крушения своих планов и надежд. Он видел обезлюдевший, опустевший Париж. Он понимал, что сбывается и, увы, сбудется скоро недавнее предсказание Персье и разоренная Франция надолго забудет о храмах и дворцах… Едва родившись, новый мир мог умереть, убитый одним из тех, кто некогда так его защищал…
Полковник Дюбуа, в чье распоряжение поступил сержант Монферран, поручил ему формирование 2-й Версальской роты и распорядился спешно догонять с нею уже выступивший в направлении Дрездена полк.
Огюсту оставалось два-три дня на улаживание своих дел в Париже, да ему, собственно, и нечего было улаживать. Он лишь договорился с Молино о возможном возвращении на службу, простился с родными, вызвав бурные слезы отчаяния у тетушки Жозефины, и последний вечер провел вдвоем с Элизой, перед тем лишь на два часа заглянув к Модюи и поздравив его с тем, что тот, как всегда, благополучно избежал призыва.
К этому времени между Огюстом и Элизой уже произошло несколько ссор. Часто бывая в цирке, он стал ревновать ее ко всем, кто выказывал юной наезднице свое бурное восхищение и поклонение, его бесило, что она продолжает допускать поклонников в свою уборную, он злился, находя в ее комнате привезенные кем-то цветы. Элиза отшучивалась в ответ на его колкие упреки, иногда пыталась серьезно объяснить ему, что это в жизни цирковой артистки неизбежно, однако он, внешне принимая ее объяснения, в душе злился еще сильнее. Злость его вольно или невольно подогревал Антуан, продолжавший открыто ухаживать за Элизой на правах друга, а порою как бы между прочим рассказывавший Огюсту о посещавших ее кавалерах и о том, сколь любезна она бывает с ними в отсутствие своего любовника.
Однажды он увидел на ее шее жемчужное ожерелье и, вспыхнув от подозрения, не постыдился спросить ее, откуда оно взялось. Мадемуазель де Боньер ответила, что давно уже купила его себе, но Огюст не поверил, и подозрение его превратилось в полнейшую уверенность, однако он не стал устраивать сцен и просто ушел в тот вечер к себе домой. На другой день он имел глупость показать свою досаду и ревность Антуану, и тот заметил, пожимая плечами:
– Мальчик мой, ну а что в том такого? Она – звезда, а звезды светят всем. Ты же знал, кто она. Вот если жена станет тебе изменять, дело другое. У красавиц цирка не бывает ни первой, ни последней любви…
– Но я был первым и хочу остаться единственным! – в ярости воскликнул Огюст.
– Ты был первым? – поднял брови Тони. – Вот это новость! А ты уверен, что не ошибся?
После этих слов Огюст неожиданно для самого себя закатил другу оглушительную пощечину. Модюи вскочил, красный, как неостывший уголь, отчаянно выругался и закричал, что Огюст сошел с ума и что за такую выходку стоит его проучить…
В ответ на это Монферран сощурился и совершенно спокойно воскликнул:
– Дуэль? Изволь же, Тони! А ты не забыл, как я стреляю?
Антуан смешался:
– Я помню. Каска жандарма… Я помню, что ты спас мне жизнь.
И вместо того чтобы уйти, как он собирался сделать, Модюи с унылым видом забился в угол и погрузился в молчание, а через пять минут попросил у друга прощения. Огюст, уже жестоко раскаявшийся в своем поступке, с радостью простил его и в свою очередь попросил забыть о пощечине…
После этого случая молодой архитектор перестал изводить Элизу своей ревностью, он сделался весел и спокоен, но в этом спокойствии она угадала растущее охлаждение…
И все-таки, собираясь на войну, он пришел к ней последней.
– Будешь опять молиться за меня? – спросил он, играя ее распущенными по плечам черными волосами.
Она обняла его и поцеловала, так горячо, так испуганно и нежно, что он внезапно понял, как лживы и глупы были все его сомнения, и ему сделалось стыдно. Он стал целовать ее глаза, из которых готовы были пролиться слезы, и обещал ей то, чего обещать невозможно: что не будет убит.
– Я вернусь, и мы обвенчаемся! – уверял он, в эту минуту начисто забыв о мадемуазель Люси Шарло, своей невесте, о связях мсье Шарло, о позорном для невесты дворянина занятии Элизы.
– Я люблю тебя, Анри! – твердила Элиза, прижимаясь к нему, сдавливая в груди рыдания. – Я тебя люблю!
И он снова, как в первый день их близости, почувствовал себя счастливым.
А утром они расстались.
2-я Версальская рота присоединилась к армии под Дрезденом. И ее вместе с другими ротами, полками, бригадами закружило кровавое колесо войны.
После катастрофы под Лейпцигом, после чудовищной бойни, погубившей с обеих сторон более ста тридцати тысяч человек и окончательно разбившей веру французов в возможность победы, отступление французской армии превратилось почти в бегство. В армейских частях уже мало кто удивлялся дезертирству.
За десять месяцев сражений Огюст, как ему казалось, повзрослел на десять лет. Он увидел и испытал столько страшного, немыслимого, не укладывавшегося в его сознании, неприемлемого для его натуры, что его душа как будто отупела. Постоянный страх смерти, который он внешне никогда и никак не проявлял, слывя одним из самых отважных бойцов в полку Дюбуа, этот липкий, омерзительный страх до глубины заполнил все его существо и породил глухую злобу, вернее, некую почти истерическую ярость против нескончаемой кровавой вакханалии, к которой он, Огюст, строитель, созидатель, не имел и не желал иметь никакого отношения. Он стрелял без промаха, не раздумывая, будто в бреду или кошмаре, вскидывал и опускал саблю, а из глубины сознания в эти мгновения вдруг поднималась мысль: «Что же это?! За что?! За что меня, человека, заставляют убивать других людей?! А им за что меня убивать? Ни я им, ни они мне, никто из нас друг другу не мешает! Мне страшно!»
Он видел сражение под Лейпцигом, проявил в нем отвагу и был произведен в чин старшего квартирмейстера, но звание офицера штаба теперь не давало почти никаких преимуществ в бегущей армии…
Отупение Огюста внезапно исчезло, когда французская армия, преследуемая русско-австрийскими войсками, оказалась прижатой к реке Об возле Ла-Ротье. Это была уже земля Франции, и здесь Монферрану вспомнились вдруг слова Персье о том, что, погибая, Наполеон увлечет Францию за собою… Его охватил ужас, затмивший злобу и даже самый страх смерти, ее породивший. «Неужели все погибло?! Неужели погибла Франция?!» – поразила его новая, острая отчетливая мысль.
Сражение при Ла-Ротье состоялось первого февраля тысяча восемьсот четырнадцатого года и закончилось отступлением французов, за несколько часов потерявших четыре тысячи человек убитыми и около двух тысяч пленными.
Полк Дюбуа, к несчастью, оказался в стороне от Лесмона, где существовал единственный мост через стремительный Об, и был обречен на уничтожение.
Какой-то крестьянин, которого привели к полковнику разведчики, уверил его, что в нескольких милях выше по течению есть брод. Дюбуа великолепно понимал, что переходить ледяную стремительную реку смерти подобно, но то была еще смерть сомнительная, а настигавшая полк русская картечь несла смерть несомненную, и полковник решился. Густыми залпами, истратив последние патроны, он отбросил назад нажимавшие на него казачьи отряды и стремительным маршем двинул полк к названному крестьянином месту. Перед тем солдаты выдержали длительный бой, а весь день накануне непрерывно отступали, почти двое суток никто ничего не ел, однако страх заставил людей, едва передвигавших ноги, бегом броситься к своему спасению.
Монферран был в этот день при Дюбуа, ожидая, что его, как штабного офицера, могут отправить с донесением в соседнюю часть, однако полк с самого начала боя был отрезан от остальной армии, и послать никого никуда уже было нельзя, да в том и не было надобности. Дюбуа, старый вояка, как все истые солдаты, туповатый и бесхитростный, не выносил Огюста, видя в нем, во-первых, аристократа, во-вторых, «чертова умника» и, в-третьих, презренного щеголя. (Щегольство Монферрана выражалось исключительно в том, что в самых тяжких условиях боевого похода он умудрялся каждый день дочиста мыть шею, и воротник его мундира поэтому не был засален, а еще в том, что он имел несчастье однажды в присутствии полковника почистить ножичком ногти.) Дюбуа, правда, ценил его смелость, но терпеть не мог его манеры самостоятельно рассуждать. И в этот день Огюст весьма некстати проявил эту манеру.
Шагая рядом с полковником в авангарде пешего строя (в полку было всего несколько лошадей, и последние три пали этим утром), квартирмейстер заметил командиру, что в это время года брод на реке едва ли пригоден к переправе: зима была нехолодной, часто шли дожди. Об вздулся, несся как сумасшедший, куда уж было изнуренному отряду бороться с этой рекой?
Дюбуа, одолеваемый тревогой и без этого замечания, взорвался и заорал на своего подчиненного, будто на школьника, сразу вылив все скопившееся против него раздражение. Он орал, что воюет не первый десяток лет и что лучше какого-то мальчишки знает, что под силу его солдатам, а что нет, и дальше все в том же духе. Взбешенный Огюст молча проглотил все эти оскорбления, но когда полковник язвительно спросил, не боится ли мсье квартирмейстер водою Оба слишком чисто отмыть свою шею, молодой человек совершенно спокойно ответил ему:
– Боюсь, что вода Оба смоет не только грязь с солдатских шей, но и перхоть с их волос, господин полковник, а ваша треуголка вместе со спрятанными в ней секретными документами, которые вы не догадались еще вчера отправить по назначению, поплывет вниз по реке, прямо к неприятелю.
Дюбуа закипел от ярости, но не успел вновь накинуться на Огюста. Из-за крутых уступов берега показалось как раз то самое место, к которому они стремились. Там, как и указывал крестьянин, почти возле самой воды сгрудились, заполняя естественную впадину (русло пересохшего ручья), длинные старые сараи, брошенный винный склад, а выше по берегу стояли несколько домиков, судя по всему тоже опустевших.
Полк, вернее, то, что от него оставалось, то есть чуть больше половины уцелевших солдат, кинулся к воде, не страшась ее холода. И тут же убедился в полной невозможности переправы: первые же шаги смельчаков заставили их погрузиться едва ли не по грудь.
– Этот крестьянин – изменник! Здесь вообще нет никакого брода! – завопили несколько голосов.
Наступил настоящий хаос. Обезумев, вопя и ругаясь, плача и хохоча, солдаты сшибли двери с сараев, ворвались в них и стали выкатывать оттуда оставшиеся бочки, но они оказались пусты, вина в них не было.
Дюбуа, поглядев на них, ничего не крикнул, не отдал ни одного приказа, только отвернулся и, опустив голову, безнадежно махнул рукой.
– Они не сумеют теперь даже достойно умереть на глазах этих варваров! – вырвалось у старого полковника.
Огюст, в первые мгновения не менее всех потрясенный происшедшим, услышав эти слова своего начальника, вдруг встрепенулся.
– Мсье, но ведь мы их намного обогнали! – воскликнул он, подойдя вплотную к Дюбуа. – Берег неровный, от их лошадей мало проку, они от нас отстали на час, а то и больше. Можно успеть переправиться.
Полковник резко вскинул голову и возмущенно посмотрел на квартирмейстера.
– У вас от страха помутился разум? – спросил он, кривясь. – Или вы думаете за час научить всех нас, грешных, летать?
– Это мне не под силу, – возразил Огюст. – А вот мост построить здесь можно за полчаса.
Услышав это, Дюбуа покраснел настолько, что лицо его сделалось ярче мундира.
– Послушайте, мсье ученый муж! – взревел он. – Ваша ученость, кажется, повредила ваше здоровье! Какой мост?! Где?! Вы видите, как широка река?! И из чего строить, черт бы вас побрал?! Да если бы и было из чего, любой мост строится ну хотя бы за несколько часов!
– Неправда! – Монферран не замечал оскорбительного тона командира и его обидных слов, ему было уже не до того: на глазах его погибал весь полк. – Неправда, мсье! Понтонный мост можно навести гораздо скорее.