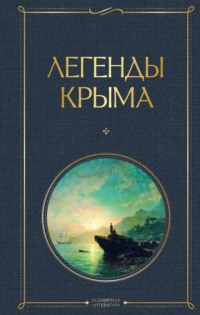
Легенды Крыма
Разбирая и оценивая достоверность этой легенды, приходили к самым различным заключениям. Одни принимали, другие отрицали ее, третьи приурочивали сообщаемый в легенде факт к более поздним временам. Составилась целая литература предмета. Куник и Гедеонов, Иловайский, Макарий, Филарет и Порфирий, Соловьев и Бестужев-Рюмин посвятили легенде свои строки. Но особенно обстоятельно, с полной тщательностью разобрал вопрос В. Васильевский. Анализируя материал, Васильевский заключает, что русский излагатель легенды, несомненно, кое-что добавил от себя сверх того, что было в греческой рукописи, не той, которая дошла до нас с кратким житием Стефана, а другой – содержавшей житие с посмертными чудесами, до нас не дошедшей. Так, приспособляясь к тогдашним литературным вкусам русского общества, он внес добавления из житий Иоанна Златоуста и митрополита Петра. Однако автор славяно-русской редакции Стефанова жития в отношении фактической стороны строго держался греческого источника. Он не сделал промаха ни в наименовании храма, где почивали мощи, ни в других случаях и сохранил имя Бравлина, не пытаясь даже пояснить русскому читателю это малопонятное для него имя.
Такие попытки, впрочем, делались позднее переписчиками русского Стефанова жития. Так, в сборнике Румянцевского музея № 434 XVI века вместо князь Бравлин написано: князь бранлив. Конечно, если бы в начальной редакции стояло бранлив, то это слово, не вызывая недоразумений, удержалось бы переписчиками и не перешло в непонятное имя Бравлина[5].
Итак, у нас нет основания допускать, что легенда о походе Бравлина сочинена автором русского жития Стефана Сурожского, а не почерпнута им из греческого источника. Если вспомнить, что, кроме жития св. Стефана, в русский церковный обиход вошла и служба святому с двумя канонами, что в одной из стихир службы Стефан величается защитником сурожан и хранителем града, что там же воспевается факт, когда нападавшие на Сурож потерпели неудачу и посрамление и что служба святому была, очевидно, составлена в Суроже, где покоились его мощи, где был в честь его построен храм и где праздновалась его память, – то все это только подтверждает, что в полном греческом житии должны были заключаться посмертные чудеса святого, в том числе и чудо с князем Бравлином, напавшим на Сурож.
Автор этого полного греческого жития св. Стефана, вероятно, жил в относительно близкое к нему время, потому что до него дошли все подробности его жизни и народный рассказ о посмертных чудесах с сохранением в точности имен и названий, исторически правильных.
И нельзя сомневаться, что, передавая посмертное чудо с князем Бравлином, он имел в виду хорошо известный ему исторический, а не вымышленный факт нападения русских на Сурож.
На Сурож, как и на все побережье Крыма, в те времена не раз нападали варварские отряды, грабили и опустошали богатые берега. Об этом свидетельствует, например, итальянская легенда о перенесении мощей св. Климента, исторический характер которой не подлежит сомнению; а житие Георгия Амастридского, которое дошло до нас в греческой рукописи, устанавливает, что нападения русских на черноморское побережье имели место ранее 842 года.
Таким образом, следует признать, что какой-то русский князь Бравлин в конце VIII или в начале IX века, сделав успешный набег на побережье Крыма, действительно осадил и взял Сурож, и вполне допустимо, что под непосредственным впечатлением своего соприкосновения с христианским миром приобщился и сам к нему.
Кого же автор-грек той эпохи мог иметь в виду под именем русских или россов?
Греческий писатель X века Лев Диакон в одном месте говорит, что император Никифор послал Калокира к тавро-скифам, называемым обыкновенно россами, и что Калокир, пришедши в Скифию, понравился начальнику тавров (Святославу). Надо думать, что и автор Стефанова жития, говоря о русских, имел в виду тех же тавро-скифов, обитавших в Приднепровье, в Тмутаракани и в Тавриде.
Над этими тавро-скифскими племенами господствовали хазары, но господство хазар было непрочное, так что подвластные им народы имели возможность действовать в иных случаях вполне самостоятельно.
В 839 году, по словам Вертинской летописи, в Ингельгейм к Людовику Благочестивому прибыли через Константинополь вместе с послами императора Феофила послы от имени какого-то Хакана и заявили, что их зовут русскими.
Хакан? Был ли то их прямой государь или хазарский каган – верховный властитель, трудно сказать.
Но и это посольство отчасти говорит за то, что сообщаемые сурожской легендой сведения о походе русского князя Бравлина на Крым и Сурож – не выдумка, а исторически вполне допустимый факт.
Само непонятное имя Бравлина не носит ли вестготского отпечатка? (Известен, например, вестготский епископ Брулинен.)
Легенда указывает и место, откуда пришел наш Бравлин: это Новгород.
Одни догадываются, что русский излагатель сам от себя добавил в греческое сведение о походе название русского города, где был особый Сурожский двор; другие допускают, что писатель-грек имел в виду не русский Новгород, а тот Неаполис (Новгород), который упомянут в декрете Диофанта и который находился вблизи нынешнего Симферополя.
Мы решили привести сурожскую легенду в том ее освещении, в котором она представляется современными нам исследователями, имея в виду, что в широких кругах русского общества легенда эта малоизвестна и что знакомство с научными трудами исследователей не всем доступно.
Память о св. Стефане и доселе чтима в Судакском округе. Верстах в пятнадцати от Судака, в Кизильташских горах, ютится монастырь его имени, русский монастырь пятидесятых годов прошлого столетия, но монахи уверяют, что монастырь построен на том именно месте, где во времена, близкие к Стефану, был построен храм в честь этого святого. Имя Стефана распространено и в русском, и в инородческом населении общины, но народ не сохранил памяти ни о св. Софии, где покоились мощи святого, ни о храме его имени в Судаке; остались памятны лишь Железные ворота. Неподалеку от немецкой колонии, в сторону Нового Света, выход из ущелья и доселе носит имя железных ворот, а вблизи можно найти остатки старинных построек.
Не здесь ли нужно предположить местоположение Сурожа времен св. Стефана и похода на Сурож русского князя Бравлина?
Текст легенды о походе князя Бравлина по рукописи № 435 из собрания графа Румянцева в Императорском Румянцевском музее в Москве («Торжественник», писанный полууставом конца XV века), листы 483–484.
И по см(е)рти с(вя)т(ого) мало лет минувшю приде рать велика из Новагорода русскаа. Кн(я)зь Бравлин силен поплени от Корсуня и до Керчева и съ 12 строки многою силою приде къ Сурожу. За 10 дни, приде Бравленин с силою, изломивъ Железнаа вр(а)та и вниде в град, и в зем(ь) мечь свои, и вниде (в) с(вя)тую Софию, избив двери. И вниде иде же гроб с(вя)т(о)го Стефана. И на гробе его ц(а)рское одеяло, женчюг, и злато, и камение драгое, и кандила златы, и ино много. И пограби все. И в том ч(а)се обратися лице его назад; и над ту кн(я)зь, пены точаше, и воспи, гл(агол)я: – Велик ч(е)л(ове)к есть еде, и удари мя по лицю, и обратися лице мое назад. И реч(е) к боляром своим: – Возвратите все назад, что есте поймали. И возъвратиша. И хотеша кн(я)зя под(ъ)яти от земля. И взопи, гл(агол)я: – Не деите мене, да лежу. Изламати мя хощет един стар муж, притисну мя к земли и давит; д(у)ша ми изыти хощет. И реч(е) им: – Борзо выжените рать из града, да не возмуть ничег(о). И рать отступи от град(а), а он еще не вста. – И что взяша с(о)суды ц(е)рк(о)вныа в Корсуни и в Керчи принесете семо и положите на гробе. И положиша, и не оставиша ничто же, но все възвратиша. И р(е)че с(вя)тыи: – Аще не кр(е)стишися въ ц(е)ркви моей, то не изыдеши отсюду. И взопи княз(ь), г(лаго)ля: – Да приидутъ попове и кр(е)стят мя. Аще въстану и лице мое обратит ми ся и кр(е)щус(ь). Прииде архиепис(ко)п Филарет и ерей с ним ма(ли)тву створше, и кр(е)стиша и во имя о(т)ца и с(ы)на и с(вя)т(о)го д(у)ха. И обратися лице его опять. И кр(е)стишася вси вящьшии его. И попове рекоша кн(я)зю: – Обещайся Б(ог)у: от Корсуня и до Керчя что еси взял: мужа, и жены, и дети, и повели възвратити все. Тогда повеле княз(ь) всем своим вся отпустити. И идоша кождо восвояси. За нед(е)лю не изыд(е) ис ц(е)ркви, дондеже исшед, дар дав велик с(вя)т(о)му и град его чтив, попов и людии отиде. Се слышаху, инии не смеаху пойти нань. Аще кто наидяше, – посрамлен отхожаше.

Выпуск третий
Элькен-кая – парус-скала
Керченская легенда
Поднимай парус, старый корабль, крепи снасти. Будет шторм! Много штормов пережил Ерги Псарас, не думал, что впереди еще самый страшный.
Давно не выходил он в море и жил в покое на старости лет.
Каменные склады в гавани ломились от его товаров; мраморный дворец Псараса считался красой Пантикапеи, а юноша-сын заставлял сильнее биться женские сердца.
Пора было выбрать для него достойную, и Ерги Псарас, казалось, нашел одну.
По воле отца сын часто навещал дом купца из Кафы, но возвращался от невесты всегда задумчивый и печальный.
– Любовь, видно, такая госпожа, – смеялся старик, – что, если кто подчинится ей, она схватит за волосы и отведет на рынок невольников. Вот и тебя тоже.
Не спорил сын, думая о той, которую любил.
Та, другая, жила в дальней деревне, куда сын Ерги Псараса наезжал, чтобы купить пшеницу.
Морщинки уже побежали по ее лицу, и голос не звучал по-девичьи.
Но в глазах жил веселый смех, и каждое движение ее звало на радость.
И, встретив ее, юноша почувствовал, как подернулись глаза пьяным туманом, и цепи любви сильнее оков обвили его, как преступника.
А она узнала слезы от счастья и горе от любви и поняла, что поздний призыв жизни может быть сильнее смерти.
– Кому, как не мне, горевать, кому, как не мне, тосковать; у всех под окном поют соловьи, но весна обошла мою дверь.
И думала о своем мальчике, которого отняли у нее в давние дни. И вспоминала рыбака-мужа, и ревнивый нрав его, и жестокую расправу с нею.
Его звали также Ерги, но, кроме рыбачьей ладьи, у него не было ничего другого, и жил он на прибрежье Сугдеи, далеко от пантикапейских берегов.
Не делилась женщина своей скорбной думой с юношей, боялась затмить светлую минуту встречи.
И без того часто печален был он, и слеза сбегала с его глаз.
И замечая это, она прижималась к его устам в замирающем поцелуе и, обвивая его стан нежной рукой, напевала старую песенку:
– Любовь без горя, любовь без слез – то же, что море без бурь и гроз.
А между тем отец торопил своего сына: корабль уже был готов, чтобы идти в Кафу за невестой.
Ждали только попутного ветра – поднять паруса. И когда ветер зашумел от Намыш-буруна, Ерги Псарас позвал сына.
– Пора выходить в море.
Хотел сказать что-то сын, но увидел суровое лицо отца, и замерло его слово.
К ночи вышел корабль из гавани, и тогда слуга подал старику свиток.
– Тебе от сына.
Прочел Ерги Псарас.
Если бы ураган, который поднялся в груди его, мог вырваться на волю, он сравнял бы всю землю на пути от Пантикапеи до Кафы. И если бы свинец туч, нависших над Митридатом, опустился на голову старика, он не показался бы более тяжелым, чем правда, которую узнал Ерги Псарас из письма сына.
– Пусть будет трижды проклято имя этой женщины. И лучше своей рукой убить сына, чем он станет мужем своей матери. Поднимай паруса, старый корабль, служи последнюю службу.
И Ерги Псарас кричал корабельщикам об отчале.
– С ума сошел старик, – ворчали люди.
– Шторм, какого не бывало, а корабль, как дырявое решето.
Но звякнули поднятые якоря, и рванулось вперед старое судно.
Как в былые дни, сам Ерги направлял его бег, и забыли оба, что один дряхлее другого.
Гудел ураган. Взметная волна захлестывала борта, от ударов ее трещал корабельный стан.
– В трюмах течь! – крикнул шкипер.
Вздрогнул Ерги, но, увидев впереди мачтовый огонь, велел только прибавить парусов.
Точно взлетел на воздух его корабль, одним взмахом прорезал несколько перекатов волны; вместе с бешеным валом упал в бездну, почти коснулся морского дна и снова бросился на огромный, как гора, гребень.
И с вершины его увидел Ерги Псарас, всего в нескольких локтях от себя, корабль сына.
И был миг, когда оба корабля, став рядом, коснулись бортами.
Белая молния рассекла черное небо, страшным ударом расколола береговой утес, разбила край Опук-кая и обрушила его в залив тысячей обломков.
Покрылся залив белой пеной, сквозь тучи пробился свет луны, и узнал Ерги сына и женщину с золотистыми волосами. Узнал Ерги эти волосы и крикнул сыну, пересиливая ураган:
– Она твоя мать, будьте прокляты оба!
Налетел новый шквал, уходивший гребнем к небу, бросил всех на дно развернувшейся пучины, и исчезли они навсегда в морских глубинах.
Так было.
Верьте.
А на том месте, где случилось, увидели люди потом две скалы и приняли их за корабли, догоняющие друг друга.
Пробегают суда мимо этих скал, видят их люди и принимают по-прежнему за корабли, а подойдя ближе, улыбаются своему обману.
И не знают, что в обмане правда.
ПоясненияСкалы, известные под этим именем, выброшены далеко от берега в море на пути из Феодосии в Керчь, в 56 верстах от Феодосии и в 54 от Керчи, против мыса Опук. Издали они до обмана похожи на два корабля-парусника, догоняющих один другого, и у моряков-греков слывут под именем Петра Керавия (каменные корабли). Легенду рассказывал мне керченский городской голова Петр Константинович Месаксуди со слов своего отца, керченского грека.
Ерги(Иорги) – Георгий. Псарас– рыбак.
Пантикапеягреческих времен – нынешняя Керчь. Кафа– Феодосия. Имя Керчь известно с X века, как о том свидетельствует арабский писатель Ибн-Даста (Ю.Л. Кулаковский. К вопросу об имени Керчь).
«Любовь – такая госпожа, что, если кто подчинится ей, она схватит того за волосы и отведет на рынок невольников»– старогреческая поговорка. «У всех под окном поют соловьи, но весна обошла мою дверь»– отрывок из песни, которую до сих пор поют гречанки.
Приведенная в легенде песенка«Любовь без горя, любовь без слез – то же, что море без бурь и гроз»взята из известной пословицы «Любовь без горя, любовь без слез – то же море без серебристой волны». Митридат– гора, у склона которой расположена Керчь, носит имя понтийского царя Митридата Евпатора, владевшего Пантикапеей в I веке до Р. X.

Старый храм
Керченская легенда
Теперь старый керченский храм ушел в землю, сгорбился, как старик, который несет на плечах много лет.
Кругом выросли богатые, высокие дома, грохочут фабрики, вытянулись, как шеи жирафов, заводские трубы. И среди них затерялся старый храм: мало слышен, плохо виден. И все же не хочет перестать жить.
И, может быть, переживет нас, как пережил многих.
Керченские греки в тишине вечера любят слушать мелодичный звон его колоколов: они чтут его старые святыни, поклоняются иконе, которая дошла от дней, когда впервые служил в храме пантикапейский епископ.
Об этих днях не забыли, хотя и прошли с тех пор многие сотни лет. Не забыли, потому что то, что случилось, бывает и теперь.
Говорят, в ночь под великий праздник стояли тогда у амвона двенадцать братьев, и тысячная толпа христиан не знала, кто из них прекрасней. Так красивы и стройны были все двенадцать, такой доблестью и отвагой дышали их лица. И светом чистой совести.
Ибо исполненный долг дает ее людям, а братья построили храм Предтечи, как обещали матери.
– Помяни, Господи, душу ее в Царстве света.
И епископ, наклоняясь над престолом, поминал имя матери и не поминал двух других: не был христианином отец, а имя безумной сестры не вещалось в храме.
Но скорбел о том престолослужитель и шептал трижды святую молитву, когда доносился жалобный стон от окна алтарной абсиды.
Сливался тот стон с голосом декабрьского шторма, и было не по себе многим. Взвизгивал ураган, чтобы заглушить стенания мятущейся души, и вздрагивали бровью братья от боли и гнева.
Казалось, с порывом бури проникал в храм туманный образ сестры, в струйках кадильного дыма вился по колоннам и, не доходя до престола, угасал в мерцании догорающих лампад.
Чтобы облегчить сердце, братья думали о чистой душе матери, о светлом часе ее кончины.
Со светильником в руке, прежде чем проститься с земным, завещала она детям поднять над Пантикапеей крест.
– Во имя Крестителя.
И поклялись они сделать так, и пока не воздвигнут храма, забыть радости жизни и счастье ликующих грез.
Двенадцать братьев и сестра, чище которой не было в мире лилии.
Нужны были годы веры и труда, чтобы исполнить обет. С именем Христа, камень за камнем, братья воздвигали стены. А сестра приносила им пищу, омывала раны и нежной заботой своей отражала душу матери.
Но на Митридатовой горе жил старый жрец, ненавидевший христиан, и сын его, начальник Горной части, был последователем отца.
Он был красив, точно сам Аполлон вдохнул в него часть своей красоты, и смелый взор его проникал в сердце женщины.
Оттого братья боялись, чтобы не увидел он сестры, чище которой не было лилии, как думали они.
Подходила работа к концу, становилось радостнее на душе у братьев, и только скорбная тень на лице девушки печалила их.
– Все грустит по матери. Не знали, что случилось.
В летнюю ночь, когда морской залив горел в бриллиантах отражений, сидела она на ступенях Боспорского схода, глядела в глубокое небо и говорила со звездой.
– Где ты, мама?
И вздрогнула в испуге и в смущении, когда красавец юноша коснулся ее плеча.
Его длинные кудри падали черными кольцами, и одно из них коснулось ее лица. Коснувшись, обвеяло чувством жгучей ласки.
– Кто ты, зачем ты здесь?
Не ответил на это юноша, или не поняла она его. Шепот страсти, как туман, застилает глаза; от него, как от сладкого яда, замирает сердце.
– Уйди, я чужая тебе.
И девушка вырвалась из его объятий.
Не сказала ничего на другой день братьям, только перестала ходить в летнюю ночь на ступени Боспорского схода, чтобы не встретить больше дерзкого.
Она ненавидела его и вспоминала его речь, боясь позабыть хоть слово.
– Ты будешь моя, – говорил он, и билось сердце от голоса власти.
– Оставь свою печаль, – убеждали братья, – скоро поднимем крест; уже радуется светлый дух матери.
И от этих слов еще тяжелей становилось на душе девушки. Точно кто подломил цветок, а люди, не замечая, говорили о жизни.
Часто не помнила она себя, и когда падал в окно лунный свет, как бледный призрак, тянулась к нему. Был ли то сон, но казалось ей, что чернокудрый юноша опять обнимает ее, жжет огнем холодные уста, прижимает к себе, и оттого пустеет сердце. И кто-то другой стал жить в ней. И, думая об этом, она не думала уже ни о чем больше.
Не спешила к братьям, позабыла для них слово ласки. И раз совсем не пришла.
Удивились братья.
– Что могло помешать?
И когда спустились сумерки, поспешили домой. Было смутно на душе: как рассвет дня перед казнью, коснулся ужас предчувствия.
Уже открылись земле светы ночи, когда братья подошли к дому.
– Отчего не пришла накормить нас? – спросил старший брат, увидев сестру на пороге.
Молчала девушка, без слез плакали глаза.
– Отчего не пришла?
Хотела ответить, но мертвенным шепотом шевелились уста.
В саду звякнул меч. Оглянулись туда.
Стройный юноша, у которого змейками сбегали по плечам кольца черных волос, укрылся в тени платана.
– Сын жреца!
Тогда бросился к девушке старший брат.
– Это он?
Словно упавшая одежда беззвучно опустилась перед ним девушка.
– Анафема есто си!
И взмахом ноги он откинул ее далеко за порог.
Пролетел в это время пыльный вихрь, подхватил лишнюю песчинку и унес к морскому заливу.
В тот день, когда подняли над храмом крест, на церковной площади собрались все христиане города, а вдали от них стояла кучка нехристиан, но не было среди них сына жреца. Он навсегда ушел из города.
А вечером, когда луна посеребрила поднятый крест, от залива надвинулся белый туман, хотел коснуться креста и унесся в морскую даль.
Может быть, то был не туман, а поднималась из пучины несчастная душа.
И когда под великий праздник в храме служил впервые епископ, это она носилась в вихре урагана вокруг храма.
Прошло немного времени после того, и на город напал отряд варваров.
Пантикапейцы храбро защищали свой город, и немало юношей погибло у его стен. Погибли и двенадцать братьев-строителей.
Их похоронили в общей могиле у храма и на память векам прикрыли могилу плитой.
– Куфи автис ие и ги. Мир им.
Мир не сошел на могилу. В ночь под великий праздник прилетает туда тень сестры, белым колеблющимся светом приникает к изголовью могилы, которая уже не видна людям, и тогда плачет кто-то в церковной ограде голосом безысходной тоски.
Но не верит народ в безысходность горя.
Есть слух, что должен вернуться юноша с кольцами черных волос.
Не тот, что загубил несчастную. Другой, сердце которого поет светлый канон. Он придет к могиле в ночь под великий праздник, поднимет тяжелую могильную плиту, чтобы мятущаяся тень могла слиться с тенью братьев.
Как никогда сами собой зазвучат в ту ночь колокола старого храма.
И разнесут по земле мелодию мира и любви.
ПоясненияЛегенда относится к одному из древнейших памятников христианства в Крыму, кцеркви Иоанна Предтечив Керчи, построенной, как полагают, в VI веке. За это говорит характер постройки, во многом напоминающей Пицундский храм. На одной из колонн у левого клироса сохранилась надпись на греческом языке: «Здесь покоится раб Божий Кириак, сын Георгия, преставился месяца июня 3, часа 10, в лето от Адама 6260» (т. е. в 752 г.). В церкви сохранился каменный престол, по преданию от времени сооружения храма. Легенда сохранила память о тех временах, когда христианство и прежний языческий культ существовали вместе. Как известно, первые христиане появились в Крыму в конце I века, но затем благодаря принятым императорской властью мерам распространение новой веры встретило большие затруднения, и только с середины VI века, со времен Юстиниана, принявшего под свое покровительство Южный берег Крыма, христианство стало вытеснять в Крыму старый культ. Легенду о старом храме, который действительно от времени ушел в землю на целых 8 ступеней, рассказывала мне жительница Керчи Татьяна Васильевна Маркс.
Описание церкви помещено в Ж. М. Н. П. 1837, т. XIII, стр. 632; в статье «Древняя Иоанно-Предтеченская церковь в Керчи», помещенной в Правит. Вест. 1891 г., № 53; у Кандараки (Ист. Арх. Крыма) стр. 341; в Записках «Общества истории и древностей», т. 1, стр. 323 (Остатки христианских древностей в Крыму) Гавр. Арх. Херс. и Тавр.
Боспор– название пролива, на берегу которого расположена Керчь, но греки применяли это название и к городу.

Семь колодезей
Феодосийская легенда
Кем были вырыты в степи «семь колодезей» – не помнят. Рассказывают только, как случилось, что ушла из них вода.
Семь колодезей уже были, когда в той местности поселился старый немец, у которого было шесть сыновей.
Пересчитал немец колодцы и сказал:
– Нужно иметь еще одного сына.
И у немца родился седьмой сын, Фриц.
По праздникам старый немец сидел у семи колодезей, курил трубочку и смотрел на Фрица.
– Из этого парня будет толк.
Фриц скакал верхом на палочке и кричал, что люди проливают на землю много воды.
А когда подрос, стал упрекать отца:
– Почему даешь воду даром?
– Из этого парня будет толк, – говорил, но уже не так весело, как прежде, старый немец.
Однако не хотел нарушить местный обычай и давал людям воду по-прежнему без платы.
– Если не дам, может быть неприятность.
Прошли годы. Сгорбился старик, а Фриц вырос в огромного мужчину. Боялись его рабочие. Силищи такой – на сто верст не найти. Стал побаиваться его и отец.
– Не пожалеет, если рассердится.
Случилось, что один за другим умерли все шесть братьев, и у старика остался один Фриц.
Готов был все сделать для него отец и только в одном не хотел уступить: не хотел закрыть для народа семь колодезей.
– Пока жив, этого не будет, а умру – делай, как знаешь. Если имеешь шпоры, можешь пришпоривать.
И вскоре умер.
Похоронил Фриц отца и запер семь колодезей на ключ.

