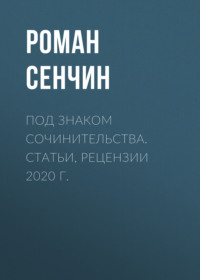
Под знаком сочинительства. Статьи, рецензии 2020 г.

Роман Сенчин
Под знаком сочинительства
Статьи, рецензии 2020 года
Под знаком сочинительства
Ученые уже полторы тысячи лет спорят, с какого года отсчитывать очередное десятилетие, столетие. С того ли, где на конце стоит ноль или же с того, где единица. Думаю, по крайней мере россиянам надо послушаться Петра Первого, повелевшего в свое время: «будущаго Генваря съ 1-го числа настанетъ новый 1700-й годъ купно и новый столѣтній вѣкъ». Тем более это удобно и глазу и мозгу – ноль помогает очиститься, обнулиться.
Поэтому в первые дни 2020 года самое время, перед тем как рвануть дальше, подвести итоги прошедшего десятилетия – десятилетия 10-х.
Ограничусь литературой. На мировую не замахиваюсь – присмотрюсь к русской. И не ко всей, а лишь к так называемой художественной прозе. Что было замечательного, какие тенденции, на мой взгляд, прослеживаются, какие параллели напрашиваются…
Человеческий календарь, это, конечно, условность. Природа живет по своему календарю, да и общество вроде бы не должно в своем движении опираться на годы и десятилетия. И если кто-то заявит: «С такого-то первого января начинаем жить так-то и так-то», – вряд ли его послушают.
С другой стороны, есть рубежи и вехи, часто совпадающие с календарными таблицами. И развитие литературы здесь не исключение.
Наступление 1990-х в литературе совпали с революционными (резкими, коренными) изменениями в общественно-политической жизни страны. Естественно, литература изменилась – мейнстримом стало то, что совсем недавно находилось в андеграунде. Начался карнавал слов и смыслов, экспериментов, бесконечных вариаций историй про Золушку, богатырей, Кащеев; прошлое высмеивалось и отменялось… Позже этот период получил название «десятилетие постмодернизма».
Из «серьезного», повествующего о позднесоветском и раннем постсоветском времени, вспоминаются из 90-х единичные произведения: «Время ночь» Людмилы Петрушевской, «Рождение» Алексея Варламова, произведения Бориса Екимова и Олега Павлова, «Дурочка» Светланы Василенко, несколько рассказов Валентина Распутина…
Предновогодний день 1999-го ознаменовался приходом нового, в то время молодого, президента, который очень быстро дал понять, что во всех отношениях настроен всерьез. В 2000-м появилась премия «Дебют», в 2001-м возник Форум молодых писателей. Благодаря им оказалось, что в России немало двадцати-, тридцатилетних, что пытаются писать о серьезном и всерьез.
Десятилетие прошло под знаком слова «новое» – «новый реализм», «новая искренность». Вошел в литературный обиход термин «человеческий документ»; на страницы журналов, в книжный рынок вернулась социальность. Даже постмодернизм стал крениться к ней: легко сравнить «Чапаев и пустота» (1996) и, на мой взгляд, подытоживший (пусть на скорую руку) 90-е «Generation „П“» Виктора Пелевина; вымученное «Голубое сало» (1999) и свежий, по-настоящему злой «День опричника» (2006) Владимира Сорокина; Борис Акунин, автор развлекательных детективов из дореволюционных времен, ровно в 2000-м вдруг выпустил социально острый сборник «Сказки для Идиотов»…
Нельзя не отметить и волну антиутопий («Эвакуатор» и «ЖД» Дмитрия Быкова, «Маскавская Мекка» Андрея Волоса, «2017» Ольги Славниковой, «2008» Сергея Доренко, «Джаханнам» Юлии Латыниной, «Учебник рисования» Максима Кантора, «Россия: общий вагон» Натальи Ключаревой и так далее). Волна эта захлебнулась как раз в конце десятилетия…
Под каким же знаком прошли 2010-е? Мой ответ ясен уже из названия этой заметки. Попытаюсь обосновать.
Нынче почти не употребляется слово «сочинитель», очень редко всплывает «беллетристика». Почему? Беллетристика, строго говоря, это вся непоэтическая художественная (изящная) литература. Ничего обидного в этом слове как бы нет.
Но еще при Белинском и особенно при Писареве критики начали делить такую литературу на прозу и собственно беллетристику. Деление это до сих пор довольно условно, четких критериев не найдено (да и вряд ли когда либо они найдутся), хотя стало принято называть беллетристикой прозу некоего второго сорта, призванную больше развлекать, чем заставлять думать и сочувствовать, а прозу первого сорта – «серьезной литературой».
Для меня в слове «беллетристика» ничего уничижительного нет. Но под ней я понимаю ту прозу, где в достоверность происходящего мне не верится, где больше фантазии автора, чем реальной, документальной основы. Где автор видит главной целью именно изящность.
Конечно, фантазия – понятие широкое, и без фантазии трудно составить даже заявление в какое-нибудь учреждение, а тем более написать мемуары, художественное же произведение попросту невозможно. Дело, наверное, в дозировке фантазии, в ее свойствах. (Некоторые книги Беляева, Ефремова, Стругацких, отнесенные к фантастике, для меня – реализм.)
Наверное, много значит язык, интонация произведения. В прозе, как мне кажется, он не то чтобы более сложный, а – серьезный. С первого абзаца читатель должен понять, что дальше его будут не столько развлекать, сколько делиться сокровенным и важным. Лезть читателю в душу. Беллетристика как правило в душу не лезет, она нацелена на другие органы…
И в 1990, и в 2000-е, ее, беллетристики было куда больше авангарда, постмодернизма, нового реализма, человеческих документов. Ее, наверное, больше всегда. Дело в качестве. И 2010-е продемонстрировали, что качество русской беллетристики стало очень высоким.
На заре десятилетия вышел роман Дмитрия Данилова «Горизонтальное положение» – пиковое и одновременно итоговое произведение нового реализма. Дальше по этому пути двигаться уже, кажется, некуда. (Хотя движение продолжается, но это движение скорее по кругу, что, к сожалению, демонстрируют новые повести и рассказы Ильи Кочергина.)
Сами новые реалисты в большинстве своем переключились на поиск других путей: «Черная обезьяна» Захара Прилепина, в которой примерно поровну новой искренности (сцены героя в родной квартире) и беллетристики (новеллы о недоростках, секретная лаборатория), затем полностью беллетристическая «Обитель», «1993» Сергея Шаргунова, «Бета-самец» Дениса Гуцко, «Голомяное пламя» Дмитрия Новикова, всё более участившиеся заходы в фантастическое и фэнтезийное Андрея Рубанова, Германа Садулаева…
Я не утверждаю, что это плохо. Но. Но в происходящее в этих книгах не очень-то – или совершенно – не верится. Я восхищаюсь уму, эрудиции, таланту Германа Садулаева, но его «Иван Ауслендер», по-моему, абсолютно сочиненная книга. И некоторые шрихи узнаваемых реалий ее только портят. Или Артем Горяинов из прилепинской «Обители» – это ведь очевидно сочиненный автором персонаж. Такие – сочиненные – книги о сочиненных людях читаешь иначе, чем другие, не сочиненные, или имитирующие несочинение. Какая-то важная жила в организме остается незатронутой, она при таком чтении продолжает спать.
Конечно, всю свою творческую жизнь невозможно не сочинять, имитировать достоверность или хотя бы правдоподобие часто рискованно – выведешь неоднозначного, слабого и порой жалкого персонажа и читатель подумает, что ты, автор, сам неоднозначный, слабый и жалкий. Многие с подобных героев начинают путь в литературе, но затем, приобретя известность, вес, уважение, предпочитают героев именно весомых, вызывающих уважение.
Таких, кто бы из десятилетие в десятилетие тянул своего сквозного героя, то смелого, то слабого, то богатого, то нищего у нас сегодня, кажется, нет. За исключением разве что Эдуарда Лимонова. Он в этом десятилетии одарил нас по крайней мере двумя романами про того, кто когда-то был Эдичкой, а теперь стал Дедом, – «В Сырах» и «Дед». Мощные книги.
Нет, кроме Лимонова создает летопись и почти его сверстник (на несколько лет старше) Борис Екимов. Но в центре его летописи не определенный персонаж, а географическая область страны – так называемое Задонье. С начале 1970-х Екимов описывает людей, хутора этого места. Чаще в рассказах и очерках, иногда – в повестях. В 2015-м вышла его «Осень в Задонье» – потрясающая по своей художественной силе и реалистичности изображения. Беллетристикой ее называть никак не получается. Проза, настоящая русская проза…
Вернулись во второй половине 2010-х к тому методу, что принес им первую известность, Сергей Шаргунов в аккуратной повести «Правда и ложка» и Захар Прилепин в сборнике рассказов «Семь жизней» и романе «Некоторые не попадут в ад». Прилепинский герой буквально исходит желанием выглядеть сильным, брутальным, значимым, успешным, и окружающие этого героя, порой по статусу более значимые, рисуются слабоватыми, глуповатыми, растерянными, а незначимые так и вовсе ничтожными. В рассказах (за исключением «Ближний, дальний, ближний», который заставляет вспомнить о Прилепине времен «Саньки», «Греха»), это выпяченное желание героя приводит к комическому эффекту, а в романе вызывает потребность держаться от такого человека подальше. Но тем не менее это герои живые, я встречаю таких в реальности всё больше. И комических, и пугающих.
В начале 2010-х вдруг к достоверности обратился Михаил Елизаров, один, пожалуй, из самых главных и талантливых затейников в нашей литературе нулевых (Сорокин и Пелевин того времени оказались по сравнению с ним молодящимися пенсионерами).
В статьях и интервью Елизаров и в нулевые был социальным, реалистичным, а в художественных вещах, этого изо всех сил сторонился. Но в сборнике «Мы вышли покурить на 17 лет», видимо, решился преобразить свои сокровенные мысли, впечатления, воспоминания в художественную форму. Получилась пронзительная, вызывающая острое сочувствие книга.
Неожиданно появился повествователь-автор у Леонида Юзефовича. Он уже возникал в книгах об Унгерне, Пепеляеве, но там был нейтральным исследователем прошлого, а в рассказах, составивших первую часть сборника «Маяк на Хийумаа», повествователь фигура более чем неоднозначная. Он признается о своих ошибках в исторических книгах и пытается их исправить посредством написания этих самых рассказов. Нечто новое в нашей литературе…
Это скорее исключения, основной же поток – сочинительство, беллетристика. И, повторюсь, в целом очень высокого уровня.
Романы Сергея Самсонова, «Кровь и почва» Антона Секисова, «Завидное чувство Веры Стениной» Анны Матвеевой, книги Юрия Буйды, Дмитрия Быкова, Александра Проханова, Алексея Иванова, Дины Рубиной, Алексея Слаповского, «Оскорбленные чувства» Алисы Ганиевой, «Текст» Дмитрия Глуховского… На несколько страниц может развернуть список тех авторов, чьи произведения можно почитать и получить удовольствие.
2010-е дали нам два новых, и сразу ставших огромными, имени. Евгений Водолазкин и Гузель Яхина. Оба, конечно, сочинители. Не могу представить человека, который бы утверждал, что воспринял «Соловьева и Ларионова», «Лавра», «Авиатора», «Зулейха открывает глаза», «Дети мои» как реальные истории из реальной жизни. Естественно, это плод вымысла авторов. Но авторов талантливых, умных, образованных, серьезно готовившихся к написанию произведений. А исторические неточности, фантастические допущения, логические сбивки – умышленны. (Думаю, и ляпы Елены Колядиной в безбашенном «Цветочном кресте» неслучайны.)
По-новому предстала в 2010-х Ольга Славникова. Два ее романа этого десятилетия – «Легкая и голова» и «Прыжок в длину» – совершенно непохожи, в первую очередь, стилистически, интонационно, на вещи 90 и 00-х. Эти романы огромны по объему, но читаются необычайно легко, они увлекательны. И в то же время ты понимаешь, что сюжеты их – сконструированы автором, таких героев не может быть в природе. Ты постоянно помнишь, что они сочинены, а вот, например, роман «Один в зеркале» словно подсмотрен нами; подсматривать за героями книги тяжело, иногда скучновато, но любопытство, некое другое любопытство, отличное от увлечения, заставляет продолжать. Доподсматривать – дочитать до конца.
Иначе стала писать и Анна Козлова. Раньше создавалось впечатление, что пишет она о себе и своих близких. Пишет беспощадно, зло, шокирующе. Беспощадность никуда не делась в ее романах 2010-х – «F 20» и «Рюрике» – а вот степень достоверности стала куда слабей. Зато усилилась изящность…
Опять же оговорюсь: я не считаю сочиняемость однозначным минусом. Быть может, художественная литература вообще не должна быть достоверной. Не исключено, что достоверность, подобие реальной жизни, это нарушение какого-то правила, аморальность. Может быть, те кто упорно пишет «как в жизни» интересны и нужны узкому кругу чудаков, не понимающих, что такое художественная литература.
Авторы сочиняющие куда успешней, у них во много раз больше почитателей, об их книгах есть что сказать критикам и обозревателям. Там, в их произведениях, куда больше смыслов, ума, реализованных возможностей. В конце концов, у них есть именно Автор (да, с большой буквы), а не человек, обладающий некоторыми писательскими способностями, решивший рассказать историю, приключившуюся с ним или с его знакомыми. Или со страной…
Когда я начинаю писать подобные тексты, мне часто попадаются на глаза умные мысли писателей разных эпох и народов. И вот в этот раз я зачем-то снял с полки тощий томик Эдгара По и открыл буквально на той странице, где были слова:
«Есть темы, проникнутые всепокоряющим интересом, но слишком ужасные, чтобы стать законным достоянием литературы. Обыкновенно романисту надлежит их избегать, если он не хочет оскорбить или оттолкнуть читателя. Прикасаться к ним подобает лишь в том случае, когда они освящены и оправданы непреложностью и величием истины. Так, например, мы содрогаемся от „сладостной боли“, читая о переправе через Березину, о землетрясении в Лиссабоне, о чуме в Лондоне, о Варфоломеевской ночи или о том, как в калькуттской Черной Яме задохнулись сто двадцать три узника. Но в таких описаниях волнует сама достоверность – сама подлинность – сама история. Будь они вымышлены, мы не испытали бы ничего, кроме отвращения».
Прокомментировать конгениально это высказывание я не способен, но чувствую, что оно здесь необходимо.
Чего ждать в будущем? Будущее непредсказуемо, как известно. Мне кажется, что сочинительство продолжит главенствовать в нашей литературе и в следующем десятилетии. Наверняка будет развиваться, порождать жемчужины… Все-таки тридцать лет, когда русская литература живет относительно свободно, когда автор волен писать в каких угодно формах, именно сочинять (в советской литературе особенно увлекаться сочинительством не рекомендовалось), срок в историческом плане небольшой. Быть может, вскоре мы обнаружим новых Тургеневых, Лесковых, Писемких, Гончаровых, а может, и Достоевских с Толстыми.
Кстати, под конец десятилетия вышел толстенный текст (вряд ли роман в строгом смысле слова) Михаила Елизарова под названием «Земля». Кажется, это «Клим Самгин» нашего времени. Тем более что автор обещает продолжение…
Есть некоторая надежда на писательские объединения. Не так давно появились «новые традиционалисты», «активные реалисты». Не исключено, что внутри этих или других групп созреют новые идеи, изобретутся новые формы. А их сегодня недостает.
В ноябре-декабре я прочитал две необычные книги: «Срок – сорок» Петра Разумова и «Ода радости» Валерии Пустовой. Может быть, именно такую форму стоит называть словом «проза»?
Январь 2020
Поэт русской прозы
15 января исполнилось 95 лет со дня рождения Евгения Носова, замечательного писателя, чьи произведения, к сожалению, ныне почти забыты.
Время выветривает культурные слои. Остаются крохи, считаные имена. Одни увековечены благодаря великому и яркому таланту, другие из-за необычной биографии, третьим помогло везение…
Евгений Носов был человеком скоромным, произведения его не порождали скандалы, ажиотаж, не запрещались. Для исследователей Носов – фигура неинтересная. А именно исследователи, занимающиеся не столько творчеством писателей, сколько их биографиями, формируют пантеон классиков.
Евгений Носов – классик. Но классик тихий и почти незаметный.
Его причисляют к писателям-фронтовикам, писателям-деревенщикам. Да, он был и тем, и тем, но описанием сражений не отметился, деревенскую цивилизацию городской не противопоставлял, заявлений – ни художественных, ни публицистических – не делал. На протяжении почти полувека Носов пытался запечатлевать мгновения окружающей его жизни. И делал это в прозе, по-моему, как настоящий поэт.
Вот из его рассказа «Варька»:
«Озеро простиралось в темной раме вечерних сумеречных берегов. Плотной стеной темнели по сторонам камыши, чернела причаленная Емельянова лодка, чернели верши, выброшенные на сухое, и только сама вода была еще светла. Лежа на спине на середине озера, Варька не замечала ни берегов, ни обступивших камышей, она видела только небо, огромное и высокое, кажущееся особенно высоким теперь, вечером, когда только в самой безмерной его глубине, на неподвижно замерших кучеряшках облаков еще розовел свет давно угасшей зари. И еще видела она воду, начинавшуюся у самых ее глаз. Зеркально ясная гладь озера, чуткая ко всему, что простиралось над ним, была заполнена подрумяненными облаками и уже не казалась озером, а таким же, как и небо, бездонным пространством, и нельзя было сказать, где кончались настоящие облака и где было только их отражение. Два мира, вода и небо, охваченные вечерним задумчивым покоем, где-то за пределами Варькиного зрения слились воедино, и ей стало радостно и жутковато вот так, одной, недвижно парить в самой середине этой сомкнувшейся светлой бездны, и снизу и сверху заполненной облаками».
Евгений Носов писал в основном рассказы – жанр стержневой в русской литературе, но традиционно неуважаемый критиками. Им негде разгуляться, не над чем поразглагольствовать. И чем тоньше рассказ, тем меньше откликов он получает. Это можно заметить по произведениям Чехова – о проблемных рассказах критики писали обильно, а вроде бы бесконфликтные, но глубоко трагичные, лирические – не замечали.
У Носова нет закрученных сюжетов, выпяченных конфликтов. Он замечает еле уловимые вибрации души, настроения, часто описывает «пустяки», но те «пустяки», из которых состоит наша жизнь. Вот одно из редких его признаний, вкропленное в рассказ «Во субботу, день ненастный»:
«Шагая по мокрой траве к селу, я вспомнил, что уже давно не писал о таких вот милых пустяках. И вообще хотелось написать что-нибудь простое, бесхитростное, ни на малость не вмешиваясь в течение жизни… написать так, как было, как будет, как виделось, без привиранья и лукавства».
В восемнадцать лет Евгений Носов ушел на фронт. В феврале 1945-го под Кёнигсбергом был тяжело ранен, и вернулся домой, в село Толмачёво под Курском, двадцатилетним инвалидом.
Сначала стал художником-оформителем, потом появилась тяга писать прозу. В этом деле он и нашел себя. И посвятил свой талант воспеванию природы, людей. Но пел не дифирамбы, а негромкие, иногда слегка грустные песни. Песни-рассказы.
Наверное, как всякий художник слова, он не переносил реальность на бумагу один в один. Да это и невозможно. Но нарочитой недостоверности, фонтанирующего вымысла в его произведениях не встретишь.
Многим, знаю, скучно читать книги без этих фонтанов. Но у Носова есть другое: поэтичность прозы. Читать его рассказы лучше вслух, и тогда можно услышать музыку звуков, слов, предложений.
Вот из рассказа «Шумит луговая овсяница»:
«Останавливались на самом берегу, глушили тракторы, в тени лозняков распрягали лошадей с темными пропотелыми холками, засыпали им вдоволь полные телеги свежескошенной травы, по которой еще прыгали кузнечики, а сами, изголодавшись на своих хлебных увалах по вольной воде, лезли в Десну. Гулко бухались с глинистого уреза парни, выныривали, мотая головами, стирая с глаз прилипшие волосы, блаженно отфыркиваясь. Девчата визжали от ласки воды, неистово колотили ногами, выбрызгивая белые пузыристые столбы, полоумно шарахались от змеиных извивов водорослей, и растревоженная Десна била маслянистыми зелеными волнами в берег, качала и рвала на осколки опрокинутое в реку солнце.
А на мелком, присев на край и сперва испробовав воду вытянутой ногой, перекрестясь, сползали на костлявых задах в реку старики, бледнотелые, с темными, непомерно большими кистями рук и темными, будто из другой кожи, шеями. У иных на синеватой ребристой наготе багрово проступали старые солдатские отметины».
Какая завораживающая интонация! И какая плотность поистине художественных деталей – свежескошенная трава, по которой еще прыгают кузнечики; прилипшие волосы именно «стирают с глаз»; «ласка воды»; змеиные извивы водорослей; волны рвут на осколки опрокинутое в реку солнце; шеи, «будто из другой кожи»; «старые солдатские отметины» – зарубцевавшиеся раны.
Да, войны как таковой у Носова в прозе почти нет. Но почти в каждом произведении слышны ее отзвуки, герои – победители в той войне – навсегда физически или душевно ею искалечены… Пожалуй, центральный его рассказ «Усвятские шлемоносцы» – о проводах на войну мужчин-крестьян. Большинство остальных о тех, кто с той войны вернулся. Немногие. И сам автор – один из немногих, чудом выживший. И он смотрит на мир как на чудо, отмечая каждый штришок, каждую мелочь…
После 1980-х книги Носова стали издаваться редко, да и не привлекали массового читателя своими названиями. Он не умел или не хотел изобретать заманчивое; называл просто: «В чистом поле», «Вечерние стога», «Белый гусь», «Яблочный спас»…
В 2001 году Александр Солженицын удостоил Евгения Носова, о котором не раз писал и которому выражал свое уважение, премией. Это стало последним проявлением признания таланта большого и честного русского писателя. На следующий год Евгений Носов умер на родной Курской земле.
Тут хочется добавит: но произведения его не умрут. Как знать, как знать. Всё зависит от нас, читателей.
Январь 2020
Объективный реалист
Чехов… 160 лет со дня рождения, 140 лет первой, документально подтвержденной, публикации. Казалось бы, далекое прошлое, окаменевший классик, книги которого должны зарастать благородной пылью на стеллажах, споры о котором давно стоит прекратить.
А нет – о Чехове спорят с той же горячностью, что и при его жизни, проза, пьесы, письма читаются не только новыми поколениями, но и перечитываются людьми взрослыми, с устоявшимися взглядами и оценками. Перечитываются, знаю, многими каждые несколько лет. И не столько ради удовольствия – а слог Чехове бесподобен, – но и в попытке понять, что именно хотел он сказать.
У русской, да и мировой художественной литературы, главная цель – не развлечение читателя, а выражение идеи. И писатель, захваченный ею, пытается донести ее до общества. Помочь ему найти и достичь идеал.
Конечно, в процессе писания и идея, и идеал зачастую видоизменяются, бывает, автору становится близка другая точка зрения и он начинает спорить с самим собой посредством героев, но тем не менее причина, заставившая человека взяться за перо, видна и очевидна.
Чехов не вписывается в эту канву. Он писал без идей, у него не было явного посыла читателю, в его прозе и драматургии нет морали… Интересно узнать, как отнеслись бы к нему Тургенев или Достоевский, но, слава богу, было многолетнее знакомство Чехова со Львом Толстым – знакомство, достойное самого пристального исследования.
Впрочем, такое исследование есть – двухтомник Владимира Лакшина, который читается как увлекательный документальный роман. И характерно, что почти каждая встреча двух писателей, очевидно симпатизировавших друг другу, превращалась в ожесточенный спор о смысле литературы, о жизни, бессмертии. Спорили они друг с другом и заочно – в разговорах, письмах третьим лицам.
Чехов не принял идею «Воскресения», Толстой, называя Чехова «большим художником», добавлял – «но все-таки это мозаика, тут нет руководящей идеи» – и пытался выдумать идею за него, например, в послесловии к посмертному изданию чеховского рассказа «Душечка».
Современные Чехову критики так и вовсе были в замешательстве, которое переходило в негодование: «Пишет холодной кровью!», взрывалось вопрошанием: «Есть ли у господина Чехова идеалы?»
После появления «проблемных» произведений вроде «Палаты № 6», «Три года», «Мужиков», «Человека в футляре», «Острова Сахалина» Чехова стали воспринимать как обличителя недостатков и пороков; эта оценка главенствовала и всё советское время. Чехов, казалось, в полной мере показал готовую к революционным изменениям страну. Страну, томящуюся по этим изменениям.
С точки зрения социологии, это, быть может, верно. Но почему он, за исключением разве что Нади, героини рассказа «Невеста», последнего его рассказа, никому не дал сделать шаг к «новой, ясной жизни»? Да и получится ли у Нади закрепиться в ней – вопрос.
«…На другой день утром простилась со своими и, живая, веселая, покинула город, – как полагала, навсегда». Этим «как полагала» автор словно намекает, что не все в ее судьбе определилось.