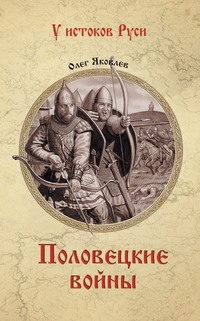
Половецкие войны
…Ох и трудна задача! Невесть сколько сил и сколько лет отнимет она! Но, что бы там ни было, должен он, князь Владимир Мономах, свершить задуманное, должен объединить Русь для борьбы с половцами, пресечь крамолы[38], убедить князей в важности соузов, пусть сперва токмо ратных. Тогда добудет он славу – и себе, и земле своей, и своему времени.
В эти мгновения окончательно понял Владимир: вот он, способ искоренения крамол, который столь тщетно отыскивал без малого пятнадцать лет его покойный отец.
Глава 3. «Тамо видно будет»
В горнице киевского дворца в изразцовой печи полыхал огонь. Неровные переливчатые отблески выхватывали из темноты часть стены с майоликовыми[39] щитами и скрещёнными мечом и секирой. На столе горела толстая пудовая свеча. Мрачный Святополк, понурив голову, в тяжком раздумье опустил взор долу. Напротив него – две маленькие девочки-дочки, Сбыслава и Предслава, отроковицы одиннадцати и шести лет, обе с заплаканными глазами, тихие. Здесь же на скамьях в чёрных траурных одеждах сидели ближние бояре.
К свалившимся на голову новоиспечённого киевского князя бедам на прошлой седмице добавилась ещё одна: умерла жена, Лута, дочь чешского князя Спитигнева[40]. Немолода была, превосходила своего супруга летами, в последнее время сильно хворала, но всё же смерть подкралась к ней как-то вдруг, внезапно. Вот вроде ещё недавно сидела Лута рядом с ними за столом, радовалась мужним успехам, а ныне…
Одно-единственное утешение находил Святополк, когда по долгим теремным переходам пробирался на самое верхнее жило[41] дворца. Там обитала его наложница – чудинка[42], мать двоих княжеских сынов – Мстиславца и Ярославца. Детьми она не занималась, переложив все хлопоты о них на плечи кормилиц. Даже сказала единожды Святополку о только-только родившемся Ярославце:
«Робёнок сей – токмо твой. Мне он не нужен. Хочешь – оставь себе, хочешь – скорми собакам».
Красивая баба чудинка, и прикипел к ней Святополк. Не то чтобы влюбился по уши, но вот словно приворожила его к себе белокурая бестия, умела и приголубить когда, и отдаться со всей своей страстью, а в постели вытворяла такое, о чём ранее Святополк и слыхом не слыхивал.
Правда, что касалось Мстиславца, то закрадывались у Святополка сомнения, его ли то сын. Ведь до встречи с ним, верно, не с одним отроком или сынком боярским предавалась в Новгороде сия чудинка блуду. Да и после, как знать.
Мстиславца отправил Святополк наместником в Берестье[43], тогда как Ярославец сидел сейчас рядом с отцом, посверкивая живыми внимательными глазами на сестёр.
Норов у обоих чудинкиных сынов какой-то дикий, необузданный. То промеж собой подерутся, то учинят драку с боярскими отпрысками. Ярославец давеча сбил во дворе камнем голубя, а после с остервенением топтал его ногами, сапожки тимовые[44] все перемазав птичьей кровью и перьями. Не понимал Святополк, откуда у сына такая жестокость.
Дядька-угорец[45] называл Ярославца – Бесен. Мол, бешеный нрав у княжича. Девять годов сыну. Пора бы и о невесте думать. Вёл Святополк переговоры с угорским королём Ласло, благо была у короля маленькая дочь Аранка.
Нынче чудинка оделась скромно, в платье чёрной тафты, и сама хлопотала на поварне у печи, не доверяя служанкам готовить поминальный пирог. К столу, однако, не подошла, видно, понимала, что лишняя здесь.
Ярославец неспешно, с аппетитом уплетал рыбную кулебяку, хлебал наваристые щи. Святополк ел нехотя, девочки же почти не притрагивались к пище.
Уже когда сели за стол, явилась вся в чёрном мать Святополка, княгиня Гертруда. Редкой гостьей была она в доме у сына, с покойной Лутой они друг дружку едва переносили, но такое событие семидесятилетняя вдова пропустить, конечно, не смогла.
Святополк угрюмо оглянул сидевших на скамьях ближних бояр в тёмных одеждах, дочерей, сына, мать и тяжко вздохнул.
«Ну и семейка у меня! Чёрт-те что! Один ентот Бесен чего стоит! В мать мою – вот в кого, верно, выдался! Эх, относить бы траур да заполучить в жёны какую-нибудь высокородную королевну или царевну. Рожала бы детей».
Кашлянув в кулак, медленно поднялся со скамьи высокий, полный, с широкой окладистой бородой тысяцкий Путята Вышатич.
– Княже великий! Все мы скорбим о кончине благоверной княгини Луты, – начал он осторожно. – Разумеем, тяжко оно. Одно сказать мыслю: какие бы горести ни одолевали нас, но жить тебе, княже великий, дальше и володеть нами. Веруем: пройдёт, схлынет година тяжкая. Нынче, однако, обложили нас со всех сторон половцы поганые. Уж и не ведаем, как от них отбиться. Дак вот: посидели мы, бояре стольнокиевские, да подумали, как землю Русскую от разора оберечь. И порешили… – Он на мгновение умолк, словно собираясь с силами, и продолжил: – У хана главного приднепровских половцев, Тугоркана, аль Тогорты, тако его греки кличут, дочь есть младая. Вот бы…
– Да ты чего, боярин?! – Святополк вскочил со стольца. – Чтоб я, князь владетельный, Премудрого Ярослава внук, на поганинке…
– Охолонь, княже! – довольно резко перебил Святополка старший брат Путяты, старый, седой как лунь, Ян. – Не послухал ты нас, погубил ратников на Стугне, дак топерича[46] неча тут кочевряжиться! Мир с погаными творить надобно!
Опытный воевода, Ян Вышатич пользовался среди киевских «набольших людей» непререкаемым авторитетом и даже князю мог в глаза сказать всё, что думает. И Святополк, лицо которого аж перекосилось от злобы, сдержался, стиснув кулаки.
Поднялся смуглолицый Иванко Захариич Козарин, служивый иудей, ныне один из главных киевских воевод. Старый приятель Святополка, он сказал мягко, лукаво подмигнув князю чёрным глазом:
– Женитьба твоя, великий княже, мера вынужденная, чтоб Тогорту утишить. А потом, после, минует лето-другое, оно и видно будет, как нам поступить.
Намёк лукавого иудея Святополк отлично понял. Ещё даже ни разу не видав дочь хана, он уже возненавидел её.
– Дочь ханская и крещение святое примет. Получит имя христианское. Как иначе? – веско добавил высокий и худой Переяславский епископ Ефрем, после смерти митрополита Иоанна бывший Местоблюстителем престола.
Один за другим вставали бояре, говорили о важности перемирия с половцами, и Святополк, уже согласный с ними, лишь обречённо вздыхал.
– Будь по-вашему, – наконец вымолвил он тихо и добавил уже громче: – Послами и сватами к половцам поедут Иванко и Коницар. Я же… слёзы мои ещё по почившей княгине не высохли. Оставьте меня.
Князь решительно встал со скамьи. Один за другим бояре отвешивали ему поклоны и скрывались в переходе. Проводив взором последнего, Святополк устало плюхнулся обратно на скамью.
– Тамо видно будет, – пробормотал он, через силу улыбнувшись сыну.
Мать, Гертруда, неожиданно взвилась:
– А что, сыне, лучше с сей чудинкой чумазой, с девкой блудной жить тебе и байстрюков[47] плодить?! – крикнула она.
Дочь польского князя Мешко Второго[48], отличалась Гертруда буйным нравом. Бесена и брата его знать не хотела, зато в обеих внучках души не чаяла.
– Довольно, мать! – огрызнулся Святополк. – Сказал уже: тамо видно будет.
– Гони прочь блудницу! Стыд-позор! Владетельный князь, и живёшь бог весть с кем! – продолжала гневаться, раздувая ноздри своего острого носа, Гертруда.
– Не твоего ума дело, с кем я тамо живу! – Святополк зло скрипнул зубами. – Сама не ангел! Не в том забота наша нынешняя. С погаными умириться надобно.
Он обвёл взором притихших дочерей, сына и снова тяжело вздохнул.
Глава 4. Союзники и враги
Шуршали под копытами скакунов высокие сухие травы. Скрипели возы, лязгало железо. Святополк во главе отряда дружины медленно ехал вдоль берега Днепра. Позади осталось устье злосчастной Стугны и валы Триполья над нею, по пути чередой шли пустые, спалённые половецкими ордами сёла, пахло гарью. Над пепелищами зловеще кружили хищные птицы. Святополк стискивал в злобе зубы, терпел. Ехали молча, держались насторожённо, опасаясь нежданного нападения. Но вокруг было тихо. На сей раз, видимо, Тогорта и его приближённые действительно решили уладить дело с киевским владетелем миром.
Наконец вдали запестрели шатры и юрты. Святополк велел своим воинам остановиться и разбить стан на круче над Днепром. Поскакали в обе стороны гонцы.
И вот он уже сидит в огромном шатре напротив хана и бросает на него короткие взгляды исподлобья. Тогорта, светловолосый и голубоглазый «белый куман», худощавый, свирепого вида, с выдвинутой вперёд нижней челюстью и рассечённой надвое губой, медленно, небольшими глотками пил из оправленной в золото чаши кумыс. Хану было шестьдесят пять лет, уже многие годы возглавлял он приднепровские кочевья половцев. По правую руку от него сидел его старший сын, такой же худой, с резко выступающим кадыком на тонкой шее. По другую сторону от Тогорты удобно устроился на кошмах, скрестив под себя ноги, молодой половец с правильными чертами лица, смуглолицый и большеглазый. Единственное, что портило его лицо – это несколько гнойных язв и струпьев на щеках.
«Боняк! Шелудивый Боняк! Первый соратник Тогорты! Глава племени Бурчевичей – Волков!» – понял Святополк, через силу любезно улыбаясь.
Вместе с ним улыбались Иванко Хазарин, Коницар, Путята и другие ближние люди князя. В свою очередь, расплывались в улыбках солтаны, беки, беи[49], окружавшие Тогорту и Боняка.
Раньше половецкие орды часто враждовали друг с другом, у них не было постоянных мест кочевания, они без конца перемещались по огромным пространствам причерноморских степей, лишь на время разбивая в удобных местах свои становища. Но в последние времена всё изменилось, земли были поделены между отдельными ордами и племенами, появились постоянные зимовища, возникали в степи города. Мелкие орды объединялись между собой, сплачивались вокруг наиболее сильных ханов, на смену стычкам с русскими дружинами на пограничье пришли крупные разбойничьи набеги. Половцы становились всё более опасным врагом для Южной Руси. Это начинал понимать и Святополк, доселе полагавший, что имеет дело с толпой слабо организованных дикарей. Но всё же нынешние переговоры представлялись делом крайне унизительным для него, русского князя.
Ханам преподносились дорогие подарки, оружие, узорочье, изделия из серебра и золота. Тогорта и его соратники удовлетворённо кивали головами, один Боняк своим видом показывал равнодушие ко всему, что происходило вокруг. Святополку казалось, что этот молодой хан не сводит с него своих недобрых чёрных глаз, в которых словно вспыхивают временами молнии жгучей ненависти.
– Ты хорошо сделал, каназ, что заключил с нами мир, – говорил Тогорта, отхлёбывая кумыс и лукаво посмеиваясь.
Был роскошный пир, лилось вино, подавались обильные яства. Молодые половчанки, тонкостанные, красивые, с неизменными заискивающими улыбками на лицах, подавали кушанья. Иванко Захариич, хорошо знавший половецкую речь, взялся толмачить и бойко переводил слова хана плохо понимающему молвь степняков Святополку.
– Сейчас ты увидишь свою невесту, каназ! – объявил наконец Тогорта. – И знай: моя дочь – не просто красавица! Она побывала в бою, владеет саблей и стреляет из лука лучше любого батыра!
«Верно, и наших ратников там, на Стугне, разила, тварь, – со злобой подумал Святополк, проникаясь к этой совсем незнакомой ему девушке ещё большей ненавистью. – Ничего, ничего, князь! – попытался в мыслях он ободрить сам себя. – Всё это пройдёт! Даст Бог, будет у тебя и княгиня достойная, и чада. В сорок три года ничего ещё не потеряно».
Приложив руку к сердцу, он по-прежнему улыбался через силу и говорил, что обязуется дружить с ханом и его ближними людьми.
– Хочу иметь дружбу со столь доблестным воином, как ты, о хан! Вместе мы сокрушим всех наших врагов. И с тобой, отважный Боняк, я тоже буду пребывать в мире и союзе.
Тогорта и его сын в ответ сыпали слова с заверениями мира, Боняк же молчал, поджимая губы.
«А этот ворог более страшный и опасный, чем все остальные», – успел подумать Святополк, прежде чем Тогорта громко хлопнул в ладоши.
В шатёр вступила, закрывая лицо широким рукавом цветастого платья, молодая девушка. Вначале она немного оробела, но затем опустила руку.
– Айгюн! Любимая дочь! – принялся хвастаться Тогорта. – Её имя означает «Лунный день». Посмотри, каназ, как она красива!
Дочь Тогорты была довольно хороша собой, но назвать её красавицей можно было едва ли. У Айгюн были круглые щёки и широкий вздёрнутый нос. Глаза и волосы у девушки были светлые, вообще она сильно походила на отца.
«Подсунул худой товар, гад!» – Святополк снова через силу улыбался, прикладывал руку к сердцу, говорил о дружбе и союзе.
После долгих пиров русы отправились в обратный путь. Айгюн отказалась ехать в возке и взобралась на коня. Вместо дорогих платьев стан её облегла дощатая бронь, вместо убруса на голове красовался воинский шелом.
– На рать, что ли, собралась? – спросил через Захариича Святополк, подозрительно оглядев боевой наряд невесты.
– Я не доверяю тебе, каназ Свиатоплуг! Ты – враг моего отца! Сердце говорит мне, что твои слова о дружбе полны лжи и обмана! – нехотя перевёл слова девушки Иванко Козарин.
За весь дальнейший путь до Киева князь не обмолвился с невестой ни единым словом. В стольном же ханскую дочь сразу обступили попы и монахини и стали готовить её к скорому таинству крещения.
Святополк после короткого молебствия в соборе Софии поспешил на верхнее жило своего терема. Утопая в жарких объятиях любимой наложницы, он жаловался:
– Бог на меня прогневался, милая! Послал мне испытание тяжкое! Ненавижу, ненавижу сию поганинку! Изведу её, дрянь!
Чудинка ласково проводила ладонью по начинающим седеть волосам князя, огладила его долгую узкую бороду, грудным нежным голоском проворковала:
– То ничего, княже! Я ить у тя есь!
В объятиях красивой наложницы отходил Святополк от ненависти и злобы. Хотелось ему запереть дочь Тогорты где-нибудь в покое (а ещё лучше в келье монастырской) и жить вот с этой женщиной, такой податливой, близкой, готовой простить ему всякое прегрешение. Но, увы, так пока не выходило.
Дочь Тогорты получила при крещении имя Елена. В первую же брачную ночь супруги, вместо того чтоб совокупиться, подрались. Святополк долго старался скрывать у себя на щеке царапины, оставленные острыми женскими ноготками. Верный слуга по утрам смазывал ему лицо густым слоем целебной мази.
…Возвращались после удачных переговоров в свои кочевья и половцы. Ехали, облачённые в калантыри[50] и юшманы[51], чутко прислушиваясь к каждому шороху в степи. Боняк, долго молчавший, подъехал наконец к Тогорте и недовольно проговорил:
– Зачем, хан, отдал ты свою дочь этому урусу? Разве ты не видишь, что он – наш враг, что он просто хочет выиграть время, зализать раны, а потом… Он погубит нашу красавицу Айгюн!
– Ты молод, Боняк, и многого не понимаешь, – кривя изуродованные уста, возразил ему Тогорта. – Да, каназ Свиатоплуг – наш враг, и перемирие с ним – дело нескольких месяцев. Ну, может, двух или трёх лет. Но главный враг кипчаков[52] – не он. Каназ Мономах – вот кто самый опасный из урусов! Выдав Айгюн за Свиатоплуга, я лишил нашего главного врага важного союзника. Теперь я пошлю людей в донские кочевья и подниму в поход на Чернигов солтана Арсланапу и других кипчаков. И мы выбьем Мономаха из этого города и уничтожим его! И посадим на черниговский стол каназа Олега! Он давний наш друг!
– Чтобы разделаться с Мономахом, ты пожертвовал своей дочерью, хан! – зло выпалил Боняк. – Почему не отдал ты её мне?! Ведь мы любили друг друга!
Теперь уже вспыхнул Тогорта.
– Забудь все эти детские игры, Боняк! Что там была у вас за любовь?! Брось! Или тебе мало своих жён! Вон какая у тебя красавица Сарыкиз, моя двоюродная племянница! У неё волосы цвета солнца и глаза цвета неба! Не один кипчак засматривается на неё! И не один урус завидует тебе, хан!
Боняк нехотя прикусил уста.
– Скоро мы пойдём в новый поход на урусов. Пойдёшь со мной? – спросил Тогорта, положив руку в кольчужной рукавице на плечо Боняка.
Молодой хан решительно сбросил её со своего плеча.
– Не пойду! – коротко прохрипел он, круто поворачивая своего мохноногого коня в сторону.
Вечером, когда половцы остановились на отдых, орды Боняка покинули стан Тогорты и ушли за Днепр, в сторону реки Самары.
Глава 5. Помыслы князя Олега
Над степью плыли иссиня-чёрные грозовые тучи, гремел гром, сверкали яркие вспышки молний. Тяжёлые капли дождя падали на сухую, истоптанную лошадьми траву и звонко барабанили по шлемам Олеговых воинов. Ратники хмуро взирали вдаль; где-то там, за холмами и могучими полноводными реками, простирается родная Русская земля, которую многие из них не видели долгие годы. И всё это время окружали их ожесточённые узкоглазые кочевники, жаждущие одного – грабежей, полона, золота.
Князь Олег поднял голову, подставил под дождь бронзовое от загара лицо, снял шелом с кожаным подшлемником и огладил рукой волнистые пепельного цвета волосы.
– Дождь. Первый за всё лето, – хрипло вымолвил он. – Хоть землю освежит.
Молодой хан Сугра, оскалив зубы, указал грязным перстом на небо.
– Ты видишь, каназ, как ветер гонит тучи на землю урусов. Так и мы, кипчаки, пойдём на них, и ты вернёшь себе то, что отняли у тебя твои братья.
Олег равнодушно взглянул на хана. Сколько можно обещать?! Степнякам не надо ничего, кроме военной добычи, кроме невольников, которых затем гонят на продажу на рынки Каффы[53], Сурожа[54], Херсонеса[55], – этим они живут. На него, бедного изгнанника, им наплевать. Пусть себе княжит в Тмутаракани[56], чеканит свои златники и сребреники с надписью: «Господи, помоги Михаилу![57]», строит в Шарукане, главной ставке восточных половцев, деревянный русский терем – какое степнякам до него дело? Нужны деньги, дорогие ткани, изузоренное чеканкой оружие? Нет, этого мало, ханы лишь качают головами и не хотят идти на Чернигов, боятся стремительных ударов конных дружин Мономаха. Луч надежды для Олега забрезжил, лишь когда пришла весть из Киева, что стрый[58] Всеволод тяжело болен и, по всему видно, скоро умрёт. Ханы Шарукан и Тогорта поклялись помочь. А сейчас ещё и этот Сугра, близкий родич Шарукана и, как говорят многие, наследник власти этого старого хана, кочующий со своими ордами на донских берегах, тоже клянётся. Только разве можно верить половецким клятвам!
Олег пребывал в тяжком раздумье.
Вроде всё было у него – и воля, и смелость, и умение ратное, и любила его с молодости дружина, но отчаянно не везло ему в жизни, всюду терпел он неудачи. Не мог, пожалуй, Олег постичь одного для свершения великих дел должна быть у человека великая цель, и вот её-то, этой цели, никогда у него не было – лишь гордость, уязвлённое самолюбие, жажда мести вели его по жизни, и ради мести способен он был поступиться чем угодно. Поэтому, наверное, многие воины, некогда любившие своего князя и готовые в любой миг постоять за него, теперь, как песнетворец Боян, покидали Олега и уходили на Русь, на прощание бросая злые и обидные, как пощёчина, слова:
– Да рази ж ты князь русский?! Половчин ты поганый, ибо супротив земли родной котору измышляешь.
Олега пугали такие прямые, дерзкие, но во многом справедливые речи, он пытался объяснить и воинам, и самому себе (а себе-то прежде всего), что иного пути нет, но на него смотрели с презрением и укором и, вставая, говорили:
– Этак не годится, княже. Прощай.
Что же остаётся ему? Бросить всё и бежать на Русь, ведь он так сильно скучает по ней, по родным местам, по Чернигову, с детства близким его улочкам, площадям, соборам? Ведь он знает и помнит там каждый дом, каждый камень, каждое дерево!
Но вот всплывает в его памяти сначала ссылка на Родос[59], а затем словно выныривают из призрачного тумана лица Всеволода, Святополка, Мономаха – злейших врагов, отнявших у него отцовские земли, и жажда мести и власти подавляет иные чувства и мысли, поглощает всё существо и влечёт, влечёт неостановимо из облитой солнцем Тмутаракани в бескрайние просторы половецких степей.
Да и что Тмутаракань?! Злата, сребра, чтоб чеканить монеты, покуда хватает, а вот земли мало, больших урожаев не соберёшь. Мог бы Олег процветать, мог бы иметь огромные доходы от торговых пошлин, мог бы платить дружинникам звонкие арабские дирхемы[60] и ромейские[61] номисмы-скифагусы[62] с ликами базилевсов[63], да где взять их – поток торговцев с товарами иссяк, как пересохшая речка. Не до торговли стало людям на Чёрном море: под Константинополем[64] рыщут турки и печенеги[65], на Дону половцы, «любезные соузнички», так и ждут, как поедет из Тмутаракани какой купец с товаром – тотчас, стойно волки алчные, кинутся и отберут всё его добро. Поневоле станешь глядеть на Черниговский край – земля жирная, чернозём, пашни сколько угодно, реки полноводны, богаты рыбой, леса с бортями[66] и пушным зверем. Доходы там – не сравнить с тмутараканскими.
Князь с трудом оторвался от невесёлых размышлений.
Засеребрился впереди Донец, на берегу его открылись взору хорошо знакомые земляные укрепления Шаруканя. Олег поторопил своих людей. После долгого утомительного пути ему хотелось, наконец, вернуться в свой свежесрубленный терем… Хотя разве можно считать своей собью[67] то, что столь далеко от Руси, её сёл и городов, от милого сердцу Чернигова?! Что он, князь Олег, имеет здесь, что ему дорого? Да, у него жена-красавица, ромейская аристократка Феофания Музалон, дети, холопы, кони, но более ничего и нет: ни власти, ни уважения, ни славы, ни родины!
Челядинцы кланялись князю в пояс и смотрели исподлобья испуганно и заискивающе.
Навстречу Олегу, громкими возгласами приветствуя отца, выбежали трое маленьких сыновей в долгих белых рубашонках: Всеволод, Игорь и Глеб, очень похожие на свою мать, светлолицые, черноволосые, с большими чёрными глазами. Олег брал их на руки, сажал на плечи и клялся сам себе в том, что дети его получат принадлежащее им по праву – родину их отца, Чернигов. Ради этого стоит претерпевать лишения и, унижая своё достоинство, просить ханов о помощи. Пусть так, чужими руками, руками врагов Руси, но он, Олег, вернёт себе княжеский стол и отомстит. Иначе и жить ему более не к чему.
Глава 6. Сговор
Как только хан Тогорта и солтан Арсланапа спрыгнули с коней, отрок[68] побежал доложить князю Олегу о приезде знатных половцев. Широко улыбаясь и прикладывая в знак уважения руку к сердцу, Олег поспешил навстречу разодетым в богатые ромейские платья гостям. Серые глаза его лихорадочно блестели. Что скажут на сей раз сыроядцы? Дадут ли, наконец, обещанную ему помощь?
Олег пригласил половцев в походную вежу[69]. Челядинец разлил по чашам синеватый кумыс. Тогорта коснулся устами пьянящего напитка, брезгливо поморщился и отставил чашу в сторону.
– Урус не умеет делать кумыс! – Он презрительно скривился.
– Да извинит меня хан. Покуда не научились. Но коль поживём тут ещё лет пять, мыслю, содеем как надоть, – промолвил Олег с заметной издёвкой в голосе. – Токмо сколь же скоро ты, о великий хан, снизойдёшь до моей мольбы?
Тогорта засмеялся, неприятно обнажив редкие зубы.
– Мы с солтаном Арсланапой идём в землю урусов. Дашь золото – посадим тебя в Чернигове. И знай: я всегда держу свои клятвы! Пусть хоть один белый или чёрный кипчак скажет, когда хан Тогорта нарушал своё слово, – я вырву ему его лживый язык! – воскликнул он запальчиво.
Олег закивал головой в знак одобрения, но затем, беспокойно взглянув на внезапно умолкших половцев, спросил:
– И сколько ж ратников у вас?
– Много, каназ, – прохрипел, прокашлявшись, Арсланапа, высокий кипчак примерно равных с Олегом лет, темноволосый и смуглолицый, с лицом, изрезанным рядом глубоких шрамов. – Я их не считал.
– И когда ж мыслите вы выступать?
– Потерпи, каназ. Недолго осталось. Когда наши кони насытятся травой и станут быстры, как ветер в поле, мы сокрушим силу урусов! – хищно осклабившись, ответил Тогорта.
– Знай, каназ, – Арсланапа придвинулся к уху Олега и негромко, почти шёпотом сообщил: – Нет в Чернигове покоя. Мои люди говорят: народ бунтует, тебя хотят на стол. Мономах много людей убил, казнил.
– Вот лиходей! – злобно вскричал Олег, вскочив с кошм. – Ну, я вот ему покажу! Что умыслил! Мирных горожан живота[70] лишать!
Он в гневе потряс кулаком.
– Имей терпение, каназ, – промолвил Тогорта. – Придёт расплата за пролитую кровь.
– Платить как будешь, каназ? – лукаво сощурив узкие рысьи глаза, спросил Арсланапа.
– Злата отсыплю, солтан, – ответил не раздумывая Олег. – Сёла же и деревни окрест Чернигова отдаю вам за помочь[71]. Берите тамо столько добра, сколько захощете.
Арсланапа, не скрывая удовлетворения, заулыбался и закивал.
…На ночном небе уже давно светила луна и тускло мерцали звёзды, а Олег всё пребывал в раздумье, обхватив руками голову. Ну, придёт он на Русь – и что там обретёт, что увидит? Вся жизнь – сорок лет – пролетела столь быстро и столь глупо! Кто он такой? А кем был?