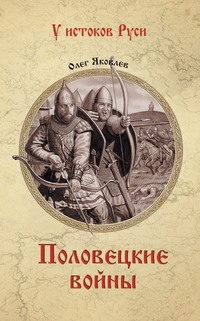
Половецкие войны
Раньше у него был свой дом, своя земля. Был отец, князь Святослав, всегда и во всём ставший ему примером. И его, Олега, Святослав любил паче остальных сыновей, хотя Глеб, Роман и Давид были старше. Это ему был завещан черниговский стол. Давид – всегда спокойный, рассудительный, незлобивый – он бы уступил. Но в единый день всё переменилось. Отец умер, и хитрый кознодей Всеволод, захватив киевский великий стол, прибрал к рукам Чернигов, а он, родившийся и выросший в Чернигове, любимец дружины и горожан, попал в лапы коварных ромеев. Брат Глеб погиб при не совсем понятных обстоятельствах в земле финнов, говорят, расправились с ним новгородские прихвостни Всеволода и Святополка; другого брата, Романа, убили по приказу половецкого хана Осулука, ныне уже также почившего в Бозе. Потом были годы ссылки на Родосе. Всё же он вырвался из полона, но оказался вдруг совсем один, с горсткой верных сподвижников посреди поросшей диким ковылём степи, рядом с немытыми грязными половцами – единственными союзниками в борьбе за отчий стол. Что же дальше? Сердце князя учащённо забилось. Неужели он сможет вернуть утерянное?! Хоть бы поскорей вышли половцы в Русь! А там… Уж лучше погибнуть, пасть в сече, чем до конца дней влачить столь жалкую участь – просить, вымаливать у Тогорты воинов, самому жить в степи, кочевать, подобно дикому половчину! Ни кола ни двора! Хуже, чем у любого смерда[72] на Руси!
Олег велел челядину зажечь свечи, достал лист харатьи[73] и, склонившись над низким походным столиком, стал писать грамоту младшему брату Ярославу в Тмутаракань. Ровными прямыми буквами он старательно вывел:
«Вопрошаю тебя, брат мой Ярослав, как здоровье твоё и как тебе там Бог помогает? Нынче приехали ко мне князья Тогорта и Арсланапа, сказывали, будто скоро пойдут на Чернигов. Потому прошу тебя выслать мне злата, сребра, и ратников добрых пришли такожде. Брат твой Ольг».
Сзади подошёл Арсланапа. Скребя за пазухой ногтями (грызут вши), он наклонился к Олегову плечу и спросил:
– В Таматарху[74] пишешь? Брату?
Олег кивнул и сложил лист вдвое.
– Скажи, солтан, – князь вдруг вздрогнул и резко вскинул голову. – Кто и за что убил брата моего Романа?
– Я не убивал его, каназ. Это Осулук, он убил. Ты хочешь отомстить ему? – Арсланапа натянуто рассмеялся. – Мёртвым не мстят, каназ. Он умер. Ехал, упал с коня в траву. Душа его теперь далеко от нас.
– Что Роман содеял Осулуку худого?
– Не знаю, каназ. – Солтан пожал плечами. – А если бы знал, не сказал тебе. Зачем ворошить прошлогоднюю траву, каназ?
– И вправду. – Олег тяжко вздохнул. – А грамотку сию надоть заутре[75] ж и отослать, – молвил он, подымаясь с раскладного стульца. – Мешкать не стану.
…Утром особо доверенный Олегов дружинник, вздымая пыль на степной дороге, помчал с письмом на юг, в Тмутаракань, где с нетерпением ждал вестей от брата молодой Ярослав.
Глава 7. В осаде
Как всегда, половцы напали внезапно. Оттеснив сторожевые Мономаховы отряды, они прорвались к берегам Выстри[76] и, спалив дотла окрестные сёла и деревеньки, змеёй метнулись к Чернигову.
Город уже давно жил в тревожном ожидании, по приказу князя Владимира все ворота в окольном граде и Третьяке[77] были закрыты, мосты подняты, на заборолах и стрельницах заняли места неусыпные стражи.
Всё новые и новые половецкие орды стекались к берегу Десны, к Стрижени[78], занимали места у Болдиных гор, на курганах и возле Предградья. Дозорные русские воины на башнях, с сокрушением качая головами, подсчитывали число обступавших Чернигов вражьих отрядов. Ветер гнал на город клубы чёрного дыма – немые страшные свидетельства бесчинств степняков в сёлах, которые Олег, как и обещал, отдал на разграбление в награду за «помочь».
Ночью половцы разожгли вокруг городского вала десятки больших костров.
«Утра ждут», – размышлял, стоя на забороле[79], Владимир. Он с тревогой следил за взвивающимися ввысь столбами огня на равнине перед стенами. Помощи ждать ему было неоткуда. Много ратников полегло в несчастной сече на Стугне, а вдобавок Святополк за его спиной сотворил с половцами мир и теперь спокойно выжидает, сидя за киевскими стенами, как будут дальше развиваться события.
«Словно в кольце огненном сидим тут. Может, прорваться испробовать? Сей же час, покуда темень? И что же: отдать Чернигов Ольгу и половцам, отдать на разграбление, отдать задаром?! Идти в Киев уговаривать Святополка помочь? Пустое, он отговорится под любым предлогом. Тем паче что заключил давеча[80] мир с ханом Тогортой и даже взял в жёны его дочь. И разве мне хочется повторять путь покойного отца, когда тот, изгнанный тем же Ольгом, молил о помощи отца Святополка, Изяслава? Нет, биться буду, покуда сил хватит. А после?…Нечего загадывать, на всё воля Божья!»
Князь ещё раз обошёл кругом крепостные стены, подбадривая дозорных, и с беспокойством посмотрел на восток: скоро ли займётся заря.
– Ты б поостерёгся, княже, не ходил бы по стене. Стрела какая шальная прилетит. Пущают они стрелы-то. – Сотник Годин старался прикрыть Владимира щитом.
– Понапрасну за меня не тревожься. Мне на роду написано до ста лет жить, – отшучивался князь. – Да и нощью кто ж стрелять-то будет? Рази полоумный какой. Не видать ведь ничтоже[81].
– Гляди, заря занимается, – указал на небо один из воинов. – Вборзе пойдут, сыроядцы.
Владимир выглянул из оконца бойницы.
Вражий лагерь, до того казавшийся безмолвным, пришёл в движение. Половцы устанавливали на телеги кибитки, тушили костры, садились на коней. Вскоре они, уже готовые к штурму, плотными толпами выстроились на поле, выставив вперёд копья. Куда ни направляли русы свои взоры – всюду, до самого окоёма[82], пред ними представали эти грозно ощетинившиеся копья, которым, как написал бы летописец, «несть числа».
Приняв боевое положение, степняки застыли на месте, придерживая за поводья ретивых скакунов. Вперёд выехал всадник в панцирном калантыре и бобровой шапке. Он остановился возле наполненного водой глубокого рва, задрал вверх голову и, приложив ладони ко рту, закричал:
– Князь Владимир Всеволодович! Князь тмутараканский Олег, сын Святослава, владетель Зихии[83], Матрахии[84] и всей Хазарии[85], предлагает тебе оставить вотчину его, град Чернигов, и уйти со стола отца его с честью. Ни к чему нам здесь проливать кровь!
Владимир подозвал обладавшего сильным голосом Година.
– Ответь: князь Ольг – что разбойник, что тать лихой, пришёл он на землю Русскую с мечом, а потому не княженья он достоин, но презренья и смерти токмо, яко переветник и прислужник половецкий! Пущай ступает он к себе в Тмутаракань, коли кровь лить не жаждет, но не зарится на чужое добро, своё имея!
Получив ответ, гонец повернул коня. Чуть отъехав, он порывисто обернулся, взмахнул копьём и в бешенстве вонзил его в крепостные ворота. Это был знак к штурму.
Половцы, потрясая саблями, копьями, сулицами[86], издали воинственный клич – сурен. Конница резко рванула в галоп. Топот тысяч копыт, усиливающийся с каждым мгновением, заглушил свист и дикий вой, извергающийся из пропитых кумысом глоток.
Владимир громким голосом чётко отдавал распоряжения: подготовить котлы с варом – кипятком, который выливали на головы противников при натиске; дозорным – прикрыться щитами; стрельцам – без перерыва осыпать половцев стрелами.
Вместе с погаными нёсся в атаку и Олег со своей дружиной. В стороне на правом крыле Владимир краем глаза узрел хорошо знакомые по прежним сечам тмутараканские стяги и сверкающие на солнце нагрудные панцири воинов.
Одна часть половцев остановилась у рва и залпами, по взмаху руки своего предводителя – бека Кчия – пускала в защитников крепости стрелы, другая же, во главе с Арсланапой, с ходу ринулась на штурм. Первая попытка не удалась – дальше подножия стен половцы не дошли. Потеряв не один десяток воинов, они откатились назад и изготовились к новой атаке. Несколько степняков смешно барахтались в грязной мутной воде рва и тщетно пытались выплыть.
Дав своим ратникам перевести дух, Арсланапа в ярости хлестнул коня и, подняв вверх саблю, снова повёл их на крепость. Поддерживаемые стрелами товарищей, степняки в нескольких местах подвели к стенам окольного града высокие трёхъярусные осадные башни-туры[87] и прыгали с них на площадки заборолов, где тотчас закипал отчаянный бой.
Вырвавшийся из котлов кипяток несколько охладил пыл свирепых кочевников, но штурм продолжился с новой силой, когда люди Кчия принялись пускать вместо обычных стрел горящие, с пропитанной смолой паклей.
– Княже! На заходней стене пожар! – взволнованным голосом доложил Владимиру подбежавший Бусыга.
– Скорей туда! Показывай, где! – Князь стремительно перебегал по узким и коротким лестницам из башни в башню.
– Оберегись! – кричал, спеша за ним, верный Годин.
Вся западная стена была в дыму. Как могли, дружинники тушили огонь, но половцы, увидев пламя, ещё более ужесточили натиск. Снизу доносились мерные удары пороков[88], совсем рядом с Владимиром свистели стрелы. Князь не обращал на них внимания, словно не понимая, что любое мгновение может сейчас стать для него последним.
Годин решительно загородил Владимира щитом.
– Покличь ратников со Стрижени, от Восходних ворот! – приказал князь Бусыге. – Шли гонца, не стряпая![89]
Стрелы одна за другой вонзались в щит, которым Годин прикрывал князя.
– Ступал бы, княже, в стрельницу! – кричал дружинник. – Не ровён час, убьют, супостаты, а ты нам нужен, вельми ну…
Договорить Годин не успел. Половецкая стрела пропела в воздухе, пробила кольчугу и вонзилась ему в грудь. Взмахнув руками, Годин медленно осел, словно удивлённый случившимся, и припал к стене заборола.
– Что с тобой?! – испуганно воскликнул Владимир.
– Ничего, княже… Оцарапался малость. Ты не гляди на мя – гляди на сечу. А я… Посижу тут… Немного… И отойду.
Издав глухой стон, Годин повалился набок и бессильно поник головой.
– Боже! Годин, очнись! Не верю очам своим! С тобою прошли мы от младости до седин, всюду вместе были, а ныне вот… – Князь в отчаянии закрыл лицо руками, но тотчас же внезапно вскочил, выпрямился в полный рост и что было силы крикнул, глядя на усеянное трупами врагов поле под стеной. – Князь Ольг! Слышишь ли меня?! Будь ты проклят! Отринет тебя, Гореславича, родная земля! За погибель сотен, тысяч безвинных будешь ты держать ответ! И не будет к тебе снисхождения, не будет жизни! Обрушатся на рамена[90] твои беды тяжкие! Будешь опозорен ты на века за крамолы свои бесчисленные и нескончаемые!..
Подоспевшие на выручку дружинники с восточной стены погасили огонь и отбросили половцев вниз.
Ближе к вечеру степняки отступили, рассыпались по полю и опять разожгли вокруг окольного города костры.
Князь, проверив сторожевые посты на стене, спустился по дощатой лестнице с заборола внутрь крепости. Возле котлов с варом хлопотали воины и горожане, рядом другие, завернувшись в плащи, предавались короткому отдыху. Владимир остановился возле одного из костров, устало присел на кошмы, огляделся вокруг. Внимание его привлекли раздававшиеся из темноты какие-то тихие нечленораздельные звуки – то ли рыдания, то ли всхлипы. Взяв в десницу факел, князь поспешил на звук.
Возле тела Година в серебрящейся кольчуге сидела немая полоцкая поленица[91]. Рыжие волосы её были распущены, рукой в железной перчатке она закрыла лицо и тихо, почти беззвучно рыдала. Рядом лежал меч, свет факела выхватывал из темноты её ноги в кольчужных бутурлыках[92].
Владимир долго молча смотрел на скорбь женщины, а в памяти его возникали картины прошлого. Вот они со Святополком и Арсланапой берут штурмом Полоцк, вот одинокий воин в булатной личине[93] на крыльце княжеских хором отчаянно бьётся сразу с несколькими туровцами из Святополковой дружины, вот одолевают его, отбирают меч, срывают личину, и видит Мономах перед собой молодую женщину с огненно-рыжими волосами. Вот он решительно отвергает предложение Святополка казнить её, вот она в его шатре пытается броситься на него с засапожником[94], он перехватывает её занесённую для удара длань, успокаивает, говорит, что не причинит ей лиха. Вот битва под Прилуками, его поединок с предателем Елдегой, и поленица убивает врага сулицей, спасая его, Мономаха, от верной гибели. И вот она возвращается из Новгорода, передавая в его руки подмётную Святополкову грамоту. И как она всякий раз с презрением морщит свой прямой тонкий носик, едва речь заходит об Олеге или о Святополке. Сейчас ей где-то лет тридцать шесть, ещё не стара, и сто́ит двух-трёх воинов, а то и более. Годин был её боевым соратником, вместе они и с погаными рубились, и в Новгород ездили с тайным поручением. Может, что и было промеж ними. О том не ему, Владимиру, судить.
Узнав князя, поленица сдержала рыдания, смахнула слёзы, вытерла дланью в перчатке нос, через силу слабо улыбнулась.
– Разумею, тяжко. Поутру похороним Година, как подобает. С отрочества моего он в дружине, много путей с ним вместях[95] прошли, – глухо промолвил Владимир. – Ты покуда ступай передохни. Заутре новый бой нас ждёт.
Поленица послушно кивнула головой и поспешила в гридницу[96].
Глава 8. «И облизывались на нас, как волки»
Восьмой день осады подходил к концу. Поле, заборолы, ров – всё было заполнено телами убитых, над которыми кружили, зловеще каркая, чёрные вороны. По ночам, когда шум боя стихал, они садились на землю и с ожесточением клевали человеческое мясо.
Половецкие сторожи не отгоняли их: по поверьям, душа съеденного птицами или зверями, которых никто не кормит, попадает в рай.
«Завтрашний день осады будет последним, – с горечью рассуждал Владимир. – Слишком мало осталось у меня дружины, не удержать поганых. Сколь великое число добрых ратников пало здесь! Верно, придётся искать мира у Ольга. Иначе все ляжем в сыру землю, а заодно и простых людей погубим».
На звоннице собора Спаса забили в колокол, созывая жителей Чернигова на вече.
С криками: «Не хощем орду поганую! Довольно ратиться! Пущай князь Ольг миром к нам идёт! Не хощем воевати боле!» – люди стекались на площадь. Стоя на степени[97], Владимир старался сохранять хладнокровие и с виду равнодушно внимал неистовым, истошным крикам исстрадавшихся за время осады горожан.
Только бледность лица и нервные неспокойные движения рук выдавали волнение князя. В ушах его стоял пронзительный неприятный гул.
– Уходи от нас, князь! – раздался рядом голос боярина Славомира. – Одни токмо беды да несчастья принёс ты на наши головы! Уступи место Ольгу! Пущай он у нас княжит! Он мудрей тебя! Не станет с погаными воевать!
– Да, не станет! – вдруг резко выпалил в ответ Владимир. – Он, наоборот, поганых к вам в дома приведёт!
– А как мыслишь ты от них оборониться? Слаба дружина твоя. Не отогнать тебе орды их от стен наших, – молвил боярин Мирон. – Не управишься без чужой помощи. А помощи сожидать тебе неоткуда.
– Прав ты, боярин. И вы правы такожде, люди добрые. Что ж, Славомир, послушаю я совета твоего, уйду с дружиною из города. Для меня иного нет. И всё ж, боярин, совет мой: ступал бы ты со мною. Чую, не защитит Ольг Чернигова от половцев. Пропадать вашим головушкам!
– Глупость, безлепицу речёшь! – возмущённо воскликнул, всплеснув руками, Славомир. – Да князь Ольг не даст поганым лиходейничать! В дружбе великой он с ханами, не створят нам зла!
Владимир уже не слушал последних слов боярина. Быстро сойдя со степени, он прошёл через расступившуюся толпу и скрылся за оградой своего терема…
Глубокой ночью князь вызвал к себе Бусыгу. Невысокого роста, но крепко сбитый, отчаянно храбрый, но, где надо, осторожный, набравшийся за годы службы опыта, извечный весельчак и балагур, большой любитель кабаков и женщин, почему-то вселял Бусыга в князя уверенность, что всё пройдёт, что схлынет тяжкая беда и что заживут они на Руси лучше, чем жили прежде.
Усадив удалого дружинника на обитую шёлком лавку в горнице, Мономах долго наставлял его:
– Останешься тут. Неприметно примкнёшь к Ольгу, скажешь, будто хощешь к нему в дружину вступить. В число мужей его доверенных войти тебе надобно будет. И обо всём, что сей ворог затевать измыслит, передавай мне чрез купца Ждана. Ведаешь, где дом его?
Бусыга кивнул, встал и поклонился Владимиру в пояс. Князь обнял его за плечи, поцеловал в лоб и, троекратно перекрестив, промолвил:
– Коли роту[98] от тебя требовать почнут – клянись, не задумывайся. Сказано ибо: не спасёт душу свою тот, кто не погубит её ради земли своей! Ну, ступай. И да хранит тебя Бог!
Он грустно смотрел на закрывшуюся за удалым дружинником дверь…
Наутро Владимир послал Олегу грамоту, в которой предлагал прекратить войну и соглашался уступить Чернигов, взамен беря обещание беспрепятственно пропустить его с сотней дружинников к Переяславлю, а также не чинить зла простому черниговскому люду.
Олег согласился, и в День святого Бориса малочисленная Владимирова дружина, отперев крепостные ворота у берега Стрижени, вышла из города.
Вдоль дороги, по которой двигались воины, сновали половецкие всадники, осыпающие русов едкими насмешками. Кровь закипала в жилах дружинников, но Владимир строго-настрого приказал им терпеть и запретил отвечать на оскорбления.
– Ещё поквитаемся, – спокойно говорил он.
Посреди отряда, в крытых возках, охраняемых со всех сторон, ехали жёны и дети воинов. Владимир увидел полные испуга тёмные глаза высунувшейся в оконце возка княгини Гиды[99]. Рядом с матерью подростки Святослав, Ярополк, Вячеслав, Марица и совсем маленькая София. Стараясь успокоить жену и детей, Мономах ободряюще подмигнул им и заставил себя через силу улыбнуться. Гида горестно покачала головой и скрылась за занавеской…
Перейдя Десну, Владимир с дружиной поспешил укрыться в Переяславле, за его каменными, неприступными для половцев стенами.
«И пошёл я из Чернигова на день святого Бориса и ехал сквозь полки половецкие лишь с сотней дружины, с детьми и жёнами. Половцы, стоявшие у перевоза и на горах, облизывались на нас, как волки», – вспоминал он много лет спустя в своём «Поучении чадам…».
Глава 9. Разгром Чернигова
Сразу после ухода Владимира из Чернигова половцы сняли осаду, покинули поле перед городом и занялись грабежом сёл и деревень по обоим берегам Десны. Тем временем черниговские бояре, с каждым часом ожидая прибытия в город Олега, выставили на крепостной стене окольного города стражу во главе с тысяцким, которая при виде княжеской дружины должна была настежь распахнуть ворота.
В доме боярина Славомира, раскинувшемся на Третьяке, невдалеке от строений Елецкого монастыря, шли приготовления к пиршеству. На поварне жарились туши свиней, говядина, птица, рыба. Давний приятель Святославичей, боярин решил расщедриться, пригласив к себе на пир князя и всю его дружину.
– Пошевеливайтесь, негодники! Князя Ольга с часу на час сожидаем! Почто, стойно мухи сонные, копошитесь?! – подгонял он челядь.
Разодетые, в шёлковых цветастых летниках[100], с золотыми серёжками в нежных ушках, в сапожках из сафьяна с замысловатыми узорами на голенищах, в двери светёлок выглядывали с лукавыми улыбками на устах юные боярские дочери. Все три, как на подбор, красавицы, и каждая тайком подумывала, стоя у притворённой двери: «Поглядел бы на меня какой удатный молодец из княжой дружины». Как знать, может, счастье своё обретёт Марья, Елена или Ольга…
Грязный, в рваной суконной тёмно-серого цвета свите[101] человек подошёл к воротам окольного города.
– Кто таков еси? – удивлённо вопросили его стражи.
– Аль не признали? Бусыга аз[102], мечник. Прогнал мя Мономах, побить велел, яко собаку, ибо за мир аз со князем Ольгом стоял.
– А не врёшь ли ты? – подозрительно прищурившись, спросил его тысяцкий. – Ну-ка, побожись.
– Вот те крест! – Бусыга истово перекрестился.
– Куда ж путь держишь, Бусыга?
– Князя Ольга ищу аз. Может, возьмёт к себе на службу. Рад вельми[103] буду.
– Ну коли так, дайте ему копьё, – приказал тысяцкий стражам. – Как раз и сожидаем князя твово, – добавил он, обращаясь к Бусыге.
Длинное, с булатным острым наконечником копьё тотчас оказалось в руках мечника, поданное одним из стражей.
– Стой здесь, – властно указал ему тысяцкий. – Как князя Ольга узришь, отопрёшь врата.
С равнодушным видом Бусыга встал возле ворот, но как только тысяцкий отошёл, по крутой узенькой лестнице взбежал на заборол. Прикрывая глаза ладонью от солнца, он со вниманием всмотрелся в холмистые дали.
Вот из-за поворота дороги показались в туче пыли половецкие всадники в кольчужных калантырях и меховых бобровых и лисьих шапках. При виде города они громко загалдели, указывая друг другу пальцами на крепостные башни. Рассыпавшись по полю веером, степняки стремительно приближались. Бусыга уже вскоре смог разглядеть лица передних, смуглые, скуластые, потные, исполненные алчности и ожесточения.
В стороне справа заблестели булатные шишаки[104] и дощатые брони[105] Олеговой дружины. Показался и сам князь, на ветру колыхалось его пурпурное корзно с золотистой оторочкой, у плеча посверкивала серебряная фибула[106], на белоснежном фаре[107] красовалась дорогая обрудь[108].
Жестом руки остановив своих воинов, он что-то резко выкрикнул по-половецки. Бусыга увидел, как с явной досадой и неохотой степняки осадили перед крепостным валом своих мохноногих коней. Олег выехал вперёд и снял с головы золочёный шелом с чеканным архистратигом Михаилом на челе.
– Други! – зашумел он громовым голосом, так, что стало слышно со стены. – Я, князь ваш, ведаю, что стои́те вы за меня, что прогнали ненавистного Мономаха! Не пугайтесь ратников половецких, то мои и ваши соузники верные! Не створит вам никто лиха! Отпирайте врата!
– Да открывай же вборзе! – крикнул тысяцкий Бусыге.
Бусыга бегом ринулся с заборола вниз, подбежал к воротам и отодвинул тяжёлый засов. Дубовый мост, заскрипев, опустился на ту сторону рва. А дальше… Такого, наверное, в тот день не ждал в Чернигове никто. Дикие вопли сотен половцев слились в один протяжный звериный вой. Размахивая саблями, орда Арсланапы с ходу ворвалась в окольный город. Вмиг запылали подожжённые кочевниками дома, хриплая ругань заполонила широкие и узкие черниговские улицы.
– Что вы творите?! – в ужасе воскликнул Олег, не зная, как остановить свирепствующих «соузников и друзей».
Сминая всё на своём пути, половцы врывались в церкви, сдирали оклады с икон, вытаскивали на паперти кованые сундуки и извлекали из них серебряные и золотые кресты, подсвечники, кадила, ризы и прочее храмовое имущество. Пресвитера[109] Филофея, который попытался было помешать грабительскому расхищению добра, несколько половцев во главе с беком Кчием выволокли на площадь.
– Нечестивцы! Воздаст вам Господь за грехи ваши! В геенне огненной сгорите вы! – Пресвитер судорожно схватил руками большой золотой крест. Старца швырнули на землю, стали топтать ногами.
– Убивайте скорей, поганые! Почто мучаете?! – корчась от боли, умолял Филофей. Но крест не отдал. Только когда он испустил дух, когда один из степняков не выдержал и полоснул саблей по голове пресвитера, вырвали усыпанный алмазными каменьями крест из его рук, разжав окоченевшие пальцы. Грязно ругаясь, Кчий спрятал крест за пазуху.
Пламя пожаров быстро подбиралось к Третьяку, где посреди зелени садов располагались хоромы многих именитых бояр.
Боярин Славомир в страхе выскочил во двор, спеша укрыться в погребе, но навстречу ему уже вихрем летел отряд обезумевших от крови половцев во главе с самим Арсланапой. Солтан соскочил с коня, взбежал на крутое крыльцо и настежь распахнул дверь терема. Скрежеща зубами в предвкушении богатой добычи, половцы бросились в боярские хоромы. Двое втащили в горницу пойманного посреди двора трясущегося от ужаса Славомира и швырнули его к ногам Арсланапы.
– Куда ты хотел убежать, боярин?! – грозно сдвинув тонкие брови, спросил солтан.
Славомир, задыхаясь от волнения, не мог выговорить ни слова.
– Отвечай, скотина! – Арсланапа ударил его нагайкой по лицу.
– Спужался… Аз… А князь Ольг где? – пробормотал Славомир.
– Зачем хотел убежать, если ты нам друг? Врёшь, всё врёшь! Убейте эту собаку! – прохрипел в ярости Арсланапа.
– Нет, нет! Прости, хан! Не убивай! – истошно завопил боярин.
Рослый половец схватил его за высокий ворот кафтана и потащил в сени. Через несколько мгновений до ушей Арсланапы донёсся слабый вскрик.
Голодные половцы набросились на выставленные в горнице на столах кушанья и с ожесточением вгрызались зубами в мясные туши. Рядом на полу плавали в собственной крови посеченные Славомировы челядинцы. Боярские дочери, визжа от страха, устремились наверх, в свои светёлки. Младшая, Ольга, споткнулась о ступеньку. Арсланапа коршуном налетел на неё сзади, ухватил за русую косу, повалил на пол.