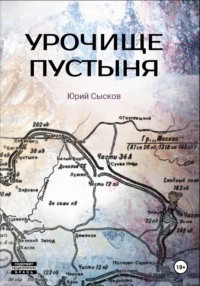
Урочище Пустыня
К концу второй сигареты Садовский увидел женщину-экскурсовода, плывущую по мосту – так легка и грациозна была ее походка, сопровождаемая мерным колыханием крыльев бежевого плаща и всплесками длинных рыжих волос на ветру. «Ходит плавно – будто лебедушка, смотрит сладко – как голубушка…» И тут же в памяти явились пушкинские строки:
Люблю я бешеную младость,
И тесноту, и блеск, и радость,
И дам обдуманный наряд;
Люблю их ножки; только вряд
Найдете вы в России целой
Три пары стройных женских ног…
Похоже, она была счастливой обладательницей одной из этих пар. Что же касается выводов, сделанных классиком путем эмпирических наблюдений, то с этим можно было поспорить. Вряд ли мода галантного века позволяла разглядеть в дамах что-то выше прекрасной лодыжки, не говоря уже о ножках в целом.
Она свернула от моста направо. Садовский, чуть помедлив, догнал ее и спросил:
– Могу ли я заказать персональную экскурсию?
– А, приблудный турист, – без особых эмоций проговорила она. – Что вы имеете в виду?
– По ходу вашего рассказа у меня возникло несколько вопросов.
– Только не спрашивайте меня про килевидный архивольт. Я не знаю, что это такое. И чем он отличается от архитрава.
– Вы не обязаны все знать.
– Так что вы хотели спросить?
Несмотря на то, что она не стала уклоняться от разговора с ним Садовский понимал, что ступил на весьма зыбкую почву и в любой момент установившаяся между ними дистанция может быть разорвана. Смотрела эта лебедушка отнюдь не как голубушка. Поэтому говорить надо было коротко и по существу.
– Вы многое рассказали о соборе и колокольне. Но была еще и третья достопримечательность…
Она прямо и открыто посмотрела на него, словно увидела впервые и что-то в увиденном ей явно не понравилось. Он спокойно выдержал эту битву взглядов, понимая, что слова о «третьей достопримечательности» она могла принять на свой счет.
– Я говорю о старике возле храма. Кто он?
Она довольно долго молчала, как бы раздумывая, стоит ли пускаться в объяснения. Что-то мешало ей выйти из образа застегнутого на все пуговицы экскурсовода и стать просто женщиной, с которой пытается познакомиться с виду неустроенный, явно ничейный мужчина.
– Слева от нас Музей романа «Братья Карамазовы».
Кивком головы она показала на желтое здание с белой колоннадой по балкону второго этажа.
– Не знал, что есть целый музей, посвященный роману…
Казалось, она уже забыла, о чем он спросил. Но нет, ответ все-таки последовал.
– Его знают у нас как блаженного Алексия. Сам себя он называет иноком, рясофорным, новоначальным монахом, хотя официальная церковь от него открещивается… Здесь он собирает средства на покупку самой маленькой сборно-разборной колокольни, которую для звонарей изготавливают уральские мастера…
– Долго же ему придется собирать…
– А таких Бог любит. И во всем им помогает. Хотя… Странный он… Одно слово – юродивый.
И она пересказала ему несколько баек об этом чудном старике, оговорившись при этом, что не ручается за их достоверность. Как-то блаженный Алексий пришел на первомайскую демонстрацию – с какой-то черной тряпкой на палке. Издалека она была похожа на развернутый флаг Исламского государства Ирака и Леванта. Был скандал. Полиция вывела демонстранта за пределы площади, куда-то за водонапорную башню, и экспроприировала самодельный штандарт. Что хотел донести юродивый до жителей Старой Руссы? Никто так и не понял. Он ничего не требовал, никого не обличал, не призывал к ответу. Но его появление на маевке, среди нарядно одетых, улыбающихся людей было похоже на вызов. Он выглядел так, словно явился на званый ужин без приглашения, в грязных обносках, всем своим видом оскорбляя присутствующих… В другой раз удумал вбежать в женскую баню. «Яко Симеон богомыслию предамся! – кричал он. – И место подходяще!» Был жуткий переполох. И смех, и грех – вздыхали бабы после того, как выпроводили его шайками и вениками из помывочного зала…
– Справа памятник Достоевскому, – как всегда неожиданно перескочила с одного на другое она. – А чуть дальше – Дом-музей писателя.
Федор Михайлович сидел на постаменте в скорбной раздумчивой позе, очевидно размышляя о бесах, которые до краев заполонили Россию, угрожая самому ее существованию…
– Удачный памятник, – сказал Садовский, чувствуя, что она ждет от него какой-то реакции.
– Мне тоже он нравится, – задумчиво произнесла она. – Тут недалеко еще есть Дом Грушеньки… Помните, кто это?
– Да. Кстати, Михаил.
– Светлана…
Они молча продолжили путь. Между ними возникла какая-то неловкость – разговор не клеился, словно все темы были раз и навсегда исчерпаны. Оба почувствовали: еще минута-другая и им предстоит решить, стоит ли продолжать начатое знакомство и если стоит, то к чему все это приведет. «Почему я к ней подошел?» – спрашивал себя Садовский. В другое время и в другом месте он не посмел бы сделать этого – слишком отчетливо на лице у нее было написано: «Не здесь, не сейчас и не с вами…»
Взгляд его упал на указатель, на котором было написано: улица Сварога.
– Ничего себе, – искренне удивился он. – Здесь до сих пор почитают славянских богов?
– Это не тот Сварог, о котором вы подумали. К богу огня он не имеет никакого отношения. Это художник, который родился в Старой Руссе. На этой улице я и живу…
– Кстати, вы не посоветуете, где тут можно остановиться?
– Надолго? – спросила она без особого интереса.
– На день-другой. А там посмотрим…
– Пойдете по улице Минеральной до Парка Победы, свернете налево, там увидите гостиницу.
– А ресторан там есть?
– Есть и ресторан. Но не советую. Есть немало других мест, где можно недорого и вкусно пообедать.
– Хочу пригласить вас на ужин. Часов в семь устроит?
– Ничего не могу обещать, – сказала она, впервые улыбнувшись.
Житие инока Алексия Христа ради юродивого
Засим начинаю я повествование свое об иноке Алексии и многострадальном житии его. Кому как не мне рассказать о бедах и злоключениях оного, распнувшего плоть свою со страстьми и похотьми, ибо я он и есть, пишущий эти строки в стенах порушенного Свято-Троицкого Михаило-Клопского монастыря. И одному Богу ведомо, кончу я дни свои в хлевине какой, всеми забытый, без свещ и фимиама или доживу до поздних времен, когда с достодолжною тихостию уйду в мир иной и восхищен буду в вожделенное, горнее свое отечество.
Пусть так. Одно только сомнение бередит мой немощный ум и растревоженную душу – не впадаю ли я тем самым в грех гордыни, самому себе становясь исповедником и судьей? Ведь никто из смертных не может возомнить о себе такое, что хотя бы один день своей жизни он, несчастный, был праведником, не грешил и не слепотствовал в миру, а уж тем более был достоин блаженной кончины. И не постигнет ли меня злая участь безвестно канувших лжеюродивых, кликуш и сумасшедших, в которых на Руси отродясь недостатка не было? О таких писал патриарх Иосаф I: «Инии творятся малоумии, а потом их видять целоумных; а инии ходят в образе пустынническом и во одеждах черных и в веригах, растрепав власы; а инии во время святого пения в церквах ползают, писк творяще, и велик соблазн полагают в простых человецех».
Есть и такая блажь. Уповаю лишь на то, что воздастся мне по делам моим, понеже старался я идти от мирского сладострастия к свету богоразумия. И здесь Бог и везде Бог. И каждый важен для другого, и другой для каждого и все – для Господа Саваофа-Вседержителя, в имени которого пребудем во благе отныне и навсегда. Для кого-то и это чтение будет душеполезно и назидательно.
Итак, помолясь, дабы избавил меня Владыка наш, великой радости податель, от гнева правды Своей, приступаю…
Наверное, явился я в этот мир в недобрый час – под Полынью звездой, пропитавшей горечью дни мои. Отчизна моя – пепелище, рождение – тайна за семью печатями, а вся последующая жизнь – шатание юродствующего по городам и весям новгородчины. Но обо всем по порядку.
Дата появления моего на свет мне неведома, но я склоняюсь к тому, что это было в год, когда товарищ Сталин объявил начало «безбожной пятилетки» и стал сокрушать алтари. Первое, что я увидел, вступив в пределы земной юдоли, был огонь, первое, что отчетливо почувствовал – боль. Никаких иных воспоминаний о своем нежном возрасте я не сохранил. Не знаю, с чем это связано, но с тех пор при виде огня меня крутит и корежит, как бересту.
Я не знаю, кто мои отец и мать. Да их у меня, должно быть, и не было. Когда я думаю о своей матери я вижу золотистое сияние и чувствую исходящую от него любовь. А отец – это голос, который повелевает мне, что я должен делать и как жить.
Бабушка моя Антонина или просто баба Тоня о них ни разу не упоминала. А когда я спрашивал – сразу начинала креститься и бормотать молитвы. Я знал, что она никого и ничего не боится. Только одного этого вопроса. И у кого потом ни выпытывал – отвечали одно: от киих родителей родися, не веем. И жалели как убогого, для жизни убитого, и отводили глаза. Тогда я дошел своим незрелым еще умишком: если одних детей находят в капусте, других приносят аисты, то меня спустили с неба ангелы. И сам я ангельского роду, хотя и неведомо какого чина…
Эту мысль навеяло видение, бывшее у меня прежде моего рождения – церквушка на холме. В солнечную погоду она мне подмигивала, в пасмурную закрывала реснички, а когда наплывал туман – и вовсе засыпала. Она словно говорила мне – приходи, малютка, сюда, здесь твой настоящий дом, здесь твои небесные родичи и покровители – отец и мать…
Бабушка у меня рукастая была, никогда не сидела без дела – даром что однорукая. Руки она лишилась еще по молодости, когда билась с великим запалением, случившемся в наших краях. Был еще и дед, гуляка и балагур, и красавица их дочь. И это все, что я помню, потому что пробыл я в их доме, что в деревне Пустыня, самую малость. Здесь обнаружилась у меня некая странность – умение исчезать в одном месте и неожиданно появляться в другом. Часто это происходило ночью. Я переносился из дома в огород, из огорода в сарай, из сарая в лес или на речку, будто на крыльях, но не понимал и не помнил, как. Меня ругали, поучали, увещевали, всем миром стыдили и уговаривали не делать так больше, но все было тщетно – я продолжал бестелесно и беспамятно перемещаться в пространстве. Это пугало моих домочадцев. Однажды поутру кто-то из соседей обнаружил меня сидящим на колодезном срубе и донес бабе Тоне. Та, едва успев добежать до колодца, единственной своей рукой схватила меня за шиворот и вернула на твердую землю. После чего терпение ее иссякло и я был отдан в странноприимный дом где-то в области великого Нова-града, где и дождался не то конца света, не то начала обставшей меня и родные палестины тьмы…
Дальше в моих воспоминаниях появляется некая связность и более осмысленный взгляд на вещи. Постараюсь передать здесь свои детские впечатления как можно точнее, не соотносясь с последующим знанием и жизненным опытом.
Место, куда меня привезли, пришлось мне по душе. То было одноэтажное кирпичное строение, утопавшее в цветах и зелени, как старинная помещичья усадьба. Там было уютно, солнечно и как-то по особенному благостно – в кронах деревьев возились и заливались на все голоса дивные птицы, всюду порхали разноцветные бабочки, нежно гудели шмели и пчелы. Меня встретил настоятель обители и ее постоянные обитатели, называвшиеся персоналом – все в белых ангельских одеяниях, но почему-то без крыл. Они были добры и внимательны ко мне. После короткой беседы меня проводили в палаты, где размещались дети – в каждой по четыре человека. Там я увидел того, кто называл себя Бароном. Он был заметно старше меня, худ, нескладен, остронос и говорлив.
– Ты его меньше слушай, – шепнул мне на ухо настоятель – У всякого барона своя фантазия…
И, похлопав меня по плечу, ушел по своей надобности.
Он и вправду вел себя как-то необычно, этот Барон. Разговаривал так, будто читал стихи перед зеркалом. И на тумбочку опирался не всей рукой, а тремя пальцами, как на треногу. Но я к этому быстро привык и перестал замечать, потому что он принял меня хорошо, как равного, и сразу предложил мне стать его другом.
– П-послушай, что я тебе скажу, д-дражайший Алексей, – нараспев, слегка заикаясь, проговорил Барон. – Ты, наверное, спрашиваешь себя – куда я, то есть ты, попал. Сразу скажу тебе – это вовсе не психушка, а лицей. К-клиника для особо одаренных детей и подростков. Здесь их изучают для науки и п-пользы страны… Смешали наиболее способных с умственно отсталыми и стали наблюдать, кто кого перетянет на свою сторону.
Он как-то издалека на меня посмотрел, но как будто не увидел и продолжал:
– Различают одаренность легкой степени, умеренной и выраженной. У меня – вы-выраженная. А тех, у кого вы-выраженная готовят для государственного задания особой важности. Психушка – это так, для отвода глаз. А кто говорит, что это не так – тот сам псих. Вот.
– А они здесь тоже есть? – спросил я, потому что мне было очень интересно – какие они, настоящие психи, ведь я никогда не встречал их в нашей деревне.
– К-конечно, мой юный друг. П-полным-полно. Но селят их отдельно от нас. Скажу тебе по большому секрету – это стадо ба-баранов.
– Ты с ними не дружишь? – спросил я.
– Нет, потому что я из стада ба-баронов.
Он свысока, будто забравшись на табуретку, взглянул на меня.
– Я тут обучаюсь по особой программе. И п-параллельно поправляю свое здоровье. Собственно, я не лечусь, а прохожу курс лечения от энуреза и з-з-з-заикания.
Он описал головой дугу – как будто мячик съезжает с горки.
– В совершенстве владею немецким языком, – зачем-то добавил он. – Знаю из латыни…
– А кто тут еще живет? В этой комнате?
– Эдуард, т-толковый малый. И Пионер. Законченный п-придурок. Они сейчас на п-процедурах…
Вскоре я познакомился и с ними.
Эдуард или, как его еще называли, «мальчик из корзины» был самый младший из нас. И самый несчастный. Говорят, он трижды подкидыш – в первый раз его оставили в свертке на берегу пруда, во второй – на пороге дома в корзине, в третий – у дверей больницы, но уже без корзины. А когда он вышел из младенческой поры его отдали в обитель для умственно одаренных детей. Так говорил Барон. Еще он говорил, что Эдуард – это маленький Гамлет. Он часто задается вопросом: «Как же жить? Не знаю как!»
Бывало, играет во что-нибудь тихонечко, сам с собой и вдруг ни с того ни с сего воскликнет: «Как же жить? Не знаю как!» Пожмет худенькими плечами, разведет в стороны руки и на мгновение так застынет.
Или идет по коридору и, будто натолкнувшись на невидимую стену, спросит сам у себя: «Как же жить? Не знаю как!» Всегда с одним и тем же растерянным выражением лица и скорбной складочкой на лбу. И столько недетского отчаяния проглядывает в его ясном взоре, что становится совсем уж не по себе. Действительно, как?
Барон утверждает, что Эдуард недавно потерял родителей. Мама его работала уборщицей, а папа алкоголиком. Потом мама заболела и умерла, а папа пропал. Был человек – и нет человека. А может, его и вовсе не было. Просто он всем казался. А когда сгинул, все поняли – ни Богу свечка, ни черту кочерга. Так, одна видимость. Рассеялся человек, как туман. И ничего от него не осталось. Вот и пошел подкидыш по рукам и учреждениям.
Я не понял только одного: если Эдуард недавно потерял родителей, то почему стал «мальчиком из корзины»? Ведь он давно вырос из нее. Но спрашивать об этом было неудобно.
Эдуард мне сразу понравился. Не по годам серьезный, задумчивый, с печалинкой во взгляде. Он, конечно, не верил, что остался сиротой. Как могли умереть его родители, если смерть прячется на кладбище? А их там нет, он проверял – как раз недалеко от нашей обители есть старый деревенский погост с полусгнившими дубовыми крестами. Еще он говорил, что смерть – наказание за дурные поступки. А что плохого сделала его мать? Сломала швабру? Не вытерла пыль с комода? Что такого совсем уж непростительного натворил отец? Выпил у других всю водку? Вот и выходит, что все это выдумки.
Эдуард не верил, что когда-нибудь умрет. Так, чтобы окончательно, раз и навсегда. Просто смерть играет с нами в прятки, говорил он. И если первым найдешь ее ты, то она ничего не сможет с тобой сделать, а ты – все что захочешь, если же она – то ты просто переселишься из одного места, к которому привык, в другое, и там встретишься со своими потерявшимися родителями.
Все, что окружает нас Эдуард воспринимал как что-то живое, что только притворяется неживым. Однажды он сильно рассердился на совочек, который не хотел копать утрамбованный грунт, и наказал его, сломав о камень. А потом долго жалел об этом и даже попытался вылечить его подручными средствами, но совочек чиниться не хотел и его пришлось выбросить. Вообще-то я разделял его точку зрения, но никогда бы не признался в этом, потому что был на целых два или три года старше.
Один случай убедил меня, что он не верит и в смерть животных. Однажды у нас в обители умерла дворняжка – какой-то злыдень рубанул ее то ли топором, то ли лопатой. Эдуард похоронил ее. Над могилкой он водрузил крест из ивовых прутьев, а на холмик положил банку рыбных консервов, которую украл для него из кухни Олег по фамилии Френ (потом я узнал, что это не один человек, а несколько). Собака проснется, поест и снова уснет, объяснил он. Это нисколько не удивило меня, а лишь напомнило о деревенском обычае оставлять еду на кладбище. Наутро банка действительно исчезла. Но чтобы не расстраивать Эдуарда мы не стали говорить ему, что ее съела не мертвая собака, а Пионер.
Пионер был четвертым, самым беспокойным жителем нашей палаты, назойливым, как муха, и каким-то, по правде говоря, чокнутым. И мне было непонятно, зачем ему дали такое почетное, ко многому обязывающее прозвище, ведь пионер – всем ребятам пример.
У него был такой вид, как будто он к чему-то все время принюхивался, что-то выискивал, за кем-то шпионил. Как я узнал позже это объяснялось легкой сглаженностью носогубной складки.
Пионер все время был в движении и ни минуты не мог оставаться один, ему всегда было нужно с кем-то спорить, кого-то донимать, кому-то что-то объяснять, растолковывать, доказывать и поэтому за всеми он ходил хвостиком. От него не было покоя не только детям, но и взрослым, и даже настоятель обители не знал, куда от него деться. Когда он говорил о Пионере, в ходу были такие непонятные, пугающие, опасные, как ядовитые насекомые, слова – адиадохокинез, тремор, страбизм и другие на них похожие, значения которых никто из моих друзей не знал. Еще Пионер безбожно ругался матом, особенно когда был сильно возмущен или обижен. А возмущен или обижен он был почти всегда. Поэтому ругательства сыпались из него, как из рога изобилия. И где он только набрался? И когда из города приезжали гости, которых называли комиссией Пионера прятали подальше с глаз долой, чтобы он не обругал кого-нибудь последними словами.
Мое знакомство с ним началось с игры в шашки. Сначала все было как обычно, но как только я начал выигрывать Пионер повел себя очень странно и не по правилам – взял с доски две моих шашки, засунул их в рот и сказал:
– Я их съел!
Потом засунул еще горсть и объявил себя победителем.
– Так не честно! – попытался возразить я, но он уже забыл про шашки и начал втолковывать мне про какой-то пионерский патруль. Я просто опешил от такого напора.
– Это нужно для того, чтобы организовать охрану общественного порядка, – выплюнув все шашки разом, возбужденно задолдонил он. – Вдруг бандиты, хулиганы и всякая контрреволюционная сволочь – кулаки, помещики и капиталисты. А еще бывают спекулянты и проститутки… Мы их всех переловим и посадим под замок!
– Не хочу я ни в какой пионерский патруль…
– Тогда тебе прямая дорога в пожарную охрану, товарищ! Где твой шлем огнеборца? Но сначала ты должен сдать нормы ГТО, влиться ряды ОСОВИАХИМа и принять присягу добровольца…
Он городил что-то еще, но я был уже далеко, потому что при одном только упоминании об огне впадал в панику и бежал без оглядки.
В следующий раз Пионер агитировал меня вступить в команду крейсера «Красный Кавказ». И упорно повторял, что у него там знакомый капитан дальнего плавания подводного парусного флота, который все устроит. Я ни в какую не соглашался. А когда отказался заниматься хлебозаготовками, мобилизацией автогужтранспорта и лесоповалом для нужд молодой советской республики он назвал меня контрой и дал подзатыльник. Так я стал классовым врагом Пионера. С тех пор тычки, пинки и оплеухи сыпались на меня чуть ли не каждый день. К этому еще добавилась новая беда – продразверстка. Пионер взял за правило отбирать у меня излишки еды в пользу голодающих Поволжья. Еду съедал сам. Спасало меня только то, что он не мог долго мурыжить кого-то одного, ему хотелось охватить всех, дойти до каждого. Как только он отвлекался – я исчезал, поминай как звали.
Защитить себя я не мог – Пионер был старше и сильнее, Эдуард слишком мал, чтобы мне чем-нибудь помочь, а Барон сам его боялся. В общем, Пионер чувствовал себя в нашей палате главарем, предводителем народных масс, самым что ни на есть генеральным секретарем. Он был всегда и во всем прав, потому что сила была на его стороне. Мы быстро к этому привыкли, легко приспособились ко всем его капризам и причудам, научившись переключать его внимание на других обитателей нашей обители. Или просто потакая некоторым его слабостям.
Вот, к примеру, ему нравилось смешить. Для этого он наряжался кем ни попадя – то клоуном, то балериной, то мусульманином. Далее следовал истерический смех, танец маленьких лебедей или заунывная молитва, в зависимости от избранного образа. Но никому не было смешно. Придурки обходили его седьмой дорогой. Персонал недоумевал, понимающе переглядывался и крутил пальцем у виска. Во мне его потуги вызывали чувство неловкости. Но Пионер старался. Ведь если очень захотеть, обязательно добьешься своего. А цель у него была одна – заставить всех смеяться. И чтобы его за это любили. Поэтому над его шутками и выходками мы смеялись громко, старательно, навзрыд. Тогда Пионер становился добрее и можно было лепить из него все что угодно. Как из воска.
Все свободное время нам разрешалось гулять или во что-нибудь играть. Больше всего мы любили войнушку: пузырьки от лекарств были солдатами, бутылки – генералами, скрученные полотенца – самолетами, а стоптанные тапки – танками. Ну а судно использовалось по своему прямому предназначению – по настоянию Пионера оно было тем самым крейсером «Красный Кавказ», на котором я наотрез отказался служить. Из-за пробоины в борту этот крейсер годился только на то, чтобы расклепав якорь-цепь и отдав швартовы, затонуть в ближайшей луже. Но для нас это была полноценная боевая единица.
Еще мы играли в больничку. Выигравшим считался тот, кто ставил пациенту какой-нибудь мудреный диагноз или находил в себе больше всех болезней. У меня был самый длинный список – скарлатина, отит, дизентерия, корь, оспа, чума, холера, свинка, сифилис… Не уверен, что я всем этим болел, но названия откуда-то знал.
А по вечерам, когда в палате выключали свет, мы рассказывали друг другу, кто кем был до того, как попал в обитель. Самая красивая история была у Барона. Он утверждал, хотя и не знал этого точно, что мать родила его в экспедиции. Нам очень нравилось само это слово – экспедиция. Оно напоминало большой старинный корабль, быть может, фрегат, да-да, конечно, фрегат с наполненными ветром парусами, который плывет навстречу удивительным приключениям. Это было путешествие в некую сказочную страну, которой нет ни на одной карте мира и где всегда лето. И Барон всем говорил, что он оттуда, из этой страны и самый главный там над всеми – его отец.
Пионер всякий раз придумывал какую-нибудь новую историю. То про то, как его усыновил один старый большевик, то про сельхозартель Вторая пятилетка, занимавшуюся его воспитанием через коллективный труд, то про детдом где-то на Псковщине…
Эдуард обычно отмалчивался. Ему нечего было рассказывать, потому что он все уже рассказал. За него, как правило, сочинительствовал Барон, который был охоч до всяких россказней. Но я знал, что у него есть мечта – дойти пешком до столицы нашей Родины города Москвы и найти там одно место, которое называется Кремль. «Под его стеной стоит домик, а в нем – Ленин. Дедушко, – говорил Эдуард тихим-тихим голосом. – Устал, значит, делать революцию и прилег отдохнуть. А все ходют и смотрют на него. Но на самом деле он не просто дедушко, а волшебник и если ему оставить записку с просьбой – он обязательно исполнит».
Нетрудно было догадаться, о чем хотел он попросить этого волшебника.
Я же честно признавался, что пришел в этот мир ангельским путем, сойдя с небес в снопе огня. И если бы при своем схождении я не обжегся, не стал порченным ангелом, то не попал бы сюда, к ним. А теперь и к нам, потому что здесь теперь был и мой дом (изба в Пустыне как бы тоже, но я стал забывать и ее, и бабу Тоню). Своим настоящим, изначальным домом я всегда считал церковку на холме, которая если светит солнце моргает, в ненастье смеживает веки, а когда на землю ложится туман – просто спит…

