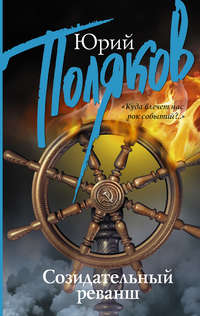
Созидательный реванш
– Все равно что спросить, читал ли я кроссворд. Не для того печатается.
– Робски к ПИП-компании относите?
– Тут чуть сложнее. У дамы есть определенные литературные задатки, все зависит от того, как она ими распорядится… Но скорее всего, никак. Лет через пять ее никто не вспомнит. Поймите, я не против развлекательной книжной продукции, вопрос в ином. Никогда прежде ПИПы не претендовали на место титанов мысли.
– Но раньше, наверное, их и не было в таком количестве?
– Да, не было Донцовой, зато был ее папа. Знаете, кто он такой? Парторг московской писательской организации Аркадий Васильев – автор романа «В час дня, Ваше превосходительство», превозносящего до небес подвиги чекистов. Книги Васильева печатали такими же тиражами, как сегодня сочинения его дочки. Это одна и та же донцовщина, правда, с разной идеологической начинкой. Папа утверждал приоритет диктатуры пролетариата, а наследница прославляет буржуазные ценности. Это у них семейное. К счастью, ПИПы никогда не станут классиками: их читают, но не перечитывают. Если приведете ко мне человека, перечитывающего Дашкову или Маринину, поставлю вам бутылку.
– Чего?
– Что выберете. Но не приведете – нет таких читателей.
– А по сто страниц в день писать реально?
– Нет, конечно. Думаю, без посторонней помощи там не обходится. Говорю об этом со знанием дела.
– Негром были? Или нанимали?
– Ни первое, ни второе. Однажды, правда, писал приветствие съезду профсоюзов от имени учащихся ПТУ. В стихах. Заплатили мне за эту работу восемьсот рублей, солидную по тем временам сумму, но и жилы вымотали все. Больше за подобное я не брался. Когда говорил о посторонней помощи, имел в виду другое: я стоял у истоков сериального движения в нашей стране и готовил синопсис для фильма «Салон красоты». Потом уже сценарная группа расписывала все в деталях для каждой из ста серий. Так и значилось: кто автор общей идеи, а кто – конкретного сюжета. И с Говорухиным на «Ворошиловском стрелке» мы работали по похожей схеме: у каждого была своя зона ответственности. Это тоже нашло отражение в титрах картины. В литературе же продолжается застоявшееся лукавство. Читатели привыкли относиться к писателю как к собеседнику, им психологически трудно смириться с мыслью, что с ними разговаривает не один человек, а, допустим, восемь. Поэтому соавторы уводятся в тень, хотя честнее было бы написать, что над книжкой работал творческий коллектив под началом руководителя проекта, допустим, Днестровой.
– А к продакт-плэйсменту вы как относитесь?
– Веяние времени, от него никуда не денешься. Пытался спародировать это явление в романе «Грибной царь», а меня обвинили в том, что неправильно назвал крупную фирму по пошиву мужских сорочек. Смешно!
– Может, о цене не договорились?
– Я такими вещами не занимаюсь, это не мой уровень.
– Но Ремарку было не влом рекламировать кальвадос.
– Он попросту любил этот напиток. Мне, например, нравится черногорское вино «Вранец», я вставляю его в свои книги и делаю это абсолютно бескорыстно. Впрочем, речь у нас шла об ином. Хочу, чтобы вы поняли разницу между писателями и ПИПами. Первые заняты познанием мира, а вторые созданием продукта, который купят. Собственно, так было и раньше, но до конца двадцатого века никому в голову не приходило сравнивать одно с другим. Все понимали, где искусство, а где способ зарабатывания денег. Именно девяностые годы ознаменовались попыткой вытеснить писателей, заменив их ПИПами, которые неприятных вопросов не задают, народ не будоражат, а с писателями была одна морока, вечно они нос совали, куда не следует. Но проблема-то в том, что ПИПы все равно не стали властителями дум. Они ведь не думают, а пишут. Неужели Маринина или Устинова сформулируют национальную идею для России? Нет, это удел Солженицына, Распутина, Гранина, но с ними надо совершенно иначе разговаривать. Кажется, и наверху начинают постепенно понимать, что именно эти люди определяют смыслы времени.
– Три богатыря?
– Можно еще с некоторыми оговорками назвать Евтушенко, несмотря на то, что он несколько оторвался от нашей действительности.
– А, например, Пелевин?
– Это, конечно, литература. Хотя и ограниченная молодежной субкультурой. Вместе со мной и Улицкой Пелевин входит в тройку наиболее читаемых российских прозаиков.
– Есть еще Аксенов.
– С человеком приключилась странная вещь. Видимо, столь долгая эмиграция и вызывающее предательство идеалов собственной молодости даром не прошли. Последние романы Аксенова вроде «Вольтерьянцев и вольтерьянок» ничего, кроме жалости, не вызывают. А ведь были у Василия Павловича и иные времена, куда более успешные.
– За «Вольтерьянцев» он Букера получил. Это так, к слову.
– Ну, получил, и что с того? Моего «Козленка в молоке» даже в лонг-лист премии не включили, а книга выдержала двадцать семь переизданий, переведена на многие языки, по ней снят фильм. Без всякого Букера!
– Идем дальше: Виктор Ерофеев.
– Он вообще не писатель, а предприимчивый филолог и неплохой литературовед, в какой-то момент понявший: чтобы вести интенсивную светскую жизнь, надо написать что-нибудь беллетристическое, поскольку трудно фигурировать в бомонде с исследованием о маркизе де Саде. Есть определенная этика: чтобы тебя пригласили на международные соревнования по боксу, надо хотя бы раз получить на ринге по морде. Называться писателем без единой книжки – неловко. Вот Ерофеев и написал. Ему это дело понравилось…
– Борис Акунин?
– Пожалуй, один из наиболее ответственных и интеллектуальных ПИПов. Квалифицированный японист, прекрасно образованный и очень неглупый человек, он подошел к проблеме зарабатывания денег серьезно. Ему удалось найти (точнее, позаимствовать у Честертона) ход, который сразу выделил его из общего ряда. Акунин быстро сделал себе имя и сейчас успешно разрабатывает золотую жилу. Честь ему и хвала, но это не литература.
– А бывает миграция из ПИПов в писатели?
– Крайне редко. Обратный процесс случается чаще.
– Вы свое место в строю всегда знали, Юрий Михайлович?
– Писать начал рано, в школе. Сначала это были стихи, у меня даже вышло несколько сборников. Потом переключился на прозу. Сочиняю я тяжело, редактирую тексты до бесконечности, делаю по двенадцать-пятнадцать вариантов, поэтому не получается выпускать новую книжку чаще, чем раз в несколько лет. Правда, постоянно выходят переиздания, и моим недоброжелателям кажется, будто Поляков заполонил собою все. К пятидесятилетию у меня вышел пятитомник, согласитесь, это не так уж много.
– Ну да, по сравнению с некоторыми вашими соседями.
– Какими?
– По Переделкино.
– У меня дача напротив дома Окуджавы. Постоянно вижу перед окнами булатоманов и окуджаволюбов. Косяками ходят.
– Раздражают, наверное?
– Почему? Радуюсь, что поклонники не забывают талантливого человека. Дай Бог каждому.
– А на вашей даче кто раньше жил?
– Виталий Озеров, критик и литературовед, автор монографии «Образ коммуниста в советской литературе». Его дом сгорел, я отстраивался заново. Нет, жить там хорошо, работать комфортно. И соседи что надо…
– Словом, сиди и твори. А вы все: «В Москву, в Москву!» Неужели не можете без «Литературки»?
– Это моя работа, даже миссия, дающая, кстати, обильную пищу для ума. Один пример приведу. Года два назад мы решили возродить старую редакционную рубрику, в свое время пользовавшуюся колоссальным успехом – «Если бы директором был я». Теперь, правда, она звучала чуть иначе – «Если бы президентом был я». Затея рухнула буквально через несколько номеров. Люди не стали писать. Видимо, разочарование в реформах, во власти столь велико, что человеку не хочется даже пофантазировать, что бы он сделал, оказавшись в Кремле. В советское время кабинеты редакции были бы до потолка завалены письмами желающих дать совет правителям. А сегодня – тишина. На мой взгляд, это весьма тревожный сигнал для сидящих на самом верху. На месте Путина я посвятил бы специальное заседание совета по национальной безопасности этой ситуации безверия. Тема не менее серьезная, чем инфляция или цены на нефть с газом.
– Подскажите!
– Обязательно! Но чтобы писателей услышали, надо сначала переломить отношение власти к литературе. Пока не удается, а жаль! Мало кто обладает такой исторической сейсмочувствительностью, как писатели. Именно литература задает код всей национальной культуре.
– Так и влечет вас в высокие сферы, Юрий Михайлович! А чего-нибудь попроще, подушевнее хочется?
– Написать бы еще пару хороших книг для взрослых и хотя бы одну сказку.
– Для внуков?
– В том числе для Егора и Любы. Сюжет я уже придумал, а интонацию святого простодушия никак поймать не могу. Вот уволят из «Литературки», тогда точно засяду за сказку.
– Пожелать вам этого?
– Увольнения? Спасибо, не надо. Еще поработаю…
Беседовал Андрей ВАНДЕНКО«Собеседник», № 27, 2006 г.«Я человек советской цивилизации…»
– Юрий Михайлович, вы впервые приехали в Пермь?
– В восьмидесятых годах я два раза бывал в Перми – последний раз в разгар борьбы с алкоголизмом, двадцать лет назад. Отмечали юбилей Пермской писательской организации в театре. После заседания состав президиума, в котором был и я, какими-то переходами повели, как за синей птицей, в тайный подвальчик, где был накрыт стол с выпивкой. Только мы зашли, как хозяева начали хватать бутылки с водкой и прятать, поскольку дошла информация, что кто-то «сдал» мероприятие властям и едут карать. Народ впал во фрустрацию… Но коллеги-писатели не дали пропасть – юбилей мы отметили как надо.
– Вы стали известны после публикации повестей еще при советской власти. Есть ли у вас ностальгия по тому времени?
– Нормальные люди называют то время советской цивилизацией, люди ненормальные – совком. Я не только ностальгирую, но и не скрываю этого, в отличие от многих. И писал об этом, когда находился в жесткой оппозиции к ельцинской власти. Мы хотели плохое оставить в советской эпохе, а в новое общественное устройство взять все хорошее, что там было. Получилось наоборот – хорошее мы оставили в советской цивилизации, а взяли плохое. Например, оставили там серьезное внимание государства к культуре. Возьмите послание Президента страны Федеральному собранию – ни разу в нем не употреблено слово «культура». У любого здравомыслящего человека это вызывает удивление. С точки зрения соблюдения государственных интересов, советская цивилизация была более эффективной. Утрата этого качества меня сильно огорчает.
– Почему вы, успешный литератор, занялись журналистикой? Быть редактором «Литературной газеты» – нелегкое бремя.
– Я уже работал редактором газеты – «Московского литератора», до восемьдесят шестого года, когда решил уйти на вольные хлеба. Я один из немногих, кто мог себе позволить жить на литературный труд – и при советской власти, и при нынешней. У меня выходили не только книги, но и фильмы – я был соавтором сценария «Ворошиловского стрелка» Станислава Говорухина, принимал участие в создании сериалов. Материальной необходимости стать редактором «Литературной газеты» у меня не было. Мне не нравилось, что искажена реальная картина литературного процесса. Многих писателей просто не пускали на страницы «ЛГ». Со мной был такой случай. Шестого октября девяносто третьего года я выступил в «Комсомольской правде» со статьей «Оппозиция умерла. Да здравствует оппозиция». Это была единственная статья в центральной прессе против расстрела «Белого дома». «Комсомолку» после этого на пару дней закрывали. А меня перестали пускать на страницы «Литературной газеты». А что я такого страшного написал? Что мне непонятен способ укрепления демократии с помощью расстрела из танков парламента, который во всем мире является символом и инструментом демократии. Такая шла духовная гражданская война. Всех несогласных выбрасывали из информационного пространства. А ведь исключение из общественного сознания – для пишущего человека это и есть смерть.
– Вы хотите сказать, что при Ельцине было меньше свободы слова, чем сейчас?
– Больше всего свободы слова было с восемьдесят восьмого по девяносто первый год. Это мое личное ощущение. Я был активно работающим писателем, много печатался в газетах, вел передачи на телевидении – и хорошо знаю, когда можно было говорить все, что думаешь. Что касается цензуры, я хлебнул ее достаточно со своими первыми повестями. И если сегодня я с сочувствием отношусь к советской цивилизации, то это не значит, что я чего-то не знаю о ней – я-то как раз знаю. Многие из тех, кто стал «демократами», ничего тогда против не писали. Только – за. Обеими руками.
– Ваше отношение к литературным премиям?
– Я убежден, премии и гранты далеко не всегда идут на пользу литературе. У нас сегодня своего рода «грантократия». Поэтому писатели не только острую публицистику боятся писать, но даже показаться на публике не с тем человеком, чтобы не лишиться какой-нибудь премии.
– Ваше отношение к современному российскому телевидению?
– Мы разработали проект для телеканала «Культура» – передачу «Работа над ошибками», в которой попытались отразить другую точку зрения – не либеральную, принятую там, а народно-патриотическую. Передачу объявили в апрельской программе, но сняли с эфира после того, как посмотрело начальство. Рассказывали, один из руководителей возмущался: «Поляков говорит «советская цивилизация»… Как можно? Этого не должно быть!» В конце концов, передачу вернули, чтобы не конфликтовать с редактором «Литературной газеты». А если бы я был рядовой публицист? Телевидением, которое сегодня формирует образ и стиль жизни, руководят люди со взглядами разрушителей образца девяностых годов. Они ни морально, ни интеллектуально уже не имеют права определять духовную жизнь нашего общества, они устарели навсегда, но они везде.
– Говорят, что работа журналистом негативно отражается на писательском даре?
– Ни один нормальный писатель не занимается только творчеством. Иначе через две-три книги он превращается в чудовищного зануду. Он начинает выворачивать какие-то свои уж совсем необязательные тайны. Вспомните, Чехов не оставлял свою врачебную практику до конца жизни, хотя деньги у него были. Кто такой пациент для него? Это герой его рассказа. Надо, чтобы вокруг были люди, пополняющие «внутреннюю галерею», которая есть у каждого прозаика. Конечно, первые два года, когда мы вытаскивали газету из провала, я ничего не написал. Правда, закончил пьесу, которую Станислав Говорухин поставил во МХАТе. А потом стало легче – у меня вышел роман «Грибной царь», сейчас закончил пьесу для Театра сатиры.
– На что в нашей сегодняшней жизни прежде всего должен обратить внимание настоящий писатель?
– Если мы говорим о социальной стороне литературы, ее влиянии на общественное сознание, то это не значит, что у нее нет других функций. Можно, конечно, рассуждать о том, какой должна быть композиция и язык постмодернистского романа, но это проблематика специалистов, а социальность интересна всем. Та самая постмодернистская литература, что развивалась в последнее десятилетие, привела к серьезной дегуманизации общества. Это явление я называю «катастрофой обедняющей новизны», когда автор добивается новизны любой ценой. Новое можно сказать с помощью прибавления смысла по сравнению со своими предшественниками и новых формальных открытий, а можно – с помощью убавления. Вспомним «Черный квадрат» Малевича – это максимальное убавление смысла, сведение его к нулю. Народ все очень четко чувствует! Это только в воспаленном мозгу Константина Эрнста, который возглавляет Первый канал, существует такое мнение, будто пипл все хавает, чего ни дай. Во МХАТе идет моя пьеса «Заложники любви» – там один из героев произносит фразу: «Малевича плохо подделать невозможно!» И зал хохочет. Поскольку все понимают, о чем идет речь. На мой взгляд, литература последнего десятилетия была инструментом удаления из общественного сознания традиционного мышления, национальных архетипов, здравого смысла. Искусство должно снова стать механизмом сохранения, а не разрушения традиций. Силы, способные это сделать, есть, но они оттеснены на периферию литературной, общественной жизни. Однако возвращение их неизбежно, так как периферия – это любые формы модернизма, а реализм, классическое искусство – сердцевина. Кстати, «ЛГ», что была возобновлена Горьким в 1929 году, в тот самый период, когда общество уже устало от революционного искусства разрушения, сбрасывания с парохода. И сегодня вслед за нами другие издания начинают приглашать на свои страницы писателей, которых еще недавно не пригласили бы. Татьяну Доронину вернули в эфир, чему мы поспособствовали. В одном из номеров мы опубликовали без комментариев два списка: комиссии по Государственным премиям в области литературы и лауреатов за десять лет. Смешно, но списки полностью совпали. Мы добились своего – сегодня введена другая система присуждения этих премий.
– А к какому направлению вы относите себя – к государственно-патриотическому?
– Я себя отношу к центристам. Оголтелость и крайность меня всегда смущали. Поэтому, став редактором «Литературной газеты», я вышел из Союза писателей. Вообще писатель должен находиться над схваткой – не так, чтоб ничего не видеть, но быть немного выше.
– Ваши литературные пристрастия. Кого из современников вы цените, читаете?
– Про других стараюсь не говорить, поскольку все пишущие относятся к коллегам необъективно, особенно к успешным. И как редактор никогда не опираюсь на личные симпатии и антипатии. Именно это трудней всего было поломать в коллективе – настолько сотрудники привыкли обслуживать своих друзей-приятелей. Мне нравится литература, которая серьезно работает с языком – это Астафьев, Распутин. Из современников я слежу за Пелевиным – на мой взгляд, из модернистов он самый нормальный. Хотя по языку остался на уровне фантастики, с которой начинал. И фамилия у Пелевина настоящая замечательная, особенно для постмодерниста – Нечайка. Зачем он взял псевдоним? Загадка для меня и то, как человек с прекрасной фамилией Запоев стал Кибировым. Глазков отдал бы полпечени за фамилию Запоев. Я слежу за Юрием Козловым, Тимуром Зульфикаровым, Верой Галактионовой, Михаилом Веллером, Валерием Поповым.
– Нет ли у вас ощущения, что сегодняшний режим – переходного типа – должен рухнуть. И если он не рухнет, то ждет ли нас большая катастрофа?
– В году девяносто шестом я оказался на пресс-конференции вместе с Дмитрием Язовым, бывшим министром обороны. Потом накрыли стол, мы осели рядом и разговорились. И он сказал: вот вы, молодое поколение, не знаете фронтовой поэзии. Я подумал: ну, тут ты, дядька, попался! Язов был удивлен, что я знаю столько фронтовых стихов, мы начали читать с ним вслух, перехватывая друг у друга, он так расчувствовался, что решил уточнить, кто я такой. Подозвал кого-то, ему шепчут: да это Поляков, мол, тот самый, «Сто дней до приказа»… Язов аж посинел, про стихи забыл, поворачивается ко мне и говорит: «Вот из-за таких, как вы, распался великий Советский Союз!» «А на мой взгляд, Советский Союз распался из-за таких, как вы!», – ответил я. «Почему это?» – возмущается он. «Я вам объясню.
Что я сделал? Я написал повесть об армии, которой вы командовали. Меня даже упрекали в том, что я приукрасил – на самом деле все было хуже. А допустили все это вы. Кроме того, я выступал против распада Союза, выходил на демонстрации, писал статьи. Но что моя статья? А у вас была армия – и если бы вы отдали соответствующий приказ, Советский Союз, по крайней мере, в таком катастрофическом для России варианте не распался бы. Она не потеряла бы все, что приобрела за три века. Чего вы боялись? В тюрьму попасть? Вы все равно в нее попали». «Вы не понимаете, насколько это все сложно!» «А зачем вы тогда шли в эту власть, если не способны были взять на себя ответственность?» Такой был разговор – Язов ушел. Драма заключается, на мой взгляд, в тотальном предательстве в 90-е годы политической элитой национальных и государственных интересов. Нынешние руководители по жизненному, человеческому, профессиональному опыту и политическим взглядам не всегда соответствуют тем задачам, которые стоят перед страной. Если правящая элита, особенно руководители идеологической сферы, а она никуда не исчезла, останутся в своих креслах – общество ждут неминуемые конфликты, противостояния.
– Не кажется ли вам, что сегодня под видом борьбы с ксенофобией идет борьба с русской традицией?
– Это есть. Например, по отношению к фигурам общекультурного масштаба, которые являются носителями русского менталитета. Умер великий поэт Юрий Кузнецов, продолжатель классической традиции в поэзии. Газеты и телевидение замолчали его уход. Мы были вынуждены написать открытое письмо руководителям телевизионных каналов о том, что они не имеют права так поступать. Бродский не мой любимый поэт. Я даже считаю, что он не столько поэт, сколько изощренный филолог, но он крупная фигура – и заслуживает внимания. Мы видели, как его шестидесятипятилетие было отмечено очень широко, даже грандиозно. И слава богу. Но при этом «забыли» стосемидесятипятилетие Лескова, величайшего русского писателя, и столетие Розанова тоже как-то не заметили. Все это наводит на недобрые мысли. Не надо забывать, что восемьдесят три процента многонациональной России – русские. Унижение национального достоинства заметнее и больнее всего в сфере культуры. Надо спокойно, без истерики напоминать: мы – великий народ, и не позволим замалчивать, маргинализировать нашу культуру. Вы телевизионщик и поклонник одесской школы? Нет проблем. Но не за счет русских писателей.
Подготовил Юрий АСЛАНЬЯН10 октября 2006 г.Поляков сдал мужиков с потрохами!
С писателем Юрием Поляковым я встретилась на книжной ярмарке в Пекине. Известный писатель и по совместительству редактор «Литературной газеты» пользовался у китайских читателей бешеной популярностью – там с рекордными тиражами переиздается его книга «Замыслил я побег». Причем автор наивно полагал, что причина его успеха – в сатире на постсоветскую действительность, схожую с тем, что сейчас происходит в Поднебесной. Пока его не просветили: все дело в семейной истории. Уход мужа от жены к любовнице очень актуален для Китая… Честно сказать, я давно хотела задать несколько вопросов под дых этому певцу «мужских побегов» из семьи. Конечно, с одной стороны он сдал нам, бабам, все свое неверное племя с потрохами, создав трилогию «Треугольная жизнь», куда вошли: «Замыслил я побег», «Возвращение блудного мужа» и «Грибной царь». С другой – зачем так умело разжигать в мужиках опасные желания? И я от имени всех баб начала допрос писателя с пристрастием.
О кризисе среднего возраста
– Юрий, ситуация с вашими героями лет этак под пятьдесят очень похожа на истории, которые мы регулярно обсуждаем с подругами. Вот объясните: почему именно тогда, когда у мужика все налаживается и он чего-то в жизни достигает, его вдруг начинает так ломать и колбасить? Он мечется от жены к любовнице, готов все перечеркнуть – и хорошее в том числе. Ну, признавайтесь: что такое с вами в этот период происходит?
– Я же это не придумал! Я это подсмотрел в своих ровесниках. И в самом себе… Думаю, за этим стоят две вещи. Во-первых, ощущение убывающей жизни, уходящей молодости. И иллюзия того, что мой герой называет «сначальной жизнью» – возможность сделать еще один виток. А во-вторых – благосостояние. Мужчина в этом возрасте, если он успешен, может удовлетворить любое свое материальное желание. Я знаю людей, которые начинают лихорадочно играть в детские бирюльки, покупать яхты, замки, машины… И на фоне этих возможностей мужик должен мириться с семейной жизнью, доставшейся ему в наследство от времен, когда он еще ничего не мог? Получается жуткий диссонанс.
– Выходит, женщина тоже относится к его материальным желаниям?
– Тут сложнее все. Человек, заработавший много денег, привыкает покупать себе даже не удовольствие, а комфортное состояние. Это начинается с шелковых трусов и заканчивается безумно дорогой моделью машины. И вдруг рядом с ним оказывается женщина, которая продолжает его воспринимать как прежде, существо предыдущего периода, скромное в желаниях, а главное – в возможностях…
– То есть мужчине неприятно, что она помнит его еще не столь успешным?
– А женщине приятно, когда помнят, какой у нее вороний нос был до пластической операции? Бывает по-разному. Не забывайте – люди обладают способностью к развитию. Два молодых, неглупых, обаятельных, во многом схожих человека, связавших свою жизнь в двадцать пять лет, в сорок пять оказываются разными людьми. Потому что один в это время развивался – и социально, и внутренне. А другой или замер, или деградировал. Теософы называют их не проснувшимися.

