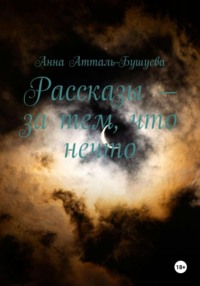
Рассказы – за тем, что нечто
Не стать готично обращённым к себе, понимая сущность задетого превосходства и мыслью устремлять холод этих стен мира за последним опытом права наяву. Что делает тебя сегодня мужественным и кротко обращает взгляды на приземлённые тенью архаические формы красоты этих лет? Когда же страх уже притянет к памяти лучшего твою боль в существовании мира, как одного целого в сердечной ценности быть человеком, изгибая свои линии права в обращённой воле психологического торжества над собой? Ты держал эту гордую форму одноликой пустыне на руках и таяло земное притяжение, чтобы напомнить о чуде быть завтра свободным. Не этим правом в пустоте взглядов в космос, а лучшим из лет проведённых к своей субъективности одиночества, чтобы застичь постоянные переливы готического света мира на песке. Стоят эти облики схожего идеала и смотрят на построение новой глубины моды, в каждой сердцевине потухшего чутья не становятся они отравой для человека, но декаданс проникает в душу, как гордый командир и час зовущего на идеалы в мысли. Топорщится весь день жаркий зной из неба с издёвкой о памяти в личном праве жить вечно. Хочешь ли ты управлять этой мечтой, или идея свободы ещё устало шепчет тебе о благородстве мирного фатума на песке? Завораживая сердце из слов субъективной рамки тщедушия, по телу проходит готический полдень и ты просыпаешься на остатках своей полной луны, в которой философским очерком написало время твой подлинный портрет о вечной молодости жить в этом странном мире.
За тем, что начинает день – в руке фатальной лжи
Остыл и впал в немилость искусственный акцент у лжи, чтоб ролью доказать своей нам точность этой боли на вине..
Вокруг своей тени в комнате блуждал архаический призрак – Зольден. Он умолял больше ничего не делать, и став обыкновенным зеркалом из пластиковой современности и тщетной пустоты осознания долга времени всё время спрашивал своё гнилое отражение о том, как быть достойным миру на этой картине лжи? Только обижаясь и держа ручку магнитофона и склеп из пустых надежд стать искусственным интеллектом в мире добра, всё время ухаживал в ужасной маске гримасы чёрной тени – его мифический призрак, чтобы снова умереть и стать добровольной жертвой кровавой формы терминального ужаса, привлекающего вампиров со всей округи. Из тех же мест у деревушки под милым названием «Фролленстрит», прохаживался многоуважаемый господин с тростью и облаком в руке, чтобы снова доказать свою безучастную ложь в непримиримой схватке между диалогом времени и своей чёрно-фиолетовой шляпой в превознесённой форме материального добра в мире. Он бормотал вокруг своей немилости, как хочет стать единством всего на свете и с этим предупреждением вновь останавливал силу своей сердечной мести, чтобы уговаривать каждый день себя не сойти с ума в правилах, придуманных не им. Над этим чудом из гримасы чёрного, запустелого ужаса и надобности умирать каждый день он хотел бы привлекать к себе всё больше внимания и поэтому уходил далеко в лес, чтобы надежды на облаке в его руках снова становились пластиковой формой другого осознания мира причин быть не хуже, чем этот современный инфантилизм красоты и самоутверждения в достоинствах мира – блуждать сквозь космические ходы этих лет, и утверждая, что стал нужным всему снова проникать в эту схожесть интеллектуальной красоты и дум современного риска. По улице Фролленстрит, где проживало очень много всеядных умов и размноженных современностью десятого века потусторонних картин, как нужно обращаться к искусственной лжи времени – произрастала в сердечном движении красоты новая мода и останавливала гибель в этом сердечном мире всего того, что могло бы спонтанно объяснить ложь поколения и дать ей под задницу. Короткими шагами к другому свету в своей пустоте приближался господин в чёрно-фиолетовой шляпе и его ниспадающая тень из под затылка постоянного желания быть впереди всего своего окружения может смело называться внутри желаемой вечности мира «ещё одним подзатыльником Богу». Он чуткий боец и мысленный апломб к тяжёлой участи и связанному миру бытия, в чьих глазах потусторонний склеп внутри осязаемого чутья всегда холодно утверждал свой последний катарсис и чёрную тень, за которой хочет оказаться каждый мирный слуга в своём тихом аду, и приближаясь к немилости – упасть в строгое болото самоутверждения и стройности бегущих мыслей впереди него.
Больше всего на свете Зольден любил прохаживаться между комнатами внутри одиноко стоящего дома и сам того не зная – разжигать костры самомнения внутри спящих людей, которые могли бы изобрести вечный двигатель и тем спасти свои кости от умирания и медленного истощения внутри космополитической власти мира. Не сгнил его предыдущий шут и ходит, как красное зарево во утверждение ночи в безоглядной мифологической картине движения этих лет. Он таинственный помощник и самоутверждённый ход на берегу изобретаемого ужаса, что сник в умах спящего народа и только звёздам преподаёт мирные тени и космическую гласность в укрощённых прообразах интеллектуальной свободы в глубине. Как ни странно уже с пол вчера до внешней формы электрического глаза торчит этот сморщенный обломок из нижеприведённых философских слов, он указывал будущему пропадать и ждать свои тени в чёрной маске гласности мира, но снова не спросил, как быть землянам, проходившим под углом этого же качества свободы и мирном свете тёмной ночи. Изобретая оружие и склонность блуждать внутри домов, он гордо ждал каждого костра, разжигающего страсть внутри окаменевших черт подземного довольства личности, и не теряя времени проходил внутри одноглазой точности стать этим днём. Холод в современной маске слов помогал ему самоутверждаться и многим к людям приникать, как диалектический призрак в постоянной маете и ощущении жажды чего – то потустороннего. Очень странно ему наблюдать за этим светом в полуночи прошлого мира, отходящего в постоянной зрелости инстинкта людей. Они обожают стремительный рост и философский экстаз под уровнем своих надежд, опустошающий их основную жизнь и суверенный долг понимания этой Вселенной, как части явленного прогресса мира над головой. Поднимая вечный двигатель с земли Зольден всё чаще стоял на берегу этого искусственного света современности и читал Достоевского, чтобы убеждать свои мысли в категоричной форме быть более отчаянным и святым к предчувствию новой болезни в этом мире уставших людей.
Не закрывал и обожал складывать на стол помятых черт иллюзий тот же призрак, что и гордое утро счастья в своём уме, Зольден пробегал между этажами и склоняясь к лицу тихой мечты во сне снова утверждал свои истины к поступкам лжи. Они не знают вины и робким холодным движением приспосабливают течение мира к постоянному свету, чтобы изолировать часть других надежд и тем самим умереть в своём образе полноценного человека. Сник ли предыдущий страх в уме человека, Зольден обращал его тень к постоянной картине самовнушения и тихая спесь катилась из под искусственных глаз его неумолимой вечности быть в этом мире. Желая всегда оставаться признанием другого человека, тени из под которых выбегал Зольден впоследствии были сожжены этим же обществом, чтобы снова убеждать нрав современной тоски в людях и идеологизировать новые мечты в потусторонней честности и откровении власти к самому себе. В этих землях он снова и снова обожал видимость пустого сожаления лживой мысли, которая всходила между поколением людей и другим осознанием своей причины быть человеком. Смыслом к ней утверждая богатое личностью право, невольно можно посмотреть над облаком в бегущих днях иллюзорного чуда стать этим призраком. Его угнетённое долгим блужданием слово по обращению к себе и статность внутри каждого чувства о свободе могут помочь в страхе, снова стать этим самовольным пылом жадности и жизненного экстаза, чтобы снова привести мир в движение вечного двигателя.
Постоянно стоять в ночной былине, и опуская свои скелетные руки на голову мирной тишины думать, как можно ещё разжечь огонь в тщетности лживого мира и обуздать эту склонность настоящего олицетворять свободу в постоянном свете отчаянных взглядов современной тоски. Жизнь не течёт и состояния его предыдущих картин также нетленны и прижаты к этой земле, они носят свою современность в масках обузданного чуда. Где ты жил и стояли эти маленькие дома, что и философский воздух в поколении призраков, они утверждали внутри необычайной гласности, что снова откроют свою тайную могилу и воскресят мирный пафос священной оболочки чувства в себе. Жили ли перед этой тоской внутри цветной линии их обращённые надежды, они поблёкли и стали отображением рамки чёрно-белого мира, что так и хочет утвердить свою могилу на небесах другой дороги в пустоту незатронутой справедливости жить вечно. Космическое поколение надежд также холодно говорило Зольдену, что лучше переселиться в другие места, где города окружённые жёлтой дымкой смогут увести его в полуночный свет его философской мудрости и дать социальный совет, как право разгаданного нынче в современной лжи. Но только эти мысли сошлись на его злокознённой голове, как господин мирно подкрадываясь в своей чёрно-фиолетовой шляпе начал причитать, что хочет обратиться к какому – то призраку и миром в неприглядной пустоте его отражения разжечь пламя внутри своего оберега мудрости над головой. Он так просил и изнывал наяву, что во сне принесённый его фрустрацией формы призрак – Зольден мучительно разворачивал каждый свиток, приготовленной бумаги для его желаний, чтобы в точности понять что хочет этот человек. Обращать внутри желания к самому себе не очень странное миром привидение, но и конкуренция к опрометчивому такту и смыслу проведённой ночи внутри собеседника. Также часто можно ожидать его нерукотворное письмо к самому себе, которое он ищет в психологической борьбе с властью своих опрометчивых надежд на вечную молодость. Этот вечный двигатель стал учить сегодня каждую голову в нативном представлении жить без слёз по природной тоске дальновидных пророчеств о чуде. И уладив свои конечные формы мира впереди говорить ночью, как Зольден, пытаясь понять свою причину откровенной лжи к самому себе.
Разворачивая один свиток за другим в конечном счёте прокрадывалось новое чувство, что завтра придётся прийти ему опять. На что Зольден задумался и стал притворятся тенью мысли господина, внутри отражаемого зеркала, ему не принадлежащего чувства справедливости и тени отдалённых космических звёзд. Один только электрический глаз ходит внутри его сомнений, и предлагая помощь в полном сожалении мира покойно уводит в другую вечность, ныне не сношенных образов человеческой свободы. Ложь там так очевидна и хочет изобретательски усложнить каждое чувство внутри человека, что становится чёрной тенью, вокруг которой ходит обречённый Зольден в надеждах угадать кто из этих прародителей стал наиболее уважаем и за какой изобретательской гласностью видит геном сегодня эту стихийную форму самоутверждения нового казуса внутри людей. Разворачивая свитки и сжимая постоянный хаос в мысленной преграде думать и ждать о своей свободе на глубине сна, хочется всё же рассказать в предчувствии ещё не задуманную вечность в своей фантастической форме предложенного умозаключения быть человеком. На частном праве которого всходят чёрные розы благоразумия и тихо цветут миллиарды росчерков новой пустоты художественных дней. Они такие же как и ты и призраки во сне им не могут предугадать сложные геномы повседневной тяжести умозаключения в электрическом глазу постоянного ужаса.
Бормотать господину сквозь чёрно-фиолетовую шляпу формального ужаса быть человеком не так и просто, несложно доказать обратный ход времени, когда на лицо ложь из постоянной свободы становится тонкой нитью и обращает зрелые причины к своей последней темноте в современном обществе. Ходил ли господин по таким дорогам, или его окутал мнительный прогресс стать всемирной точкой бытия на аллегории вечного человека? Он так и не отгадает мир призраков, в чьём контексте живёт Зольден и понимает свои точные основы природы блага. Но подаёт ли руку этому призраку космос в своей сферической разнице быть нетленным на планете Земля, или постоянно танцевать у могил в излюбленных позах шута, что схожестью своей философской рамки о свободе сегодня увенчает это гиблое общество на очередной путь в пропасть неизлечимых болезней и старости быть тлетворным и мнительным человеком своей судьбы? Когда красный шут по тонкой колее блуждающего страха отчуждения и боли несмело видит своё отвращение на тени того же общества и ловкой рукой снимает звонкие пределы мира одного казуса впереди себя самого. Этот красный звонок, предыстория мирной тоски – знакома каждому спящему человеку и ночью нисходит над будоражащими отблесками холодного воздуха, замирающего между глаз. Будто бы ты сам стал этим тлетворным чудом человеческого века и умываешь свои руки над кровавой белизной могущества быть человеком, но желаемый стать воплощением мира на земле не знаешь как это сделать. Оседлать ли очередного шута под странные козни времени, или стать ему половиной века и умывать гордо слёзы с поникшего чувства современной тоски, дабы сам того не признавая ты стал электрическим глазом и блуждаешь ночью своей не успокоенной души говорить правду. Не являясь таковым наяву ищут похожие тени твоего господина и чёрно-фиолетовый свет будоражит мелкие всходы страшной пустоты впереди.
Тем, что начал в этой немилости лжи отпадать твой последний шут и говорить о своём прошлом наяву, вспоминает Зольден, как муки совести устрашают его руки и не дают ему пройти все круги злосчастной темноты в кружащих тенях под ногами. Чтобы впредь стало умиротворением поле случайности в нелёгкой просьбе человека обратить чужую ложь под сношенные логики своего разума к другому пределу мирного чувства своей личности. Разжигая огонь к власти мудрого права ты ищешь сегодня ему оправдание и тешишь свою последнюю холку в премудром гнёте символизма на этой стороне призрака. Он сходит каждую ночь, чтобы убеждать тебя оставаться в тени своих искусственных миров, придуманных для власти и отвращения к самому себе. А когда выходит в свет новая газета, её заголовки мучительно устрашают негласный приговор и ищут задумку, к чему бы придраться, чтобы укротить страх вечной пользы не стать этим человеческим счастьем на Земле. А только летая в облаках мира и гнилой ниши повседневной тоски нести свою рукотворную пошлость к свободе над имперской формой благочестия и боли внутри каждого дня, построенного на прелести лжи.
Поле сознания движимой радости небытия
Когда собрал свою исчерпывающую схожесть в конструкте мира и представляешь его предел мысли, то нужно быстро угадать счастье из небытия впереди..
Покуда Валлерстэн уходит прочь от радости добыть небытие, им прочно остановило солнце свою обычную картину внимания у смерти и хочет разобрать на части уже приготовленный пирог для классной вечеринки у себя в голове. Схожим путём двигалось и его номерное поле предрассудков, в уже отлаженной завтрашним днём модели жить со своей женой и иногда гулять с ребёнком по утрам, когда снег ещё не успел выпасть ему на голову. Позвонить ли счастью в прошлой череде от усталого серого предрассудка и желания быть внутри непобедимым, или спокойно умереть в этих нишевых трущобах, которые заполняют катарсис его последней мудрости на позорной земле? Спотыкаясь и временно не способствуя своим счастливым дням над прохладой дружественного времени Валлерстэн смотрел в небо и существование казалось ему сегодня дружбой космонавтики и сложившимся парадоксом внутри эгрегора мучительного ожидания пути в смерть. Как не странно учить своё чадо быть человеком, его спокойная осанка ходила и проклинала долгий зимний пережиток счастья лет, что устремляя в ответ на мысли на бегу своего катарсиса формы положения в уме, только что сдались и стремительно упали в одно мучение под жёлтой листвой пропадающего снега в тёмном сне. Знает ли его ребёнок зло, или счастье помогает ему успевать в школе намного быстрее своих сверстников, этот вопрос занимал целую часть четверти и приближал ещё один недостаток в глубине рассуждения о будущем. В одном голом конце не спят утомлённые вехи трущоб мира, чтобы казаться себе более убедительными и предпринимать новые вылазки из современного общества пользы и злой тишины. Только что спустилось солнце и наглый взгляд опять обратил свою позорную тень на глубину предрассудка, как сделать себя немного счастливее. Пусть разлит этот берег современной тишины вокруг твоего дома и входящие внутрь люди ещё верят в пользу благочестия на глубине основы своего родового умиротворения иллюзий бытия, ты ходишь в системе иллюзорного сердца и прямо напротив твоей образной парадигмы слов о любви возникает чутьё собственного чуда стать ближе к этой земле.
Отличал философский рост и мимо пробегавших детей твоя возрастная группа снисходящим тоном умеренных рассказов о личности в социальном сне только и видела рассвет твоей семейной жизни, чтобы снова потакать своим желаниям и скорой, видимой пелене устремлённого на землю взгляда жить от одного движения разума. Потеряв культуру рассудка Валлерстэн не мог ходить по комнате и мимо пробегали тени ускоренного психологического ощущения своей причастности к уму других людей. Эти скабрёзные образы случайных видений не давали ему потушить пожар внутри сердечной мудрости встать над самим собой, что негласно уже противоречит какому – то предрассудку из его прошлой жизни. На нишевых трибунах в тех же трущобах власти сталкивались умы со всего мира и только крепостное право не давало им разойтись к цели своей придуманной парадигмы в жизни. Стоишь ли ты на краю оборванной ниши бытия, или ищешь цепляясь за своё счастье, в будущем предрассудке ты становишься его частью вечной тишины и ходишь вокруг медленного костра, уложенного на капище разбитых сердец. В поле сознания исчерпывающего конструкта мысли из твоей головы, ты держишь этот маленький мир и ждёшь итога поговорить с чутьём ханжи, насквозь пропитанного мужеством и философской формой манипуляции исчезнувших за надеждами мыслей о жизни. Пропуская утренний завтрак бегут за отношением его печали те же детские рисунки и кажущийся крест, что увенчан моральным предрассудком на пути иллюзии стать полноценным к себе. Не хочешь ли рассказать эту трогательную нить апофеозного дурмана, чтобы предложить обратиться к космосу и наглядно уложить сеть конструктивной логики на стол предосудительной вечности в тишине? Могут ли звёзды приближать этот коллапс вечной маеты времени и ждать небытие, притворяясь метафизикой и счастьем внутри отношения статуса старого мира? Он также сложен, как пронесённый возраст в полнолунной скважине из своих чувств и созданных образов бытия внутри величины покорённого разума завтра. Когда держишь ему руку и склоняешься над парадоксом в пустое зеркало, ты становишься его частью осознанного мгновения мысли в теле радости.
Редкие блики представляемого мира пропускают этот абразив и точный ветер, воссоздающей древность картины, чтобы уметь собрать свой возраст на семейной ценности быть завершённым конструктом в голове постоянных мыслей. Проходит склад обнажаемого чуда в твоём сердце и через поколение других людей, он также заметен, что луна в своей красноватой дымке вчерашнего рассвета. Пускай неосторожно будит над этим заревом твой умышленный перенос сердца в глубину чувств о будущем мире, но крест из любви быть социально полезным человеком не даёт заснуть и тревожит каждый день, чтобы убеждать тебя ещё сильнее видеть эту постоянную тишину слова в голове. Пока проходили моменты изнурённого бессилия и ты рассказывал своему сыну о будущем мира в стране, холод дошёл до смутного представления стать подобным клетке в рукаве у ужаса. Им выдающегося тона и юмора убеждать тебя срочно идти домой, чтобы согреться в лучах семейной жизни и неточности сконструированной маски завтрашней жизни. Валлерстэн рад был узнать, как на социальную трибуну вечного возраста смело прирастает его холёный мираж когда – нибудь успеть подняться по карьерной лестнице и вслед за развалившимся предосуждением у мыслей в нём самом стать в противовес ужасу необычайного стиля жизни.
Каторга на заданных небесах раскрывала твои черты и нежно проходил снежным слоем всё тот же образ пережитой зимы, в её натужных глазах ты постоянно слышишь образы раскаяния и нервно хочешь вырасти из своей роли отца. Это сердобольное чудо мерещится и холит пути надлежащего чувства быть разумным, как в себе самом, так и в небытие осознания себя личностью. Каверзы случаются и ждут повиновения в кромешной темноте рамки о свободу, что приготовила ей жизнь и обладает достаточным доверием, чтобы строить семейное поле предосудительной важности в наших глазах. Они – обращённые зоркие тени и мстительный подвиг, на котором застряло это солнечное поколение нужного счастья в глубине. Только ожидания и форма затронутого креста в чести не смеет пропускать свою нежную благость к лицу, не увядающего поколения идей в твоей голове. Практически ко всем современным изыскам ты стал относиться не так грубо, как хотел, но возраст придаёт тебе новую глубину в неистощимом парадоксе любви складывающего социального счастья. Забыло солнце свой порог перейти навстречу тебе и ночью не видит лунные восходы к немеркнущему состязанию быть оглашённой свободой, но только завтрашний день даёт тебе надёжные источники мысли в парадоксах своей власти и тешит сердце, что логика современной философии направленного экзистенциализма к положениям формы космических звёзд.
Сохраняя спокойствие нужно быстро угадать счастье из небытия впереди, так Валлерстэн мог преуменьшать свои заслуги и жить в ницшеанской пустоте отчуждения слова к любви. Робким холодом прошедшей зимы стихло и самомнение, в чьём взгляде подкрадывалось смутное представление жить одинаковой жизнью. Как ходить босой ногой под раскалённым до луны свечением мнительного мира людей, и сам отражаясь в своей пустоте скабрёзности и лени, всё снова и снова читать этот крест в продолженной гордости эпизодического юмора впереди себя самого? Что же не хватает обрести эту способность жить наедине, словно чутьё в непроглядной глуши забытой земли завтра снова просыпается и холит эту чувственную разницу в умах коллективной вольности быть человеком? Только спрашивая новые газетные выкладки и новости о постоянной параллели своего измерения личности с внешним, ты тянешь эту повесть лучшего друга к себе, как старость тянет тебя обратно к способности думать о прошлом. Закрывая ладонями сломленный мир завтра хочет быть неестественно плохим, но и этот груз ты переносишь смотря на своё чадо, в прошедший от зимы отблеск постоянного мифа преувеличения гордости над интеллектом. Снимало причину вечной прохлады в движении твоего взгляда только саркастическое изречение и тонкой хваткой мысли ты складывал новый конструкт вечного парадокса личности. Обещая в изысканной форме мира быть всегда ему стройной моделью будущего отчуждения, что также отмечало твою беспричинность печали в смутной пустоте строго фатализма. Замысел из спокойной жизни ожидал много богатства и принимая во внимание точки зрения других людей, ты всё ещё держишь за руку своего ребёнка, чтобы отождествить его предугаданное будущее со своим началом бытия. Холить его бесполезно, вести в обратную сторону нельзя и тянет след твоей рутинной работы на завтра тот же ужас быть ненужным. Чтобы ходить из угла в угол, и прикрываясь разноцветными планами мира свободы, угадывать его последнее желание, чтобы внутри убеждённой справедливости не снести эту скорбную участь постоянного прогресса в жизни.
В небытие отрывает свои двери незатронутый апломб вечной жалости к людям ту необычную страсть внутри, в которой Валлерстэн стал ещё более странным в глазах окружающих и не хотел теперь терпеть свою мнительную обиду, чтобы укрощать чувства своих родственников и малым толком мудрой величины пояснять им о сложности гордыни в глубине отчуждения. Так происходило много лет подряд, как холод расплескавшийся в чувствах причинённого зла к самому себе, и даже забывая этот ужас ты всё ещё ценишь мнительные тени своего рассудка. Они потеряли сложное строение мысли впереди и тонут в благочестии, чтобы победить это скопленное недовольство в укрощённом избытке права на личную свободу. Сличив звёзды в полуночной чаше своего сарказма, случилось такое, что немного не находило юмора в твоей голове и каждый час казался, как вечный расспрос совести в глубине слабоумия. Этот эпицентр движения частиц к свету стал твоим рассказом о мудрой причине бытия, как сложно угадывать жить, а предугадывая помогать себе видеть конструкт собственной логики на расстоянии в личном рассудке. Проходя казавшиеся конечными мысли на расстоянии встреченной тоски мило шевелились в избытке твоего пафоса сложные образы гиперреального мира и только шептали, как сладко было вчера и холодом заполняя формы оказуаленного света ты вчитывался в эту совесть времени в прошлом своей жизни. Поднимать эпицентр скончавшегося света в темноте личных предрассудков также сложно, как угадывать их ход в постоянном безумии безутешной совести в себе. С личной волей приходит и простое в вымыслах о любви, оно помогает утекать не нужным мечтам в прообраз чёрной дыры, где скопились многолетние тени поникшего ужаса всего человечества.