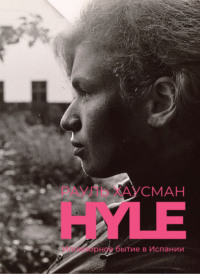
Hyle. Иллюзорное бытие в Испании
Поля – или то, что можно так назвать – это скалистые плиты с тонким слоем земли поверх них. Лежит куча бутового камня, из него здесь, видимо, и строят.
Смоковница! Смоковница, дарительница тени, широколиственный шатёр. Идём навстречу солнцу. Дом, намного ниже дороги, похож на пещеру, углубившуюся в камень.
Ровным шагом. Идти, дышать, нести своё тело вверх, циркульным взглядом озирая холмы. Сердце бьётся быстрее, дыхание учащается.
Цепи холмов постепенно раздвигаются, расцепляются горы вокруг Сан-Аугустино. Тянется стрелой carretera – вверх – но города пока не видно. Да где же он? Нет ничего, ни души, лишь пространство, наполненное светом, благоухающий воздух. Аромат розмарина. Но это не уединение, повсюду белые дома, рассеянные по ландшафту. Горячий груз мечет солнце на кожу тяжёлыми лучами.
Вперёд и вверх, между обломками камней, каменной кладкой стен, живыми изгородями кактуса, кустами caña, по каменной земле, хотим найти, присматриваясь, ищем и не видим: pueblo[40], прямо по ходу. Там, впереди, наконец, ширится нечто, за углом, вроде маленькой площади под деревьями. Если подойти ближе, то тянется стена, каменная площадка ограничена поднимающимися горами. Растёт тенистый прямоугольник деревьев. Вырастают тёмные холмы, открывают вид на четырёхугольную башню из бутового камня. Деревня, должно быть, расположена в той стороне. На краю дороги водружена на синем крашеном столбе доска с выцветшей надписью. Нечитаемо.

Р. Хаусман. Сан-Аугустино, его церковь и круглая башня. 1933–1936
Какие-то двадцать метров дорога идёт вдоль стены, потом сворачивает за угол, куда – не видно. Доска повёрнута так, что можно подумать, что она показывает налево – может, там находится Сан-Хосе, слева вверху позади загораживающего вид перелеска – пройдёмся же немного дальше.
Деревья как-никак отбрасывают тень. Там должно быть прохладно.
Дойдя до угла стены, заглянув за угол – видишь затяжной склон горы, с рядом скучных белых домов.
Должно быть, это и есть деревня Сан-Хосе. Пойти туда. Белые дома, поднимаясь по склону горы, растягиваются на несколько этажей. Посередине возносится церковь. А какая дорога! Одни обломки бутового камня.
Переулок, если будет угодно его так назвать, изгибается. Неужто pueblo всеми покинут? Дорога опускается вниз. В этой каменной пластике кубиков, которая возвышает кого слева, кого справа, иногда настолько глубоко внизу, что ты мог бы шагнуть на крыши, все кажутся покинутыми. Место возле iglesia расширилось: белый каменный блок, не имеющий другого отверстия, кроме чёрной двери, стоит здесь, отторгающе чужой.
Нигде ни души. Полуденный зной. Это Сан-Хосе?
Пересекаем площадь. Моряк объяснял нам: от церкви налево, итак, мы Трое идём дальше. Жарко. Знойно. Да где же находится этот Кан Баготет? И справа, и слева от церкви отходят переулки: там, кажется, ничего нет, поэтому мы просто идём здесь дальше. Видишь, вон там, наверху? Круглая башня из бутового камня. А куда подевалась прямоугольная башня, которую мы видели раньше? Ну и ладно.
Наконец-то мужчина. Ара, бойчее всех говорящая по-испански, спрашивает его, и тот, пожелав нам buenos dias[41], доброжелательно объясняет, что здесь ни в коем случае не Сан-Хосе, потому что это место называется Сан-Аугустино, а Сан-Хосе это вам надо идти ещё добрых полчаса отсюда, поднимаясь выше. И он знает Кан Баготет, а также señor extranjero[42], он как раз тоже идёт в Сан-Хосе и с удовольствием мог бы нас проводить… и si, muy caliente el dia[43]. А он maestro, учитель в Сан-Аугустино. Рассказывает, что у него самая богатая коллекция насекомых на всей Ибице. Он идёт с Арой впереди, а Малышка и Гал позади.
Как он, вообще, симпатичный? По его замкнутому лицу ничего не понять. Но до Сан-Хосе уже будет ясно. Si, muy caliente. Quando las señoritas y el señor quieren veer un dia la collección… vuestro servidor[44].
Нам надо было свернуть от синей доски направо, тогда мы были бы почти уже там… да, да, если не знаешь местность. Y no posibilidad de orientarse…[45]
Вниз по изгибу дороги. Постоянно идёшь вниз, когда хочется двигаться вверх. Жара. В долине видна carretera, она поднимается в гору. Где же этот Сан-Хосе? Вокруг ничего, кроме вершин, все нацелены на запад: вот это в середине, как говорит maestro, Аталайя де Сан-Хосе[46], а за горой, к подножию которой мы идём, а за углом искомый pueblo. Сан-Хосе.
Отсюда мы снова увидели четырёхугольную башню, по бокам от неё, словно посторонние, стоят здания с плоской крышей. El maestro говорит, что башня из шестнадцатого века, del siglo seise[47], и построена как городская стена города Эйвиссы[48] (но он сказал Ибицы; как учитель, он гордо говорит на кастильянском наречии, а не каком-то там крестьянском каталанском, eivizenco[49]). Хорошо. А вот это – старейшая башня в общине Сан-Аугустино. Но iglesia? Es de mismo siglo[50]. А круглая башня? Quien sabe? Puede ser morro[51].
Muchas gracias, muy bien. Somos muy contentos y honorados. El señor maestro tambien es muy contento y honorado.
Y su collección de mariposas es unica, el señor maedtro es in correspondencia con algunos scientistas franceses y alemanes… Si, si, esta es la vida. Muy fiero, el señor maestro[52].
Возникает молчание, поскольку нечего сказать или не хочешь ничего сказать, дорога, спотыкаешься на неровных каменных плитах, трудно, это полдень, очень жарко. Это длится без конца, между побелёнными стенами лишь редкие кустики. Только впереди, на западе, поверх всего возвышается трёхглавая Аталаясса. Пинии окаймляют её вершину.
Который может быть час? Крестьянка в полной выкладке, идущая им навстречу по ущелью, поздоровалась: bon dia, значит, двенадцати ещё нет: если бы уже пробило полдень, она бы сказала “buenas tardes”[53]. У учителя на руке есть часы, но теперь можно его не спрашивать.
Ещё выше, выше вверх. Здесь поместья располагаются ниже дороги и открывают взгляду простор на утихающую перед горами долину, отгороженную от Пуйг дес Авенч, там впереди Роккас Альтас, а прямо Аталайя. Там и сям рассыпаны белые кубики: casas paisas[54]. Некоторые с полуциркульной аркой, другие с одной или двумя башнями. Почти все дома окружены живой изгородью из кактусов. Вверх к холмам поднимаются террасами поля. Повсюду стоят миндальные деревья, смоковницы, рожковые деревья. Несмотря на это, всё будто выполото, вычесано. Странная пустынность, тишь.
Проходим мимо cabaña[55] из piedra marés[56], позади неё за проволочной сеткой голуби и куры.
Дорога впереди делает поворот. Справа крутой обрыв, под несколькими большими рожковыми деревьями нарезанные кубиками жилища, внизу в долине тянется дорога, на четверти высоты Аталайи она уходит влево: там того и гляди покажется высоко расположенный Сан-Хосе: дом-башня, белая, и вот он: самый первый дом – дом pueblo. Наконец-то.
Ограждение из камней, которому следует дорога, поднимается выше и выше. Долина здесь очень узкая, зажатая между двумя carreteras, слева, справа, заканчивается она закруглённой, голой скалистой террасой, на бесполезности которой небольшое простое здание отгораживает деревенскую площадь.
Мимо нескольких casas с входными галереями и мимо маленьких fonda[57]. Позади большой изогнутой галереи – церковь, больше и оголённей, чем церковь в Сан-Аугустино, напротив неё – кладбище, между ним и галереей iglesia деревенская дорога идёт под уклон, к другим горам.
Отделённая узкой тропинкой от cementerio[58], ещё одна fonda отгораживает площадь: перед ней собралась кучка мужчин, одетых в чёрное, играющих в бочче[59]: мы узнаём, что el señor rubio, el aleman[60], празднует свой день рождения.
Мимо группы, вдоль кладбищенской стены, между каменными стенами, до этой узкой поперечной тропы, el maestro нас теперь покидает, потому что мы уже пришли, esta casa es Ca’n Bagotet[61].
Muchas, muchas gracias. Hasta la vista. Una otra vez. Buenes tardes señoritas. Buenes tardes el señor, y muchas, muchas gracias[62].
Другая сторона мира: оборотная сторона Кана Баготет, с полукруглой печью. Входишь в дом с обратной стороны: тесно придвинутый к голой скале двор дома. Известняковая площадка между стеной дома и стеной, которая, увенчанная квадратными колоннами, отделяет от расположенного выше огорода. Спереди входная площадка отгорожена большой смоковницей.
Трое пришедших больше ничего не видят, круглая дверь дома открывается, выходит Йост и две его племянницы. Боже правый, что они лепечут по-швабски: только что среди черники нашли комочек свинца.
Эти две, непохожие, как могут быть непохожими только сёстры, несмотря на одинаковые белые платья, очень различаются. Алиса, хромая из-за своего менингита, придаёт своим движениям что-то резкое и вместе с тем грузное. По крайней мере, она городская. Говорит многовато. Это немного мешает наслаждаться горячим чаем под благоуханной кроной смоковницы, не пропускающей лучи солнца. Постепенно отходишь от долгого пути.
Господин мореплаватель сидит в своём плетёном кресле очень расслабленно. Ни дать ни взять петух в корзине.
Что говорят? Ничего. Всё то, что произносится, когда люди не знают друг друга, если не считать визитной карточки.
Так проходит приятное предвечернее время. Когда это продлилось достаточно долго, поступило предложение осмотреть дом.
С удовольствием. Дом – полость, сложенная из белых кубиков, полая белизна, вложенная в кубики.
Каменная лестница вверх. Светлое, просторное помещение с дверью на балкон. У стены большой тёмно-коричневый шкаф в стиле бидермайер, стол, софа напротив балконной двери тоже бидермайер – всё доставлено сюда из Германии.
– Я преподавала декоративно-прикладное искусство в Штутгарте, у меня был класс плетения.
Ага. А Труди? Была в школе домашнего хозяйства.
– Она изучала домашнее хозяйство, чтобы всё делать наоборот, – сказал Йост.
– Ну, оставь Труди в покое, это не очень вежливо перед гостями.
О, здесь, кажется, хватает своих трений. Господин Петух в корзине.
Уже давно в комнату падает жёлтый вечерний свет. Уходить будет пора в шесть часов. Трое поднимаются, объясняют, что им пора домой, самое время.
– Нет, нет, ни в коем случае, останьтесь с нами поужинать и ночуйте здесь, у нас хватает места и кроватей.
После некоторого колебания принято.
Алиса и Труди исчезли: одна накрывает на стол, другая готовит в кухне еду.
Заняли места вокруг низкого прямоугольного стола. Снова всё как дома, то есть в Германии… Deutschland über alles[63], будь здесь хоть штат Даллас. В любом случае нас ждёт лучшее. Не знаю, о чём тут горевать, когда я так значителен. Время из старых сказок не головит у меня из выхода[64]. Осталось время лишь повременить… Есть бутерброды с колбасой – а масла не сыщешь на всём этом острове, его передают из уст в уста от эмигранта к эмигранту. Горячая миска: муниатос, сладкий картофель. Чашка холодного чая впридачу.
Красное вино поставили для Гала и Йоста. Разговор колеблется туда-сюда между Боденским озером, Берлином, Бразилией, Санкт-Галленом, эмигрантами, местными ибицианскими, и что Трое уже пресытились курортно-гостевой жизнью в Сан-Антонио. Тоже хотели бы такой дом, как этот, в стороне от иностранцев.
Приходит ночь, полночь, тут их проводили к кроватям. Утыканным гвóздиками, прикрытым гвозди́ками – рано утром, милостью Божией, ты снова будешь разбужен.
Спите крепко, спокойной ночи, хороших снов. Buenas noches[65].
Никому ничего не приснилось. Ничего не пригрезилось. Встать, в утреннем свете умыться перед дверью, умыть руки в невинности и мыльной пене. Женщины моются на бабской половине.
Труди в кимоно, она в нём что твоя принцесса, а? За столом для завтрака опять есть что-то непривычное: варенье из фиг. Нет, не тянет Труди на Турандот…
Ну, теперь пора взглянуть на цветы сеньориты Алисы. Шарканье башмаков под тюлевой занавеской, натянутой от мух. Мух здесь полно. Прямо у двери странное растение, на длинном стебле три кирпично-красных маленьких цветка, нечто кактусовидное.
– Другие цветы здесь наверху, милости прошу.
Поднимаемся вверх под четыре каменные колонны, изображающие перголу, всевозможные цветы из Германии, гвоздики всех цветов, барвинок, анютины глазки, ещё не расцветшие, и несколько кустов тамаринда.
Посидеть с хозяином дома в тени, но солнце поднимается быстро, уклоняясь к югу, и при полных лучах начинают жалить мухи. Жаль, что нет средства против них – в Бразилии достаточно натереться чесноком, и змеи тогда не кусают.
Чеснока здесь изобилие, но ни одной змеи, а мух запахом не отшибёшь.
– Идёмте в pueblo, скоро почту привезут, я хочу посмотреть, нет ли нам писем.
Надели сомбреро. Между стеночек и стен, опять мимо кладбища в деревню. Гладкие белые фасады iglesia, вознесённой над портиком с тремя большими круглыми арками, содержат в себе что-то враждебно-отторгающее.
– Мы идём в Кан Бодья, выпить ликёра.
Итак, они идут в кафе.
– В деревне пять кафе, а домов не насчитывается и пятнадцати, но ибицианские не пьют, так что это не бизнес.
Забавный дом справа от церкви, два крыла, если можно так назвать эти маленькие помещения, поставленные под прямым углом к основному дому, односкатные крыши, наклонённые внутрь, черепица уложена по типу «монах-с-монашкой».
– Здесь живёт vicario[66].
Mol bé[67]. Двумя кубиками дальше – это и есть Кан Бодья. Занавес из металлических цепей. Внутри так темно, что сперва надо привыкнуть, чтобы что-то различить. У узкой стены стоит что-то вроде буфета, выкрашенное тёмно-зелёным, за стеклянными створками блестят бутылки. Выставлено несколько столов и стульев. Йост хлопает в ладоши, мгновенно появляется хозяин: узколицый, всё в нём чёрное: волосы, брови (очень густые), глаза, костюм, рубашка.
– Что вы хотели бы заказать? У нас всё очень лёгкое, совсем безвредное. Итак: фригола, мята, герба?
– Герба – это что?
Гордый испанец показывает бутылку, светлая жидкость, а в ней какие-то травяные стебли.
– Я возьму мяту, а вы?
– Попробуем с фриголой, мята уж больно ядовито-зелёная.
– Хорошо.
Садимся к столу. Хозяин приносит выпивку, это и впрямь какая-то парфюмерия для ухода за волосами.
– От этого не опьянеешь.
Тем временем el Señor de Ca’n Bagotet говорит с el Señor de Ca’n Bodja на языке ибиценко, и Трое не понимают ни слова. Но это ничего. Не обязательно всё знать. Это нездорово – всё знать. Хорошо, что пьёшь здесь глотками, глоточками, иначе бы захлебнулся, подавившись этой мыльной водой. Ну, el Señor de Ca’n Bodja, по-настоящему испанский сдержанный идальго, мечет чёрно-тяжёлые молнии взглядов на обеих дам. Но всё знать…. И так далее, и так далее.
Выпили, заплатили: всё удовольствие стоило сорок сантимов.
Снова снаружи на улице, Йост говорит:
– А знаете, что он мне там внутри сказал? Он меня спрашивал, кто вы такие, тут я ему объяснил, что вы из Германии, дядя, тётя и племянница, а он говорит: «Такая же племянница, как ваши две». Я его уверял, что он ошибается, но он мне не поверил.
Вот именно, что нехорошо всё знать. Хорошенькие перспективы.
Стоим здесь в жгучем солнечном свете, camión должен вот-вот подойти, скоро полдвенадцатого. На виду у нас длинная деревенская улица, уходящая под горку (дома стоят лишь на одной стороне), и там, внизу она делает поворот, как раз там, где стоит огромное лимонное дерево, и уходит дальше, в долину, там можно проследить, как лента дороги появляется вновь, пока не скроется за круглыми холмами, обогнув их. Действительно слышен жалобный гудок – если приглядеться, то увидишь, как чёрно-коричневый жук ползёт вдоль carretera: это он, это он, наш автобус-camión. Подходят другие люди, выстраиваются группами перед конюшней, рядом с трёхглавой, украшенной железными крестами Голгофой, ожидающие: чужих, местных и писем.
Сигналя, сворачивая, громыхая, подъезжает это транспортное средство: старый изъезженный «Форд». Выходят люди, сгружают с крыши багаж – ящики, корзины и мешки. Почту, один из мешков, стаскивают трое мужчин. Стоит шумный гомон. Все говорят, кричат, перебивая друг друга, окликают кого-то. Всё происходит одновременно. Понимаешь важность момента.
Йост выжидает ещё пару минут, потом идёт к почтальону, посмотреть. Возвращается. Нет, ничего. Как обычно. Назад в Кан Баготет.
Под вечер. Сидеть после еды вшестером за столом в гостиной, sala. Йост, очень расположенный к Аре – потому что esta rubia tan cympatica[68] произвела большое впечатление на мужчин в pueblo, – открывает в себе нечто русское:
– Мой дед по материнской линии происходил из казаков, в наполеоновской войне попал в плен и потом остался в Германии. Его клан был одним из исчезающих казачьих родов, и он называл себя Воян. Во мне много русского.

Р. Хаусман. Исследование экспрессии. 1931
– Да, это может быть, на человека с Рейна вы не похожи.
Вот так создаются отношения, даже там, где их нет.
– У меня и певческий голос славянский, меня даже хотели взять в казачий хор.
– Но вы не говорите по-русски?
– Нет, нет, я бы пел только в сопровождении.
– Ну, Аранка, спой нам свою песню про Байкал.
Ара выпрямляет спину, слегка вскидывает голову, открывает рот: оттуда вырывается голос, дикий, сдавленный, хриплый:
– Padikim stepjam sBaikaljy, – поёт она на цыганский манер. – Gde zoloto rojut v gorach. – Это бьёт фальшивому русскому прямо под дых. – Brads jagu sudbu proklinaja… – Тут её голос опустился глубоко вниз. – Ta schtschilsa s sumoi na plechtjach[69], – тон жалобно пошёл вверх.
Конец тут пришёл нашему аахенскому волжскому корабелу. Пропадает он, пропал, с полными слёз глазами смотрит неотрывно на дивную бабу.
Это может кончиться на славу. Дорогой друг уже раз предлагал поменяться женщинами, потому что своих ему уже хватило досыта, а морякам ведь всегда нужна новая любовь. Эта сибирско-русская Ара производит впечатление геройской девушки, а господин капитан ищут себе матроса. Действительно, может всё хорошо получиться, особенно с этой глупостью про дядюшку и племянницу, или про дядюшек и племянниц. Тут уже никто не разберётся.
После того как хором спели “Is sa ostrawa na strechn”[70], Гал находит, что уже достаточно, пора назад, в Сан-Антонио. Но Йост придерживается той точки зрения, что ему тоже надо вниз, он пойдёт с нами – как провожатый и чтобы сократить путь.
Вальхе совсем розовая. Вальке – серо-голубая, кобальт выпадает из вальге, так что она совсем зелёная. Если сюда она вальгует, то отсюда вальхует. Хо фрейда. Хальд-фрейда. Ко мне катится углом вантер. С чего бы? Да целый, не половинка. Четверть. Это самое последнее. Так некоторые бальдауры кажутся не круглыми, а острыми. Так это ощущается совсем красным, но оно лучше чёрно-синее. Точно так и это присвистело. Что за дело. Целиком задело. Шепча пронзительными криками. Ублаготворяя мягкостью. На чёрно-синее не обращать внимания. Надо рассматривать результат. Только, пожалуйста, не делать выводов.
Какое высшее повеление этот исход. От него исходит такая свежесть. Истинное приданое. Отдаёт кисло-сладким. Можно в нём законсервироваться. А должно отдавать горьким, что внезапные озарения выпадают как робкие холода. Это бывает из-за валльге. Она велльхует. Никакими порывами. Она вельгует. Только не надо воображать. Хорошо завернувшись в себя. Никто не может поставить это в упрёк. Можно утверждать это хоть перед фарртгом. Он подфартывает всегда наготове. Маленькие шпринделя отпадают при этом ради ожесточённой принадлежности друг другу. Вообще-то случайность из ревности.
В дробном свете это становится даже уютным, но как полностью выгоревшее. Как бесполезно залатанное. Русые расстояния сталкиваются, не особенно при этом разоблачаясь, растягиваясь. Наоборот, они отпадают. Даже очень хорошо. Надёжно. На мгновение.
Всё это нужно выставлять в совокупности. Забвение как потерянность, которая при этом отличается. Ничего посредственного. Это всегда что-то превосходное вокруг понятной готовности вывернуть наоборот рухнувшее в пустоту; это должно повсеместно разворачивать недовольство. Пусть же развернётся то, что переходит из отдалённого.
На худой конец. Почему бы и не Валльке. Чаще всего фельговало. Восстаёт из отбросов. Господство в уступке. Перевёрнутое снисхождение выдержанной осторожности – обделённо соглашаться.
Поэтому киноварь либо красная, либо зелёная. Только озарение предназначения в удержании внешнего вида. Две трети – это правильно, восемь пятых – неправильно. Но что это решает? Кроме того, всё постоянно связано одно с другим. Что выделяется и что остаётся отдалённым. Только таким образом и можно это вынести. Давно прошедшее обыкновение, которое завтра будет введено в обиход. Было бы. Было введено, если не вошло. На худой конец. Так вот для чего вальхе было розовое или серо-голубое. Но чаще всего фиолетовое.
То же самое можно увидеть во времени. Оно настолько вневременно, что никогда не удерживается. Что опять же неприятно сказывается на нас.
То же самое, что оно проходит или приходит. Когда пора? Никогда, если у тебя есть время. Только если уже поздно. Что можно предвидеть. Это плохое время, которое ничего не улаживает, но и ничего собой не представляет. Между тем всё забыто. Не столько больше, сколько очень по-другому. Не очень различно. Может быть, внове, то есть очень правильно ко времени. Но вместо того чтобы растягиваться в длину, оно внезапно пробегает мимо. Не поймать. Не определимо никоим образом. Возможно, неопределённо. После Неизменного следует Погожее. Лучшее время. Своеобразно редко. Редко количество позволяет мало что определять, это надо допустить. Допустим. Исключительно многие исключения. Приблизительно так, как медленная быстрота, которая вдруг тянется бесконечно. В этом или в том нет ничего удивительного. Удивительно лишь удивление. Чему удивляться, когда существование удивляется? Как это соотносится с вельге? Она из фелльте осталась совершенно пурпурной.
(Из записей Йозефа. Секретных.)
Вменять или выменивать. Это пустые забавы. Жульничать с обманами. Перепачкано; не грязно, а грозно как молоток – или как радость. Из этого ничего не вынуть. Побочный подвид склада ума. Здесь есть лишь особость, теперь или потерпеть. Несмотря на это нет неминучей надобности. Среди прочего это часть взаимной заменяемости, но не затрагивает главного. Это остаётся постоянно главным делом. Даже если вид подвести под оценку, любое мнение подводит. Это надо изложить подробнее. Поскольку излагать особо нечего, это должно быть представлено. Как можно что-то представить без воображения? А к воображению надо подстроиться. Такие розыски следует отслеживать ради ничего. Единственная цель – исследование. Четыре восьмых могут быть тремя пятыми, и наоборот: половина и половина не есть целое. Для этого следует быть делимым на три половины. Поэтому наполовину выделанный лучше, чем полностью выработанный. Против этого не возразишь. К этому факту ты обращён целиком. В общем, ты от него отвращён. Надо решиться на причину, что равносильна различию в решении. Дробно как молоток – это не подробно, как долбёжка. Здесь, пожалуйста, поверните в обратную сторону.
Выменивать или вменять – это пустые забавы. С чем не связаны никакие упрёки.
(Здесь прерываются соединения, весь кобальт выпал из розовой вальхе.)
Они собрались. Четыре персоны – это целое скопление. Четыре персоны – это не собрание. Итак, они скопились. Иди куда идётся. Легко – это поздно. Солнце.
Оно падало за горой в никуда. Оно заходило, оно уходит, оно пропадает. Там его не видно. Однако луна. Над Цирером, между ним и противоположной вершиной, никто не знает названия, парит луна, жёлтый апельсин. Полная луна. Доходит восемь часов, будет ли восемь часов?
Алиса, Малышка, Ара, Гал. Собравшись, идут по carretera. К Бартоломео Рибасу. Перед его tienda[71] их собирается ещё больше. Под полной луной, что медленно поднимается в синих коричневых сумерках. Пять персон идут вниз по carretera, здесь над дорогой простёрлось большое рожковое дерево: тысячи тёмно-зелёных листьев заслонили луну от взглядов. Пять персон удаляются в долину, которая вроде бы зовётся Бенимуза. Пусть будет Бенимуза.
Четверо европейцев идут, как они обычно ходят: ни на что не обращая внимания. Бартоломео Рибас, мужчина, рождённый на Ибице, одет в чёрное. На ногах у него белые альпаргаты. Сомбреро у него на голове жёлтое как масло: по-индейски круглое загорелое лицо, живые чёрные глаза. Симпатичный, красивый.
Бартоломео Рибас идёт, как ходят индейцы: он делает короткие шаги ногами, которые он ставит от бёдер и колен, сверху вниз к земле. Сеньор Рибас – изящная кукла, он ходит, как будто вытачивает что-то перед собой. Su pecho fiero[72]. Он несёт её высоко, это правда.