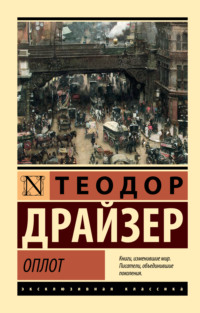
Оплот
Другое мучило Джастеса Уоллина. Во-первых, малый рост – до сих пор, не говоря про юные годы, Уоллин завидовал крупным мужчинам. Но главное, Уоллина раздражала, подобно занозе, эта тенденция – помянуть походя (а то и осудить) растущее благосостояние столпов местной общины, а заодно и косные их взгляды. Грешили этим равно Друзья и не-Друзья, и Уоллину было досадно, ведь к столпам он относил и себя самого – по крайней мере, в аспекте материального достатка. Чистой воды хула – какой же Уоллин сноб, при его-то гибкости, при его-то демократичности? А что до земных благ – они бренны, в чем Уоллин ни минуты не сомневался. Подобно Руфусу Барнсу Джастес Уоллин был воспитан в атмосфере глубокой религиозности. Вера пропитала все его существо, и он не терпел подозрений в ее фальшивости, в том, что соблюдает квакерские обычаи лишь напоказ. Джастес Уоллин не считал себя выше других, потому что разбогател исключительно благодаря упорству и умению быть полезным, никого не обманув, не обжулив; да, именно таким путем пришли к нему и деньги, и положение в обществе.
Однако же они пришли, и вместе с ними явилось неодобрение ряда Друзей из местной общины; вот почему Джастес Уоллин чувствовал потребность оправдаться – особенно на молитвенных собраниях в День первый, которые аккуратно посещал. Там всегда бывало много бедных, хворых, убого одетых Друзей, которые в большинстве своем не стесняясь вставали и просили Внутренний Свет направить их в час испытаний. И никто не проявлял к таким Друзьям отзывчивости большей, чем Уоллин. Член всех возможных комитетов, он еще и предпринимал усилия от себя лично: втайне от всех прослеживал, чтобы печали были утолены, а нуждающиеся при этом не сели общине на шею.
Впрочем, по собственному мнению Уоллина, этой деятельности было недостаточно, чтобы решить проблему с богатством – то есть с теми активами, без которых можно жить, и жить в довольстве. Уоллину не давал покоя пассаж из «Квакерской веры и практики», клеймивший «неумеренную любовь к земным благам» – она-де есть «кандалы духа». Уоллин владел контрольным пакетом акций Торгово-строительного банка, в филадельфийской страховой компании ему принадлежала треть процентов дохода, а еще был особняк в Филадельфии, на Джирард-авеню, стоимостью минимум сорок тысяч долларов, а еще дом в Дакле с участком в сорок акров, а еще вложения в ряд других предприятий… Не считается ли все вышеперечисленное «кандалами духа»?
С другой стороны, богатство позволяет Уоллину помогать ближним, разве не так? Разве его, некогда закончившего Окволд, не избрали членом комитета этого колледжа? И разве он не жертвует регулярно как на сам колледж, так и на каждую из его нужд по мере их возникновения? Да, да и еще раз да! И разве не помог Уоллин (конечно, деньгами) построить в Дакле молельный дом и при нем школу? То-то и оно.
Так Уоллин, размышляя о своем множащемся богатстве, сделал логичный (со своей точки зрения) вывод: коммерция и торговля – от самого Господа Бога, и сотворены они, дабы на земле воцарились просвещение, образование и общее благополучие, и чтобы чада Господни укреплялись в вере. И вот для оправдания – отчасти перед Друзьями, отчасти перед Богом – Уоллин начал время от времени вставать на молитвенных собраниях и высказывать эту мысль. Обычно это случалось, когда его просили о финансовой помощи и когда такая помощь уже бывала им оказана. Собратья по вере живо проследили закономерность, но Уоллина они знали как чуткого и щедрого человека, поэтому думали, что определенно Уоллин не лукавит, определенно искренне считает себя только распорядителем своего состояния, слугой Господним – такое убеждение свойственно всем непраздным людям, никто из них не мнит себя вправе единолично распоряжаться своей собственностью.
Этот Уоллинов настрой оказался очень на руку Солону – сбылась его мечта, хотя сам Солон в то время меньше всего думал что о Джастесе Уоллине, что о его нраве. И вообще теперь Уоллины редко наведывались в Даклу. Глава семьи, его жена и дочь почти безвыездно жили в Филадельфии, в особняке на Джирард-авеню, отсюда Джастесу было гораздо ближе добираться в офис, да и в молельный дом на Арч-стрит. Впервые в жизни Солон понял, какова она – тоска по возлюбленной; впрочем, ни отец, ни мать, ни сестра не подозревали о его одержимости. Солон был слишком сдержан, даже скрытен, чтобы тем или иным образом выдать свои чувства.
Тем временем и Бенишия без единой причины, понятной ей самой – Солон ведь никогда не проявлял к ней романтического интереса, – часто думала о нем. Как он пышет здоровьем, как лучится прямодушием, как учтив, мужествен, прилежен. А эти честные серо-голубые глаза – и взгляд открытый, не то, что у большинства знакомых молодых людей обоего пола, которые пекутся лишь о безупречности костюма, а интересуются лишь собственным общественным положением да перспективами. Жаль, ах как жаль, что на девушек Солон Барнс даже не глядит.
Занятно, что семья Барнс вновь привлекла к себе внимание семьи Уоллин. На сей раз речь шла о Ханне. А случилось так: Руфусу Барнсу пришлось уехать в Сегукит по делам, связанным с продажей недвижимости, и Ханна отправилась на собрание Друзей в компании одного только Солона. В тот же день Джастес Уоллин вздумал посетить молельный дом даклинской общины – он не бывал здесь уже несколько месяцев. Как особо уважаемого Друга, который немало сделал для общины, Уоллина усадили на почетное место – на возвышение, чуть правее центра, рядом с прочими старейшинами. С этой точки Уоллин просто не мог не заметить Ханну и Солона.
Уже было упомянуто, какое впечатление обыкновенно производил Солон, но его мать буквально приковывала к себе взгляд каждого мыслящего человека. Даром что одетая по-квакерски и очень сдержанная в жестах, Ханна Барнс имела вид отнюдь не постный. На ее лице лежала печать одухотворенности – причем не только в те часы, что Ханна проводила в молельном доме. Ее черты не обладали какой-то особой привлекательностью, да и фигура тоже, однако всякий, кто встречал Ханну, бывал потрясен ее манерой нести себя – словно горящий светильник. Ханна редко отвлекала свои мысли от чужих нужд и никогда не думала о личных интересах. Ее глубокие, темные, широко поставленные глаза, твердость рта, ничего общего не имевшая с суровостью – губам случалось шевелиться в беззвучной молитве, возносимой за всех, кому тяжело живется, от скотов до человеков, так или иначе страдающих, – каждому внушали симпатию к этой женщине.
Довольно долго – без малого час – в молельном доме царило молчание. До сих пор ни один из Друзей, побуждаемый Внутренним Светом, не поднялся и не заговорил. С первых минут Уоллина подмывало встать и огласить свою концепцию – о роли богача как слуги Господнего, лишь управляющего материальными благами. Перед здешними Друзьями Уоллин не держал эту речь уже около года, тем временем в собрании прибыло новых лиц. Он почти дозрел, как вдруг встала тщедушная пожилая женщина в дешевом хлопчатобумажном платье серого цвета, в капоре, и, закатив глаза, дрожащим от волнения голосом заговорила:
– К Внутреннему Свету взываю, дабы поддержал меня и наставил. Сын мой Уильям – быть может, знакомый некоторым из вас, Уильям Этеридж, работал здесь, в Дакле, несколько лет назад – вернулся ко мне искалеченным и больным. Он лишился правой руки, да еще его терзает непонятная хворь. Доктор Пейтон, один из Друзей, пользует Уильяма, да только мне сдается, не жить ему. Мой сын не всегда вел себя достойно и многим наделал неприятностей, и все же он – мое единственное дитя, а Внутренний Свет, которому я всегда следовала по мере сил и разумения, говорит мне, что матери надобно любить сына, каков бы он ни был. Я и сама хвораю, денег нет вовсе, и вспоможенья никакого тоже нет, потому прошу всех вас помолиться за меня и моего болящего сына.
Она выдохлась и почти упала на скамью. В то же время сама эта слабость, оттененная силой веры, что подвигла несчастную мать обратиться к собранию, как бы возвысила ее над остальными. Друзья, потрясенные, молча молились; Джастес Уоллин собрался было встать и сказать, что проблемой миссис Этеридж немедленно займутся старейшины, но его опередила Ханна Барнс. В глаза Уоллину бросилось ее бледное лицо, озаренное жаждой исполнить свой христианский долг – чувством, которое столь часто охватывало Ханну.
– Точно так же, как взывает сейчас к Внутреннему Свету миссис Этеридж, – начала Ханна, – так и я взывала в свое время, а потому твердо знаю: мольба миссис Этеридж будет услышана. Истинно говорю: Уильям Этеридж исцелится материнской верой, как исцелился мой сын Солон, присутствующий здесь, когда ему шел восьмой год. Он поранился топором, рана загноилась, и он едва не умер. Я страшно боялась за него и была близка к отчаянию; он же, испуганный, разрыдался. Однако, веруя в безграничную мудрость и милосердие Творца, осмыслить которые нам, людям, не дано, я обратилась к Господу всей душой, вот как сейчас обращается миссис Этеридж, и что же? Мой сын тотчас исцелился; он сам это подтвердит. Страх оставил его. Боль унялась. Он улыбнулся, а в моей душе, отныне свободной от печали и тревоги, воцарился покой. Тут-то я и поняла: Господь услышал мою мольбу и спас моего сына, да и меня тоже. И вот теперь я совершенно убеждена – и убеждение мое основано на благодарности – в том, что Господь сделает для миссис Этеридж и ее сына то же, что сделал для нас с Солоном. Ибо разве когда-нибудь покидал он в нужде тех, кто взывает к нему с искренней верой?
Ханна села на место.
Тогда поднялся Солон, побуждаемый новым приливом любви к матери и преданности ей. Выждав, пока стихнет глухой гул, повернувшись влево, вправо и назад в знак того, что обращается ко всем присутствующим, он отчеканил:
– Все сказанное моей матушкой – правда. Я был при смерти и уже чувствовал, как она близка. Моя матушка молча молилась, а потом сказала мне, что Господь вверил ей жизнь мою. И сразу боль ушла. Мне стало легко и хорошо. Через три дня моя рана – а она была очень опасная – начала затягиваться, а через неделю совсем зажила, и я снова мог ходить. Свидетельствую: воистину Господь отвечает на молитвы.
На том, вновь оглядев собрание и встретившись глазами с матерью, Солон сел.
Сколь ни наслушался Джастес Уоллин подобных речей, а этот конкретный эпизод произвел на него изрядное впечатление. Во-первых, Уоллина тронули несчастье и нужда миссис Этеридж, ее любовь к сыну при полном осознании, сколь далек он от совершенства, но еще сильнее Уоллин был потрясен сочувствием и теплотой, которые просто и вдохновенно выразила миссис Барнс. Определенно ее рассказ о чудесном исцелении сына правдив, недаром же юноша сам подтвердил это при всех.
Какая сильная женщина; есть в ее высокой худощавой фигуре что-то от подвижницы. Наверное, люди к ней тянутся. Честность сквозит во всем ее облике, ибо лгуны не держатся столь прямо и столь уверенно. Поистине миссис Барнс как бы воплощает саму идею квакерского учения. Уоллин радовался, что не вылез со своими обычными постулатами: богач-де есть только управляющий, так как это было бы неуместно перед лицом столь сильной веры в немедленный отклик Господа на искреннюю мольбу! Сама идея управления материальными благами показалась Уоллину вымученной. Разве деньги способны исцелить умирающего, зарубцевать смертельную рану? Находясь под глубоким впечатлением (как и остальные члены общины), Уоллин дождался, пока старейшины поднимутся и начнут жать друг другу руки, тем самым показывая, что собрание окончено, и поспешил к Ханне – ее имя он заранее узнал у одного из старейшин. Ханна была уже окружена Друзьями. Уоллин взял ее за руку и сказал:
– Ты Ханна Барнс, верно?
Ханна кивнула, и Уоллин продолжил:
– Меня зовут Джастес Уоллин.
Солон уже успел отойти на пару шагов, но вдруг вздрогнул – без сомнения, перед ним был отец Бенишии.
– А это, конечно, твой сын, – добавил Уоллин, оборачиваясь к Солону и пожимая ему руку.
– Да, Солон – мой единственный сын, – сказала Ханна. – Моему мужу Руфусу пришлось ненадолго уехать в Сегукит – это в штате Мэн, мы раньше там жили, вот у Руфуса и остались кое-какие дела.
– Стало быть, ты недавно посещаешь здешнее собрание Друзей, – не унимался Уоллин, будучи под сильнейшим впечатлением от Ханны да и от Солона – с какой искренностью и горячностью мальчик подтверждал рассказ матери!
– Да, мы перебрались сюда всего полтора года назад. Мой муж управляет имуществом моей сестры с тех пор, как умер ее муж, Энтони Кимбер, это случилось два года назад. А теперь извини меня. Боюсь, миссис Этеридж уйдет, а я бы хотела поговорить с ней. Мне так понятно ее горе.
– Конечно, конечно! Прости, что задерживаю! – Уоллин посторонился, давая Ханне дорогу. – Я и сам намерен выяснить, чем именно могу быть полезен этой бедной женщине. Хотя община, без сомнения, ее не оставит.
Уоллин со всей сердечностью пожал Ханне руку, и она бросилась догонять миссис Этеридж. Имя Уоллин она впервые слышала и понятия не имела, что у этого человека есть дочь – предмет любви ее сына.
Солон же остался стоять, потрясенный: не диво ли, что отец Бенишии заговорил с его матерью и с ним самим!
– История, рассказанная нынче твоей матушкой и подтвержденная тобой, глубоко взволновала меня, – обратился к нему Уоллин. – И мне хотелось бы услышать ее вновь, желательно в подробностях. Будь добр, передай матери, что мы с женой приглашаем вас всех в гости, как только вернется твой отец. Мы живем в большом сером доме в самом начале Марр-стрит – наверняка ты этот дом видел. Дела я веду главным образом в Филадельфии, и там у нас тоже имеется дом – на Джирард-авеню, но нам нравится, когда обстоятельства позволяют, наведываться в Даклу.
С этими словами Уоллин взял Солона за руку. Ответное пожатие юноши своей горячностью едва не вышло за рамки учтивости, и немудрено: Солон, у которого в висках билось: «Бенишия! Бенишия!» – захлебывался благодарностью (судьбе ли, удаче или Внутреннему Свету, он и сам не знал).
Глава 11
Одним из скорейших следствий знакомства Ханны с Джастесом Уоллином стало ее избрание в комитет даклинской общины (комитетов было два: мужской и женский, и обязанностью входивших в них было посещать болящих и нуждающихся и по мере возможности им помогать).
Уоллин весьма удивился, когда услыхал, что Руфус Барнс и покойный Энтони Кимбер – свояки. Кимбера он неплохо знал при жизни: тот был клиентом его страховой компании. А вскоре после собрания Уоллин с женой заглянули, чтобы купить кое-чего к выходным, в бакалейную лавку Эдварда Миллера, что на главной даклинской улице.
Миллер, имевший среди даклинских Друзей прекрасную репутацию, был человеком приветливым и бизнес свой старался строить на личных симпатиях. При виде четы Уоллин он просиял – пожалуй, несообразно случаю.
– Кто это ко мне пожаловал! Друг Уоллин! Как поживаешь? Что-то ты совсем позабросил свой даклинский дом!
Уоллин принялся объяснять: Бенишия, мол, теперь учится в Окволде и не всегда приезжает к родителям на выходные, вот они с женой и решили сами навестить ее – остановятся в гостинице при колледже.
– Кстати, Уоллин, – продолжал Миллер, – у тебя здесь, в Дакле, появился конкурент. Я про эту твою теорию – что предпринимательство и богатство во всех видах создал сам Господь для общего блага. А звать этого конкурента Руфус Барнс. Он не местный – недавно приехал, раньше жил в Сегуките, штат Мэн.
Уоллин вроде заинтересовался, и Миллер с воодушевлением продолжил:
– Так вот этот Руфус Барнс управляет теперь имением Энтони Кимбера. И нет чтобы изымать имущество за долги – Друг Барнс учит должников, как надо хозяйничать на земле, чтоб земля, значит, доход приносила и было чем платить по закладным; еще и сына к этому делу привлек. Мало того, он покупателей ищет на продукцию, которую эти должники по его же советам выращивают. А сам поселился в Торнбро, милях в трех к востоку отсюда, и, доложу я тебе, изрядно преобразил старую усадьбу. Ее теперь и не узнать – просто загляденье, одна из лучших в наших краях. У Барнса двое детей – сын по имени Солон и дочь. Приятнейший человек, по-моему.
– А дочь как зовут? – спросила миссис Уоллин.
– Кажется, Синтия, – отвечал Миллер. – Они с братом два последних года учились в школе при нашей общине. На днях Мэри моя сказала, будто девочка собирается в Окволд – чтоб, значит, не отстать от своих кузиночек, дочек миссис Кимбер. Что до Солона, я слыхал, он хочет работать с отцом. Толковый парень, и прилежный вдобавок. Он ко мне иногда заходит.
– Весьма занятно, – перебил Уоллин. – Я рад узнать, что появился человек одних со мной взглядов. Хорошо бы число таких людей умножилось: я говорю прежде всего о Друзьях, – было бы замечательно, если бы все они приняли мою идею как руководство к действию. Я убежден, что мы, состоятельные люди, не более чем управляющие при Господе нашем.
– Ты совершенно прав, Друг Уоллин, – поддакнул Миллер, думая про себя, что Господнему управляющему (должность, на которую Уоллин сам себя назначил) не пристало накопительство в таких масштабах.
Через несколько дней любопытствующий Уоллин велел кучеру сделать крюк – он прикинул, что сможет, сам не будучи замеченным, оценить изменения, которые произошли с Торнбро. Усадьбу он помнил с детства; теперь, едва она открылась его взору, Уоллин понял: Торнбро возвращает себе былую прелесть. Этот Руфус Барнс, вроде простой фермер из какой-то глуши, оказался человеком тонкого вкуса: вон что сотворил с ветхим домом и запущенной землей!
Уоллин продолжил свой путь в Трентон, пребывая в приподнятом, как у первопроходца, настроении; у него родилась идея нанести визит Барнсам. В конце концов, он ведь уже познакомился с Ханной и Солоном. И с тех пор эти двое нет-нет да и вспоминались ему. Стоп! – оборвал себя Уоллин; уж не рассматривает ли он этого юношу как кандидата в зятья? Что за нелепость! Солон и Бенишия еще почти дети. И все-таки он пригласит Барнсов к себе в дом, причем очень скоро, а пока взглянет, как обстоят дела у миссис Этеридж и ее сына.
Оказалось, Лия Этеридж, швея, живет с сыном в ветхом домишке – едва ли не последнем номере на главной даклинской улице, почти у самого железнодорожного вокзала. Стены в доме фанерные, крыша из дранки, почерневшей от времени и непогоды, изо всех щелей дует. Жалкая миссис Этеридж провела Уоллина в дом и представила сыну – парню двадцати трех лет, словно потасканному неправедным образом жизни. Уильям Этеридж сидел в постели, обложенный подушками; кровать занимала угол одной из двух комнат (вторая служила швейной мастерской).
Уоллина потряс не столько сам тот факт, что Уильяму полегчало – это было видно, – нет, куда сильнее на него подействовало другое обстоятельство, а именно: перелом в болезни наступил сразу после молитвы Ханны – ну или ее рассказа на собрании. Уоллин потребовал уточнений, и Уильям подтвердил: да, его отпустило, «когда матушка была в молельном доме».
– А когда вас навестил посланный мною врач? – не отставал Уоллин (он просил своего семейного доктора заняться Этериджем).
– В День третий на той же неделе, – ответила миссис Этеридж. – Доктор оставил пилюли, и Уильям их принимает.
Значит, Уильяму стало лучше в День первый, а врач оставил ему лекарство лишь в День третий, прикинул Уоллин, но ничего не сказал: перед ним так и стояло вдохновенное лицо Ханны. Затем он подумал о Лии – как она любит недостойного своего сына! Ох уж эти матери!.. Впрочем, не ему судить.
– Я рад, что твой сын пошел на поправку. Скажу доктору, чтобы и дальше его пользовал, – с чувством пообещал Уоллин и тут же задался вопросом: зачем еще врач, когда у молодого Этериджа такие заступницы, как миссис Этеридж и Ханна Барнс? Разве не ясно, что Господь пощадил жизнь Уильяма в ответ на горячие, исполненные веры мольбы этих женщин?
Удрученный условиями жизни Этериджей, Уоллин кивнул Лии – дескать, проводи меня – и уже в дверях вынул из кошелька несколько банкнот. Лия вскинула руку в знак протеста, зашептала:
– Нет-нет, не возьму ни за что! Не могу взять, и точка!
– И все-таки позволь помочь тебе, Лия Этеридж, – торжественным тоном произнес Уоллин. – Ибо я побуждаем самой нашей верою и Господом нашим. Неужели ты пойдешь против его воли?
Лия изменилась в лице – Уоллин это заметил. Ее взгляд устремился прямо на него. Вот перед ней – Друг, такой же, как она сама. Лия слабо улыбнулась, и Уоллин вложил деньги ей в ладонь.
– Что наша вера, – продолжал он, – без истинной помощи в беде? Звук пустой! – Уоллин развернулся. Между порогом и землей была одна-единственная ступенька. – А касаемо врача… Если, по-твоему, его услуги больше не нужны, скажи, пусть не приходит. Мне открылось наконец-то благодаря миссис Барнс, что лишь в одном Господе Боге наши спасение и сила.
Сам растроганный своим поступком, как бы окрыленный, Уоллин пошел к экипажу. Он ехал прочь, а голову его переполняли мысли. Недостаточно, ох, недостаточно делает он для ближних! А думает о чем? Обо всяких пустяках. Нет, он должен укрепиться в вере. Вот Ханна Барнс – она поистине лучится Внутренним Светом. С Барнсами нужно сблизиться. В таком настроении спешил домой Уоллин. Ему не терпелось рассказать жене обо всем, что он пережил и перечувствовал за день.
Глава 12
Даклинский особняк Уоллинов был внушителен с виду и по-настоящему добротен. Первый этаж из серого плитняка – материала весьма популярного в Пенсильвании и Нью-Джерси в прежние времена. На второй этаж пошли дуб и сосна; украшали его фронтоны, а вдоль всей западной стены тянулась веранда с прекрасным видом – холмистая равнина словно разворачивалась, как рулон бумаги. Дом и прилегающий участок в добрых два акра окружала невысокая стена, опять же из плитняка. Земля здесь практически полностью была отведена под клумбы – они располагались строго геометрически, цветы на них высаживали по нескольку раз в сезон; дорожки бежали ровно, там и сям стояли каменные скамьи. Однако уоллиновским владениям не хватало очарования естественности – того самого, что царило в Торнбро. Всякий или почти всякий с первого взгляда понял бы, что этот дом в Дакле со всем декором тянет на сумму куда большую, нежели та, которую затратили на постройку первые владельцы Торнбро. И однако уоллиновский особняк ни в какое сравнение не шел с этим дивным уголком, где речка Левер-Крик, усыпанная маргаритками лужайка, старомодная беседка и высокая кованая ограда в сочетании с белеными стенами создавали особый дух. И не то чтобы Руфус имел намного больше вкуса, чем Уоллин: в этом смысле эти двое друг друга стоили. Просто особняк в усадьбе Торнбро проектировал архитектор с развитым, не в пример Барнсу и Уоллину, чувством прекрасного. Искренне любивший красоту и поклонявшийся ей, этот человек преуспел в своем деле; Руфус, к счастью, уловил посыл и не извратил его в процессе реставрации – результат же глубоко подействовал на Уоллина.
Вернувшись домой, Уоллин поведал жене, что нынче им были пережиты два откровения – религиозного и эстетического характера. Он описал не только обновленную усадьбу Торнбро, но и свой визит к миссис Этеридж, добавив, что теперь совершенно убежден: вера и молитва Ханны Барнс и самой Лии Этеридж дивным образом исцелили Уильяма. Рассказ произвел сильное впечатление на религиозную миссис Уоллин – она согласилась, что нужно поближе сойтись с Барнсами. В результате через несколько дней Уоллин нанес Барнсам официальный визит. В Торнбро его встретили со всей сердечностью – Руфусу очень польстило внимание такого человека к себе и своей семье.
Так началась дружба между двумя семьями – дружба, которой суждено было перерасти в родство. Вскоре Барнсы получили письменное приглашение на обед, назначенный на День первый, когда домой из колледжа приехали и Синтия, и Бенишия.
У всех Барнсов, кроме Ханны, дух занялся от восхищения, едва они вступили в уоллиновский особняк. Столы и стулья из резного красного дерева, ковры и звериные шкуры на паркете, огромные расписные вазы с цветами и декоративными травами потрясли Руфуса, Солона и Синтию. Не успели гости и хозяева расположиться в гостиной, как явился лакей и на подносе чистого серебра принес высокие бокалы с фруктовым соком. Барнсы не знали об обычае начинать прием с напитков и растерялись.
Корнелия Уоллин сразу прониклась к Ханне Барнс, а глава семьи чем дольше беседовал с Руфусом, тем приятнее находил безыскусность этого человека. Солон произвел на него прекрасное впечатление: рассудительный немногословный юноша определенно отличался вдумчивостью – если ему задавали вопрос, предполагавший твердое мнение или точные данные, Солон щурился и морщил лоб, и манера эта пришлась Уоллину по душе. Если у Солона не получалось ответить сразу, он обезоруживающе улыбался и говорил:
– Сэр, мои знания по этому предмету оставляют желать лучшего.
Иногда он добавлял:
– Могу только сказать, что такое, по моему мнению, вероятно.
Или:
– Я бы хотел подумать об этом, прежде чем отвечать.
Осторожность Солона в суждениях одобрял не только Джастес, его родители тоже были довольны.